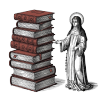
Пер. с лат. Catharina Senensis, tertii Ordinis Dominici (S.), Vita auctore Fr.
Raimundo Capuano, Ordinis Prædicatorum Magistro generali, ipsius
Sanctæ Confessario. Ex editione Coloniensi collata cum MS. // AASS. Apr.
T. III. P. 852-961. В ряде мест личные местоимения без дополнительных
оговорок заменены на соответствующие имена или регулярно употребляемые автором
выражения. Имя святой Екатерины, имена святых, священников и монашествующих
переданы на русский манер.
Корр. О. Самойлова
[1] Се глас духовный Орла, кто, воспарив до самой выси небесной и открыв Церкви воинствующей тайны замысла Божия, в главе XX своей книги Откровений, сиречь Апокалипсисе, глаголет: «…Увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей» (Отк. 20:1). И хотя эти слова так или иначе уже были истолкованы Святыми Учителями, уместным кажется (если я не слишком ошибаюсь), привести их в связи с предстоящим мне рассказом, ведь мы намерены поведать историю ангельской девы, чьё житие было скорее небесным, нежели человеческим, и которая, как известно, многим глубину бездонной премудрости (ср. Рим. 11:33) раскрыла, неведающим путь спасения [показала], всем, кто готов приять, цепь, коей связывается сатана, в словах, а также примерах явила, а точнее сказать – вручила.
[2] Ведь даже если под Ангелом, сходящим с неба, подразумевается тот «великого совета Ангел» (Ис. 9:6. – пер. П. Юнгерова), Господь Иисус Христос, Который, по свидетельству Апостола, сходит с небес, равно как и восходит (ср. Еф. 4: 10 и Ин. 3:13), это осмысление нисколько не уклоняется от предложенного нами, ибо изначально было ясно, что деяния эти, вне всяких сомнений, исходят от Того, Чья радость – с сынами и дочерьми человеческими (ср. Прит. 8:31), избранными от века. Во всяком случае, Он – по свидетельству вышеназванного Орла – Тот самый, Кто имеет ключ Давидов, коим, если отворяет, никто не затворит, а если затворяет, никто не в силах отворить (ср. Отк. 3:7). Он, опять же, сам заверяет, что имеет ключ ада и смерти (ср. Отк. 1:18), поэтому неудивительно, что он нисходит, неся цепь, чтобы связать сатану. Однако этот же Господь ангелов, а тут названный просто Ангелом, до того возлюбил род человеческий (ср. Ин. 3:16) любовью вечною (ср. Иер. 31:3), что с неизреченной милостью приял человеческую природу в единении со Своей ипостасью (suppositi). Потому-то, как сказано, он и не нуждается ни в какой радости, что так радуется с сынами человеческими, ибо то, что от века постановил сотворить, приводит к осуществлению не иначе как человеческим посредством. По сей, следовательно, причине Он от начала веков всегда обнаруживал сокровеннейшие Свои тайны через святых и избранных Им людей. По сей причине достодивные и сверхъестественные дела свершал Он всегда через служение угодников Своих. По сей причине, дабы передать Закон жизни из небесных областей земным обитателям, Он избрал в посредники не кого иного, как человека, которого и поставил вождем избранного народа. По сей же, наконец, причине Он, словно бы пленённый пылкой влюблённостью, присущей человеческой природе, принял её в полноте от девственного человеческого существа, преисполненного благодати, и, облечённый в сию природу, как бы в наряд любви, посредством неё и в ней незримо соединился с людьми, а совершив это предивное и преблагодатное деяние, Он такой любовью объял род человеческий, что, не довольствуясь этим братским отношением, столь дивно явленным людям, предал Себя во искупление ради спасения людей, преподнёс собственное Тело и Кровь в пищу душам человеческим до скончания мира и людям верным Самого Себя обещал в награду.
[3] На основании всего этого каждый из верных может рассудить, на сколь высокую ступень достоинства взошёл род человеческий, на какую превознесённую вершину помещён всякий христолюбец. Ведь достоинство человеческое превзошло дарами вершины ангельские, и после немногого умаления (если можно так сказать) Богом перед ангелами (ср. Пс. 8:6), возвышен был человек над ангельскими чинами. «Не много – говорит Пророк – Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил под ноги его» (Пс. 8:6-7). Истолковывая это, Апостол в «Послании к Евреям» говорит о Христе: «…Тем, что Он подчинил ему всё, Он ничего не оставил неподчинённым ему» (Евр. 2:8. – пер. еп. Кассиана).
Итак, из вышесказанного разумный мыслитель может сделать вывод, как спокойно верная и любящая своего Спасителя душа может приближаться к Нему, с каким доверием – идти по Его стопам, на сколь многочисленные и сладостные дары она вправе надеяться от Того, Кто всего Себя издержал за неё, от Кого зависит всякое могущество (ср. 1 Пар. 29:11). О лень ослеплённая, о чёрствость современности до крайности закоренелая! О хладность нынешних душ, что студёнее паче снега и лед! С каким рвением души, сочетавшиеся верой со Христом, поспешали доселе за Агнцем! С какой поспешностью следовали они за Ним, куда бы Он ни пошёл, даже на крест! Сколько же их было в оные счастливейшие времена – не только обоих полов, но и любого возраста да сословия, – кто, словно сор (ср. Флп. 3:8), презрев мир и то, что в мире (1 Ин. 2:15), с веселейшим сердцем подвергая свою плоть всяческим мучительным испытаниям, скорее мчался, чем бежал по шипам скорбей и терниям телесных мук за вечным Женихом, чтобы переправиться со спокойным сердцем через пучину смерти к беспредельной жизни! Сколько, повторяю, было тех, кто, поправ всё преходящее, укрощая своё тело долгим мученичеством и на небесные радости взирая мысленными очами, созидал при этом Святую Церковь равно учением и примером, а после долгих подвигов завершал целомудренную жизнь, преставляясь блаженно на небеса! И откуда это всё? (ср. Вульг. Мк. 6:2) Не оттуда ли, что они уловили в свои сердца того многократно помянутого Ангела Великого Совета, спустившегося с небес, и ключом его Давидовым заперли земную бездну помышлений своих, а небеса открыли, и таким образом, прияв от Него величественную цепь добродетелей, победили и связали сатану, противостоявшего им.
[4] В те времена это было почти что обычным и довольно частым явлением. Но и в нынешние бедственные времена, когда, по пророчеству Апостола, люди стали самолюбивы (2 Тим. 3: 2), тот же Ангел не прекращает подавать нам свой великий совет и оказывать помощь, а именно: возвышать там и тут на земле некие души верных, пускай и немногие, кои так щедро и так обильно наделяет множеством огромных даров Своих, что в сердцах знающих их это вызывает восхищение, а у незнающих – недоверие. А ещё более удивительно и по моему суждению замечательно то, что это изобилие благодатных даров в наши дни, по-видимому, особенно действенно проявляется в слабом поле, то есть женском. Возможно, это для того, чтобы посрамить гордыню мужчин, особенно тех, которые, надувшись от самомнения, не стесняются называть себя знающими (хотя ничего не знают) и мудрыми (хотя ничуть не понимают сладости Божией). Ныне они так, по слову Апостола, поглупели (ср. Вульг. Рим. 1:22), что – о позор! – всуе намереваются знать без знания, понимать без мудрости. Видимо, именно таковых, если не ошибаюсь, Вечная Премудрость постановила посрамить смиренными поучениями и дивными делами святых дев, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Ним (ср. 1 Кор. 1:29), а немудрый человек научился, где пребывает мудрость, где добродетель, где свет очей и мир.
[5] Вот почему сия воплощённая Премудрость возвысила некую достодивную и святую деву в Тосканском краю – в Сиене, «Граде Девы», издревле величаемом этим именованием. И когда я внимательно рассматриваю её деяния и учение, восторженно созерцаю события её жизни и преблаженное преставление, [то чувствую, что] подобает, скорее изумляться и плакать, нежели что-либо говорить. Ибо как не изнемочь сердцу (ср. Пс. 72:26) пред столь многими и такими дивными дарами Всевышнего, когда оно взирает на сию хрупкую, летами юную, простого происхождения девицу, которая без человеческого научения и руководства взошла на вершину такого совершенства добродетелей, достигла такой ясности и совершенства учения – и всё это в стенах родного дома! Кто тут не изумится?! Кто не удивится, кто сможет сдержать слёзы радости и хваления?!
Однако Милость Божия, которая никому не желает погибнуть (ср. 2 П. 3:9), одарила меня всенедостойного без каких-либо предварительных заслуг с моей стороны (скорее уж, хорошо если не вопреки провинностям) не просто знакомством и доверительным общением с упомянутой святой девицей в течение долгих лет, почти до конца её жизни, но даже избрала меня ей в духовники, дав возможность приобщения и познания всяческих тайн, Господом ей дарованных и открытых; а потому, дабы (не дай Боже!) не скрыть этот вверенный мне по щедрости Всевышнего драгоценный талант завернутым в платок по образу негодного раба (Мф. 25, Лк. 19), я намереваюсь отдать его в оборот (ср. Лк. 19:23) ради стяжания богатой выгоды для душ человеческих, дабы с помощью богоугодного ростовщичества в своё время получить такую же пред лицом Господа Спасителя.
[6] Далее, поскольку приведённые выше слова Иоанна подходят (если я не слишком ошибаюсь) к теме моего сочинения, то приведу их снова, громогласно возвещая векам как нынешним, так и грядущим: «Увидел я, Раймонд, – пользуюсь этим именем, хотя по такому случаю сама дева именует меня Иоанном; думаю, по причине тайн, которые она мне открыла, – увидел я, – повторяю, – Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и … цепь в руке своей» (Отк. 20:1). Увидел я и засвидетельствовал. И хотя Господь сотворил много великого прежде, чем я познакомился с нею, однако я всё слышал либо от неё самой в таинстве исповеди, либо от других особ обоих полов, более чем заслуживающих всяческого доверия, бывших очевидцами и свидетелями (ср. Лк. 1:2). Итак, увидел я и услышал, так что позвольте мне и другим свидетелям вместе с евангелистом Иоанном воскликнуть: «Что мы видели, что слышали о Слове жизни, обитавшем в сей чудесной деве – то, и ничего помимо того, возвещаем вам» (ср. 1 Ин. 1:1,3). Ибо мы не можем не говорить (скажем вместе с Петром и Иоанном) того, что видели и слышали (Деян. 4:20), и не возвещать этого перед всеми. Так что посмотрим внимательно, о верные христолюбцы, на то слово, что явилось (которое, как было выше сказано, я видел), что явил Господь и показал нам (ср. Вульг. Лк. 2:15), грешным, из коих я первый.
Но что же, ради всего святого, я увидел? Конечно же, Ангела, сходящего с неба. Ведь сию женщину, о которой идёт речь, подобает называть, скорее, не женщиной, а земным ангелом или (если угодно) небесным человеком. Ведь разве не ангельское это и небесное [свойство]: от всех недозволенных и дозволенных удовольствий полностью отречься, на небесах всегда мысленно обитать, слова вечной жизни (Ин. 6:69) непрестанно произносить устами; без пищи, питья и сна, страдая от разных тяжких телесных болезней, не только жить, но и радоваться – и постоянно заниматься без утомления тем, что Божие и [ведёт] к спасению душ? Кто назовет это земным или человеческим? Молчу уж о знамениях разного рода и чудесах, в нашем присутствии совершённых через неё Господом, о которых пока не время говорить подробно, но, даст Бог, о значительной их части поговорим ниже.
Итак, чему удивляться, когда мы величаем Ангелом ту, что, подражая Ангельскому естеству в чистоте плоти и духа, служение Ангельское по повелению Царя Ангелов непрестанно свершала.
[7] Также правильно говорится о ней как о «сходящей с небес», потому что жительство своё святое имея на небесах, она по низкому о себе мнению и к ближним состраданию часто сходила на землю. Но поскольку о Женихе написано, что Нисшедший, Он же есть и восшедший (Еф. 4:10), то и истинная невеста изо всех сил старается следовать по стопам Жениха. Нисходила же и восходила названная дивная дева вместе с Ангелами по лестнице Иакова (ср. Быт. 28:12), дабы, узрев лик Господень на высшей ступени лестницы, обрести при восхождении обильное благословение, а при нисхождении поделиться благословением тем с обитателями земли сей. И всё это она совершила на лестнице Иакова, ибо, как ниже с помощью Господней будет показано, о чём бы она ни просила Господа и что бы ни делала, всё свершалось по посредничеству славной Богородицы Марии, да и вознесена она была Ею по человеколюбию Спасителя, а наилучшим символом обоих [этих действ] служит лестница Иакова.
Притом изречение о нисходящем Ангеле, который имеет ключ от бездны, не лишено, как мы сказали, и таинственного смысла, поскольку дева эта ангельская, исследуя (насколько то позволительно странствующей [по земной юдоли] душе) превосходящие всяческое человеческое суждение глубины божественной премудрости, нам её открывает и показывает. Ибо кто, читая её послания, которые она писала верным христианам и особам всякого сословия и положения чуть ли не по всему миру, не восхитится, дивясь их высокому слогу, глубине мысли и безмерно великой пользе для спасения душ? Ведь хотя в них она говорит на своём народном языке (так как не была обучена грамоте), но поскольку она «вошла в силы Господни» (ср. Вульг. Пс 70:16) с ключом от глубины глубин, слог её (если кто обратит пристальное внимание) более похож на Павлов, чем Екатеринин, он скорее апостольский, нежели девичий. Притом диктовала она свои послания так быстро, не прерываясь даже на краткий миг поразмыслить, словно бы читала нечто в какой-то книге, положенной перед нею. Я сам часто видел, как она диктовала двум писцам два разных письма, предназначенных разным людям и о разных предметах; и ни один [из писцов] не ждал при диктовке ни кратчайшего мгновения, и не слышал от неё ничего, кроме того, что предназначалось ему. Когда я выразил своё чрезвычайное удивление этим, многие из тех, кто был с нею знаком прежде меня, возразили, что многократно видали, как она диктовала порой трём, порой четырём писцам одновременно с такой же, как было уже сказано, скоростью и не меньшей памятливостью – что для женщины, чьё тело было так истомлено бдениями и постом, кажется мне признаком, скорее, чуда и пренебесного вдохновения, чем какой-либо природной способности.
[8] Более того, если бы кто-нибудь просмотрел на книгу, которую она явно под диктовку Святого Духа составила на своём наречии, смог ли бы он вообразить и поверить, что это произведение женщины? Притом слог у неё высочайший, такой, что трудно найти латинское сочинение, соответствующее по высоте её слогу, в чём наряду с прочими свидетелями и я сам убедился, так как пытался перевести эту книгу на латынь. Размышления настолько возвышенны и так глубоки, что если бы вы услышали их в латинском переложении, то сказали бы, что они, скорее, принадлежат Аврелию Августину, чем кому-либо другому. А насколько они полезны для души, взыскующей спасения, того кратко и просто словами не выразить. Ведь в сей книге описываются как все ловкие ухищрения древнего врага, так и все способы и предписания для победы над ним и угождения Всевышнему; как благодеяния Спасителя, оказанные Им разумным созданиям, так и грехи против Него, кои – о горе! – в наш беспорядочный век всё ещё повсеместно совершаются, но и средства от них, если кто внимательно присмотрится, найдёт в ней. К тому же содержание книги (как сказали мне её писцы), Екатерина никогда не диктовала в сознательном состоянии, но лишь во то время, когда, находясь в экстазе, беседовала с Женихом своим. Поэтому-то и книга эта выстроена по образу диалога Творца с созданной им душой – разумной и странствующей.
[9] Поэтому же, хотя писания её достойны всяческой похвалы, не могу довольствоваться и похвалой их, ибо слишком скромны они по сравнению с её живой речью, когда она говорила о делах человеческих. Ибо Господь наделил её искуснейшим языком, чтобы она умела произнести речь когда бы то ни было, а слова её пылали, как факелы, и не было никого из слышавших их, кто мог бы полностью укрыться от жара этих огненных слов. Потому и есть ныне общее мнение у тех, кто знал её, среди последовавших по стопам её и не последовавших, что никогда не бывало, чтобы кто-нибудь, пришедши послушать её с каким-либо дурным намерением, то есть, чтобы посмеяться над ней, не возвратился от неё не сокрушаясь – слегка или совершенно, и не переменившись – полностью или частично. Как не усмотреть по этим знакам огня Духа Святого, пылавшего в ней? Какое ещё требуется подтверждение того, что в ней глаголал Христос? Ибо, согласно речению Истины, любое дерево познается по плоду (ср. Лк. 6:44), а добрый человек из доброго сокровища выносит добрые слова и т.д. (ср. Мф 12:35), как возвещает та же Истина воплощённая. Видели бы вы, как часто те, что приходили смеяться и насмехаться над Екатериной, отступали со слезами; те, что приходили с надменным сердцем и задрав нос, уходили склонив голову и вздыхая; а те, которые были мудры в своих глазах (ср. Ис. 5:21) и наделены человеческой премудростью, после того, как слышали её, персты полагали на уста свои (Иов 29:9), изумляясь, и перешёптывались: «Как она знает Писания, не учившись? (ср. Ин. 7:15) Кто научил её столь возвышенным предметам?» Всё это для любого здравомыслящего человеку служило достаточным свидетельством того, что она «имела ключ от бездны», сиречь глубины сверхъестественной премудрости, и, просвещая помрачённые сердца, открывала слепым сокровища света вечного.
[10] Наконец, к словам Иоанна, принятым за основу этого предисловия, прибавим «имел… и большую цепь в руке своей» (Отк. 20:1). Поясним же, как это связано с нашим рассказом звучанием слов. Стоит ли удивляться, что Екатерина имела цепь? Разве два этих слова не созвучны? Ведь если произнести «Catherina» (Екатерина) с синкопой, будет «Catena» (цепь), а если в «Catena» вставить единственный слог, получится имя «Catherina». Но – ради всего святого – разве ограничимся мы звуками и знаками, пренебрегая суть и тайну, этими звуками означаемую? Не только эти звуки, но и сама суть указывает нам на связь. Ведь греческое «Catha» по-латински указывает на всеобщее, потому и Католическая Церковь согласно смыслу греческого слова переводится соответственно на латынь как Всеобщая.
Итак, «Catherina», как и «Catena», стремятся подвести нас к понятию всеобщности (universitas), каковую цепь и являет в силу своего устройства. Ведь она состоит из различных звеньев, изготовленных из какого-либо материала, настолько, однако, при этом крепко сцепленных между собой, что, не разбивая, их невозможно отделить друг от друга. Совокупность (universitas) таких различных звеньев и такового их (описанного нами) единства как раз и зовётся в общепринятом словоупотреблении «цепью», подобие которой Философ усматривает в природных явлениях. А это единство различных частей, или различие соединённых, указывает на два вида дарованных нам благ, а именно на верных людей, составляющих Церковь, и святые добродетели, составляющих спасение душ. В каждой из этих совокупностей (universitatum), угодных Богу, непременно обнаружится и всеобщность (universitatem), и различие – и невозможно говорить ни о какой всеобщности в подлинном значении, если она не заключает в себе и обеих [частей].
[11] Вот почему это слово изначально включает в себя различие и всеобщность, что в целом означается словом «цепь», в котором, пожалуй, немалая скрывается тайна. В самом деле, общеизвестно, что добродетели связаны, потому что обладать просто одной без другой отнюдь невозможно; и тем не менее у каждой из них есть свои особенности, которых не может быть ни у одной другой. Точно так же и верные, объединенные одной верой и одной любовью, находятся в таком положении, что если кто отступится от неё (веры и любви. – прим. пер.), то перестанет быть верным, но и совершенно необходимо, чтобы каждый особо обладал особыми дарами благодати того Духа, который разделяет каждому особо, как Ему угодно (ср. 1 Кор. 12:11), точно так же, как и личности разделены согласно собственной природе каждой из них. Итак, не ясно ли теперь, что согласно с вышесказанным каждая из этих совокупностей является цепью? Различие единого и единство различного явственно указывают вот на что: если любая из этих [совокупностей] есть цепь, то из этого согласно с вышесказанным следует, что обе они содержатся в следующем имени: Екатерина. И право же неудивительно, что эта Екатерина обрела от Господа всецелую полноту (universitatem) добродетелей, а всеобщую совокупность (universitatem) верных носила в своем сердце с такой любовью, что знающий не усмотрит ничего нового, если будет сказано, что она имеет цепь в руке своей, ведь она обладала вышеназванными совокупностями не понемногу и не умеренно, но в совершенстве и в превосходной мере. Слишком сжато, мне кажется, я изложил то, что намерен сообщить; а потому хочу и обязан объяснить пространнее.
[12] Видывал и я часто, хоть и будучи сам полон пороков, особ добродетельных, но никак не припомню, чтобы видал (и не думаю, что увижу в будущем) столь превосходную полноту добродетелей, что явственно обнаружилась в сей деве. И, если начинать с основания и приправы добродетелей, то есть смирения, то Екатерина обладала ею в такой мере, что не только всегда стремилась смиряться перед любым из нижайших, не просто хотела, чтобы её считали меньшей всех, но более того – была твёрдо уверена, что является причиной всех бед, которые претерпевали другие. Поэтому всякий раз, когда она замечала какое-либо общественное или частное бедствие, вызванное чьей-то провинностью или ради наказания кого-либо, она, обвиняя саму себя, говорила: «Ты причина всех этих бед; всё это происходит от твоих беззаконий, поэтому присмотрись к себе и оплакивай свои грехи у ног Господа, пока не удостоишься услышать вместе с Магдалиной: «Прощены тебе грехи и т.д.» (ср. Мф. 9:5, Мк. 2:5)».
Читатель, обрати внимание не только на само смирение, но и на глубочайший корень его. Ей мало было подчиняться другим, быть всякому послушной, всегда с терпением сносить обиды, ведь после всего этого она не только в соответствии с Господним наставлением [считала] себя ничего не стоящей рабой (ср. Лк. 17:10), но притом обвиняла себя перед Господом в том, что согрешила паче других и против других – даже (что важнее всего) гонителей своих. Таким образом, она считала себя не только ниже всех, не просто последней из всех, но паче того – неискупимой должницей всех. Поэтому, исключив всякое обоснованное или необоснованное осуждение ближнего своего и прочь откинув всякое собственное мнение, она со столь превосходным презрением к себе простиралась под стопы всех. Видишь, читатель, насколько полно здесь искоренена гордыня, с какой глубокой мудростью побеждено себялюбие, со сколь великой решительностью соблюдена [заповедь] любви к ближнему, которая является исполнением Закона. Не заметно ли, как в одном этом действии любовь и смирение искуснейшим образом сцеплены, как звенья цепи? Разве не кажется, что этой цепи достаточно, дабы пленить и связать преисполненного гордыни сатану, о чём говорит приводимое свидетельство Иоанново?
[13] Кое-что из ныне сказанного наверняка вызовет у читателя сомнения, от каковых я намерен очистить ум твой, дабы не принял ты недоговоренность за своего рода обман. Ибо же возможно, ты не поверишь в то, что, как было сказано выше, она стремилась подчиняться нижайшим и считаться последней из всех, и пренебрежёшь сим, поскольку этому не было дано более пространного объяснения. Но я хочу, чтобы ты знал, что мы совершенно превысим [допустимый] объём предисловия, если попытаемся подробно объяснить всё, что в нем содержится; достаточно и того, что всё будет пространнее изложено по ходу [самого] повествования. Узнай же пока, что эта дева добровольно оказывала покорность и постоянное послушание всем и каждому в доме своём, включая служанок, а также беднякам и больным, лежавшим в приюте, а без подчинения она отнюдь не пыталась жить, о чём пространнее будет поведано ниже – в повествовании. О том, что она считала себя ниже всех, я считаю, только что уже было достаточно сказано, но чтобы удалить из ума твоего все лишние недоумения, хочу, чтобы ты знал о том, что я сам однажды спросил у неё, как может она, не поступаясь истиной, считать и признавать себя причиной всех творящихся бед. А она, ещё сильнее подтверждая своё заключение, сказала: «Именно так!». И добавила: «Если бы я целиком была охвачена огнём любви Божией и с горящим сердцем молила Творца моего, то разве Он, Всемилостивый, не проявил бы милость ко ним всем и не допустил бы, чтобы все зажглись от огня, что во мне пылал бы тогда? И что такое стоит на пути столь великого блага? Явно ничего, кроме моих грехов. Поскольку недостаток не может происходить от Творца, в котором никакого недостатка не случается, то следует, что это может быть только из-за меня и от меня. Ну а помимо того, когда я представляю, сколько всяких даров благодати уделил мне Бог по великому Своему милосердию, чтобы я стала такой, как я говорила (т.е. «пылающей огнём Божией любви» молитвенницей. – прим. пер.), а по причине беззаконий моих я таковой не являюсь (что мне достаточно ясно показано через те беды, какие я вижу), то и гневаюсь я на себя самоё, и оплакиваю грехи мои – поскольку не отчаиваюсь из-за этого, а постоянно всё больше надеюсь, что Бог пощадит меня и их».
[14] Она промолвила это мне с величайшим пылом, а я, удивившись новому образу смирения и любви, достигшей притом совершенства, когда она даже общеизвестные грехи ближних явно приписывала себе, счёл за лучшее (хотя мне и пришли на ум некоторые возражения) промолчать, нежели дальше препираться пред лицом таковой наставницы добродетелей. Я уже указывал, а ныне, привлекая больше подробностей, ещё указываю, как в одном действии чудесно и превосходно соединились наподобие цепи смирение, вера, надежда и царица всех добродетелей; ибо смирение побудило её чудесным образом вменить себе [вину за] беды ближних, не осуждая их; вера показала ей, как благ и милосерд Господь и как сожалеет о бедствии (ср. Ил. 2:13) грешников, а также как плодотворен огонь, обретающийся в сердца слуг Божиих; надежда укрепляла её так, что, несмотря на столь многие и тяжкие грехи, она с дерзновением обращалась с мольбой к милости [Божией], как за себя, так и за других. И это в ней произвела та, что «никогда не перестаёт», – любовь (ср. 1 Кор. 13:8). Всё это сопровождалось сокрушением во грехах вместе с искупительными слезами сердечными и телесными, а также исключительной ревностью о душах и любую похвалу превосходящим попечением о спасении всех на свете.
Что тебе видится в приведённых примерах, о добрый читатель? Не усмотрел ли ты в первом же представленном тебе деянии святой девицы весьма великую цепь добродетелей? Разве ныне ты не узрел ясно (ср. Мк. 8:25), что по праву имя ей Catena, то есть Екатерина, и что, принимая во внимание предмет нашего рассказа, уместно сказать, что она имела большую цепь в руке своей? Поэтому мы верно сказали, что она имела двойную цепь, то есть цепь добродетелей и верных душ, из которых состоит Церковь, ибо то и другое она хранила в сердце своём уме с великим совершенством. Может быть, тебе кажется, что тут представлен образ только одной [цепи], однако же, если присмотришься внимательнее, затронуты были обе.
[15] Но для более ясного представления того, о чем идет речь, следует знать, что она носила в душе такой пыл любви к каждому из верующих, а уж тем более – ко всецелой их совокупности, что во всех её помышлениях, речах, поступках – во всём, что она осуществила или намеревалась, ничто другое не звучало и не подразумевалось, как только сострадание и любовь к ближнему. Кто, ради всего святого, смог бы подробно перечислить, сколько милостыни она подавала нищим, описать, какой уход она уделяла больным, как утешала и успокаивала умирающих словом, исполненным благоговения и дерзновения? Кто, опять же, смог бы счесть, сколько раз она оказывала утешения скорбящим, обращала грешников, укрепляла праведных, помогала злым подняться, а всем, кто вместе и порознь приходил к ней, привлечённый её любезностью, всячески содействовала спасению? Кому, добавим, по силам исследить потоки её слёз, сердечные воздыхания, настойчивые молитвы, глубокие стоны, коими она непрерывно день и ночь пред Женихом своим в преобильном поте лица утруждалась, вымаливая для каждого спасительного конца? Подтверждают это многочисленные свидетели, слышавшие, как она, пребывая в экстазе, когда от полноты духа двигался и телесный язык её (ср. Мф. 12:34), к Жениху своему тихо обратилась и сказала: «Неужто, Господи, смогу я смириться с тем, что хоть кто-нибудь из тех, что сотворены – как и я – по Твоему образу и подобию, погиб и из рук моих выпал. Я не хочу, чтобы пропал хоть один из моих братьев, связанных со мною родством природы или благодати, и чтобы враг древний их всех упустил, я хочу, а Ты чтобы обрёл всех к вящей имени Твоего чести и славе. Ведь лучше было бы мне, если бы все спаслись, а я одна – сохраняя лишь навеки любовь к Тебе – понесла наказания адские, чем если бы я была в раю, а все эти проклятые погибли; ибо больше чести и славы имени Твоему было бы от первого, чем второго». И был ей ответ от Господа, каковой она мне поведала втайне: «Любовь в аду сохраниться не может, ибо она разрушила бы его полностью; легче разрушиться аду, чем любви сохраниться в нём». А она Ему: «Коль бы потерпели то Твоя правда и справедливость, я бы хотела бы, чтобы он полностью разрушился или, по крайней мере, чтобы ни одна душа больше не сходила в него. И если бы – сохраняя лишь союз любви с Тобой – я могла бы лечь над зевом адским, заградив его, чтобы туда больше никто не вступил, то было бы для меня величайшим блаженством, ведь так все мои ближние спаслись бы».
[16] Из этого, читатель, ты можешь, если я не ошибаюсь, сделать очевидный вывод, как блаженно и совершенно была эта дева по милости Божией украшена и увита сими двумя златыми цепями в душе своей, так что не подобает мне излагать всё подробно, а то предисловие превратится в трактат. Чтобы склонить тебя к благоволение и вниманию достаточно описать (хоть и грубым стилем, но правдиво) тебе её великолепные качества. Однако я очень хочу, чтобы ты знал следующее: если бы ты видел и слышал со мной то, что я видел и слышал, то очами ума узрел бы в ней подражательницу смирения и чистоты Преславной Девы, воздержности и нищеты Иоанна Крестителя, покаяния и нищеты Марии Магдалины, искренности и святости Иоанна Богослова. Ты также увидел бы в [её] вере Петра, в надежде – Стефана, в мудрой любви – Павла, в стойкости – Иова, долготерпении – Ноя, в послушании – Авраама, в кротости – Моисея, в рвении – Илию, в чудотворении – Елисея. Также она с Иаковом созерцала, с Иосифом предсказывала будущее, с Даниилом открывала тайны, с Давидом день и ночь исповедалась Всевышнему. Я не преувеличиваю, говоря так, дражайший читатель, не преувеличиваю. Ниже, когда ты при чтении углубишься в подробности того, что здесь было сказано вкратце и в общем, увидишь, что я не допустил преувеличения. Право же нетрудно в любом из святых обнаружить последователя и самого Спасителя, и Его Преславной Матери, так что не будет преувеличением сказать об этом. Ведь подражающий не приравнивается к Тому, Кому в меру сил подражает, и не требуется от него совершенного или полного подражания. Поэтому Учитель язычников, призывая своих учеников к христианскому совершенству, молвит: «Подражайте мне, как я Христу» (1 Кор. 4:16). Сими словами, если хорошо вчитаться, он предлагает всем верным подражать не только себе, но и Иисусу Христу. А значит, ты поймёшь, что из моих слов «увидел бы в [её] вере Петра и т. д.» не следует ничего неуместного. Ведь каждый может быть назван Петром в вере, кто в совершенстве духовно обладает верой Христовой, и так же с другими [качествами святых]. Впрочем, ниже в нашем повествовании ты при водительстве Божием увидишь, что святая эта дева духовно обладала вышеназванными добродетелями (относящиеся к поименованным выше святым) таким необычайным и столь совершенным образом, что если вдруг сказанное об этом породило в тебе поначалу недоумение, всё оно отступит от ума твоего.
[17] Довольно того, что были тебе показаны (ср. Ин. 14:8) двойные цепи, которыми сатана был всячески связан и которые имел в руке своей сей Ангел девственный, который посредством одной из них, сиречь цепи добродетелей, восшед на небеса, из-за другой цепи, сиречь ради свершения спасения верных (ср. Флп. 2:12), сошёл с небес. Неудивительно, что с помощью таких двух цепей сатана оказался пленён, как далее говорит Иоанн, ведь ни один ученый теолог не усомнится в том, что царство сатаны [простирается] ровно настолько – и не более, – насколько порочные люди добровольно подчиняются ему. Ибо же сатана, осужденный за своею вину и связанный своим осуждением, никоим образом не может править своей силой, но только если порок других [людей] подчинит их духовные силы (mentes) злых владычеству его извращённой воли. Написано же, что он царь над всеми сынами гордыни (ср. Вульг. Иов. 41:25), так что от гордыни порождены те, над кем он властвует, поскольку никак бы он не мог властвовать [над другими], если бы воля сначала не извратилась гордыней. Итак, царство его не от его собственной силы, но от порока других, а раз царство его основывается на чужих, а не на его духовных силах, то, вне всяких сомнений, разрушение этого самого царства куда более зависит от чужих духовных сил, нежели от его собственных. Чего ради любому при искреннем желании легко разрушить это царство – по крайней мере, над собой. А говорю я: «при желании», имея в виду здесь того, кого благодать, что дана чрез Иисуса Христа (ср. Ин. 1:17), наделила желанием. Потому-то сам Учитель и Господь, когда увидел, что близятся Его Страсти и Смерть ради уничтожения грехов наших и излияния на нас Его благодати, сказал Своим ученикам, равно как и иудеям: «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин. 12:31), ибо с пришествием благодати, каковую мы благодаря оным Страстям обрели, воля человеческая посредством благодати сделалась сильной, царство сатаны было обречено на полное разрушение, а он сам – на изгнание из обиталищ своих.
[18] Далее, как сатана посредством благодати изгоняется добродетелями, так благодаря им же он и связывается. Ибо же верная душа, в которой обитает благодать, день за днём за счёт приращения заслуг, а вместе с тем и просто под действием благодати, становится всё крепче и [даже делается] святою, и могучей рукой не только изгоняет сатану, но также связывает его и убивает. Ведь иногда в сердца верных изливается такая благодать, что они изгоняют сатану не только из своих сердец, но и из чужих. И не только изгоняют, но молитвами и заслугами своими добиваются, что Господь связывает сатану – так, чтобы он не мог докучать тем, из кого был изгнан, более, чем то полезно для их спасения. Потому, опять же, таковым людям Господь иногда даёт столь великую силу, что они изгоняют бесов из одержимых ими тел. Не то чтобы изгнание сатаны из тела важнее, чем из души, но для людского взора телесное исцеление заметнее, чем духовное. А Господь желает, чтобы ведомая Ему святость таковых людей, когда они преизобилуют совершенством добродетелей, открывалась также и человеческим очам, да прирастает от того всё более честь Его и спасение (ср. Отк. 19:1) людям.
[19] Ну а теперь вернемся к тому, с чего начали. Эта освященная дева, историю которой мы намерены рассказать, в полнейшем совершенстве овладев дарованной от Бога цепью добродетелей и связавшись узами всесовершенной любви с цепью верных душ, обеими связывала сатану. Изничтожив с помощью первой могущество его, дабы не имел он никакой силы над нею, с помощью другой она [связывала его], дабы не позволить, как бы ему ни хотелось, ни в чём вредить верным, особенно же тем, кого сама родила во Христе (ср. 1 Кор. 4:15), что будет по милостивой воле Всевышнего яснее ясного показано ниже. Итак, истинно и уместно было сказано, когда я вместе с евангелистом Иоанном сказал выше: «…Увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей». «Он взял, – добавляет евангелист, – дракона.., который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет» (Отк. 20:2).
Я не буду ни задерживаться более здесь, ни далее продолжать, но, ради всего святого, читатель, заметь и под водительством Божиим увидь в нижеследующем повествовании, как все эти слова подтверждаются в [житии] сей всяческих похвал достойной девы, особенно если ты внимательно присмотришься к началу её пути, середине и концу. Итак, пора завершить [изложение] того, чему Бог гласом духовного Орла изволил научить нас, [вдохновляя] на написание нашего труда. Теперь приступаем к рассказу о деяниях сей преподобной девы.
[20] Сказал Давид, сын Иессеев; сказал муж, коему (как говорится во второй книге Царств, в главе двадцать третьей) предназначено было [пророчествовать] о Христе Бога Иаковля; сказал, повторюсь, славный псалмопевец Израилев в псалме, в коем [провозвещает] препровождение Единородного в земной мир: «Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа» (Пс. 101:19).
А святой Иов, перед тем, как предречь святое воскресение, восклицал: «О, если бы записаны были слова мои! Если бы начертаны были они в книге резцом железным с оловом, – на вечное время на камне вырезаны были!» (Иов. 19:23-24).
Из этих слов Священного Писания мыслитель ясно может понять, что о тех преходящих [событиях], которые служат к чести и славе имени Божия, а также истинному и общему благу всех людей, недостаточно возвещать и сообщать лишь землякам и современникам, но надлежит их предавать записи, дабы стали они ведомы как настоящим, так и будущим [поколениям]. А поскольку согласно Соломонову изречению «род проходит и род приходит» (Еккл. 1: 4), неправильно было бы, если бы только один род получал то, что полезно для всех, да кроме того, если бы деяния божественной премудрости, кои восхвалять подобает вечно, поминались бы лишь только в течение краткого времени. Потому-то и был подвигнут Моисей на то, чтобы написать о начале творения и свершения патриархов – первых и самых последних, вплоть до своего времени. Потому-то и Самуил, и Ездра, а также другие пророки и священную историю записали, и пророческие речения прилежно предавали письменам. Потому-то и сами святые евангелисты, которые по достоинству занимают первое место среди историографов, Евангелие не только проповедовали, но и удостоились чести записать его. Потому-то одному из них громкий голос сказал: «То, что видишь, напиши в книгу» (Отк. 1:11).
[21] Потому-то, наконец, и я, брат Раймонд Капуанский, в миру называемый делла Винья, Ордена братьев-проповедников смиренный магистр и слуга, движимый разумными соображениями или, вернее, необходимостью, постановил предать записи прежде мною устно возвещаемые деяния (достойные как почитания, так и подражания (ср. св. Григорий Великий, Диалоги, Гл. 1. – прим. пер.)) некоей преподобной девы, Екатерины именем, родившейся в городе Сиене, что в краю Тосканском, дабы не только нынешний век, но также и века грядущие, познав эти изумительные добродетели, которые великий и прехвальный Господь содеял чрез сию деву, тогда исполненную благодати (gratiosa), а ныне несомненно достойную славы (gloriosa), хвалили Его во святых и в силах Его и благословляли по множеству величия Его (ср. Вульг. Пс. 150:1, 2); дабы паче всего пламенно возлюбили они Его изо всех сил и Ему одному служили как внешне, так и внутренне, притом в служении Ему с наивысшим постоянством пребыли до конца.
Ну а всем, кто будет читать эту книгу (ср. 2 Мак. 6:12), заявляю, что в неё не привнесено ничего вымышленного, ничего придуманного и ничего ложного (по крайней мере, относительно сути событий, насколько я при скудоумии своём смог в них разобраться), чему свидетель Сама Истина, Которая ни ошибается, ни ошибиться не даёт. А чтобы удостоверить важнейшие из описываемых здесь событий, я в каждой главе указываю, откуда и как получил то, о чём повествую, да увидит любой, откуда почерпнуто подаваемое в этой книге питие.
Но дабы свершалось всё во имя Троицы, я разделил эту книгу на три части – так будет легче найти [нужные сведения]. Первая часть будет охватывать рождение и младенчество её, а также отроческие года – до [духовного] обручения с Господом включительно; вторая будет охватывать время подвига её – от обручения вплоть до преставления; третья же часть – кончину её вместе с некоторыми предшествовавшими ей событиями, а также чудеса, происходившие тогда и после смерти её (некоторые, не все, потому иначе пришлось бы составить огромный том, на завершение которого не хватило бы моей жизни), а вслед за тем идёт её «Книга божественного учения, или Пересказы диалогов», включая 21 молитву её. Так, если Богу будет угодно, полностью завершится сие сочинение на хвалу Троицы превозвышенной, Которой честь и слава во веки веков. Аминь.
(Согласно изначальному плану книги бл. Раймонда. – прим. пер.)
Первая часть
В которой повествуется о её семействе и о том, что случилось с ней до того, как она вышла в люди.
Гл. I. О её родителях и их жизненных обстоятельствах.
II. О её рождении и младенчестве и о дивных чудесах, что были явлены тогда.
III. Об обете девства, данном ею, и обо всём, что произошло с нею прежде брачной поры.
IV. Об ослаблении рвения, попущенном Богом ради умножения благодати, и о мужественном терпении, с которым она переносила ради Христа многие обиды в доме своем.
V. О победе, которую она одержала над преследователями, как благодаря голубю, которого увидел отец её, так и благодаря видению бл. Доминика.
VI. О суровости её покаянного подвига и о преследовании, которому она подвергалась из-за этого со стороны собственной матери.
VII. О последней победе, которую она одержал в купальне, и о том, как она получила долгожданный хабит бл. Доминика.
VIII. О происхождении и основании иноческого чина Сестёр покаяния бл. Доминика и том, откуда происходит их устав.
IX. О её дивном возрастании и том, что все сообщения об оказанных Господом сей деве милостях, о которых она поведала своим духовникам, достойны веры.
X. О замечательном учении, которое Господь дал ей в начале, и о других учениях, на которых она основала свою жизнь.
XI. О дивной победе над искушением благодаря некоему другому учению, дарованному ей Спасителем, и неслыханном дружестве, каковое она имела с самим Господом Спасителем.
XII. О дивном обручении её, коим Господь обручился с нею посредством кольца, видимого очами веры.
Вторая часть
О житии св. Екатерины среди людей и о том, как дары, полученные ею в тайном затворе, были явлены миру.
Гл. I. Как Господь повелел ей начать житие среди людей.
II. О дивных деяниях, которые она совершала, и чудесах, происходивших в начале её жития среди людей.
III. О чудесах, которые она совершала, помогая нуждающимся.
IV. О дивных делах, которые она творила, служа больным в нужде их.
V. О невиданном образе жизни и о том, как были уличены роптавшие о постничестве сей преподобной девы.
VI. О дивных её исступлениях ума и великих откровениях, данных ей Господом.
VII. О некоторых чудесах, по наитию свыше содеянных сей благой девою на спасение душ.
VIII. О некоторых чудесах ради телесной жизни и здоровья человеческого, содеянных преподобной девою, когда она жительствовала среди людей.
IX. О чудесах, сотворенных сей девою ради избавления одержимых бесами.
X. О даре пророчества, которым славилась эта дева, и о том, как, пользуясь им, она многих спасла от опасностей, грозивших душе и телу (utriusque hominis).
XI. О чудесах, которые Господь сотворил через преподобную деву с неодушевленными вещами.
XII. О частом причащении сей преподобной девы и о чудесах, которые сотворил для неё Господь как с Досточестным Таинством, так и с мощами святых.
Третья часть
В которой возвещается о кончине преподобной сей девы и чудеса, после того свершившихся.
Гл. I. О свидетелях, которые присутствовали при её смерти и сообщивших автору, кто они и какие.
II. О том, что происходило в течение полутора лет до кончины преподобной девы, и о мученичестве, которое она претерпела от бесов, из-за которого в конце концов и постигла её смерть временная.
III. Как сия преподобная дева желала разрешиться и быть со Христом, что подтверждается одной молитвой, которую она сочинила и поместила в конце книги, которую сама продиктовала; эпилог этой книги вместе с упомянутой молитвой на латыни изложен слово в слово так, как она произнесла это на просторечии.
IV. О преставлении оной преподобной девы Екатерины Сиенской и о речи, которую она перед преставлением своим произнесла к сынам и дочерям, коих родила во Христе, наставляя их всех вместе и каждого особо; и видении, которое в час преставления её было явлено некоей почтенной даме.
V. О мужественном терпении, которое сия преподобная дева с очевидностью проявила при всех событиях, свершавшихся с нею от ранних лет и до смерти включительно, чем ясно подтверждается, что она достойна почитаться в лике святых Церковью Божией воинствующей, поскольку Церковь торжествующая украсила её великим множеством славных побед. В эпилоге этой же главы ради нетерпеливых читателей как бы подводится итог всему, что было сказано выше, так что, если вдруг кто-нибудь не сможет раздобыть книги целиком, он, располагая этой главой, сможет постичь как бы сущность целой книги.
VI. О знамениях и чудесах, которые соделал Господь по кончине святой девы, как до погребения её, так и после, а именно о тех, о которых мне удалось узнать, поскольку много свершилось и таких, что не были записаны.
(Ниже разбивка книги на главы приводится согласно изданию AASS. Номера вышеперечисленных глав указываются в квадратных скобках римскими цифрами. – прим. пер.)
[ГЛ. I.]
[23] Жил в городе Сиене, что в краю Тосканском, один человек по имени Якопо, отца которого по обычаю его родины называли в просторечии Бенинказа. И был человек тот простодушен, свободен от всякого лукавства и хитрости, богобоязнен и незлобив. Лишившись родителей, он взял в жёны женщину именем Лапа (в девичестве Пьяченти, дочь поэта Пуччо де Пьяченти; имя «Лапа» – скорее всего, тосканское уменьшительно-ласкательное от Джакома. – прим. пер.), которая была совершенно чужда всяческим порокам современных людей, хотя по сведениям всех знавших её отличалась изрядной рачительностью в бытовых и семейных делах до конца земной жизни своей. Сии искренне привязавшиеся друг к другу новобрачные происходили из довольно известных, хоть и не знатных, местных семейств и по меркам своего сословия были обеспечены земными благами. И благословил Господь Лапу, и, наделив многочадием, соделал как плодовитую лозу в доме (ср. Пс 127:3) Якопо, мужа её, ибо почти каждый год она производила на свет по сыну или дочери, а часто зачинала и рождала двойняшек (ср. Быт. 4:1, 17; 29:32, 35; 30:5, 17, 19, 23 и т.п.) вышеназванному Якопо.
[24] Притом несправедливо было бы, как мне кажется, обойти молчанием несравненные достоинства этого Якопо, благодаря коим он уже достиг (благоговейно на то понадеемся) пристани вечного счастья. Ведь вышеупомянутая Лапа поведала мне, что он был настолько уравновешен и так сдержан в своих словах, что какой-бы ни выдавался случай для волнения или беспокойства, никогда лишнее слово не исходило из уст его; мало того, когда он видел, что другие члены семейства огорчены и горькие слова произносят, то спешил успокоить каждого, говоря с улыбкой на лице: «Ну-ну, «чтобы хорошо было тебе» (Втор. 4:40), не волнуйся, а то ещё скажешь что-нибудь такое, что не подобает нам». А названная Лапа дополнительно сообщила, что однажды некий согражданин, вопреки всем требованиям справедливости, злобно давил на него, требуя огромной суммы, которая ему никоим образом не причиталась, и с помощью могущественных друзей и клеветы так вероломно разорил простодушного мужа, что тот лишился почти всего своего состояния, но и тогда Якопо отнюдь не терпел, чтобы в его присутствии кто-либо хулил клеветника его или проклинал его как-нибудь; мало того, саму Лапу, когда того проклинала, укорял, говоря мягко: «Оставь, дорогая, «чтобы хорошо было тебе», оставь его – Бог укажет ему ошибку его, а нам будет защитником (ср. Вульг. Иуд. 6:13)». Что впоследствии и подтвердилось на деле. Ибо правда выявилась почти чудесным образом, а человек тот, вразумлённый карой, понял, как сильно ошибался, неправо преследуя [невинного].
25. Об этом мне поведала вышеупомянутая Лапа, и в этом я ей целиком верю, поскольку, как утверждают знавшие её, она в восьмидесятилетнем возрасте была так проста, что даже если бы захотела, то не сумела бы измыслить такую небылицу. Впрочем, и все, знавшие названного Якопо, единодушно бы засвидетельствовали, что человеком он был простым, прямым и избегавшим зла. Наконец, и домочадцы его были настолько скромны в речах, что все члены семейства, особенно женского пола, пройдя его школу, слов непотребных и нескромных ни молвить не могли, ни слышать. Поэтому-то, когда одна из дочерей, называемая Бонавентурой (о которой будет упомянуто ниже), вышла замуж за некоего юношу, называемого Никколо, из того же города, который, оставшись без родителей, перенял обычаи своих юных сверстников, а поскольку они, будучи невоздержны на язык, часто произносили неприличные слова, то и он вместе с ними, тогда Бонавентура настолько была опечалена этим, что захворала и день ото дня становилась все худее и слабее. И когда через несколько дней муж спросил её о причине этой болезни, она строго ответила: «В отчем доме я не приучена была слушать таковые слова, что слышу здесь ежедневно, и не так меня воспитали родители. Так знай же, что, если из этого дома не исчезнут такие неприличные речи, ты вскоре увидишь, как я помру». Услышав это и изумившись, он, вразумлённый и супругой, и, паче, родителями её, воспретил приятелям своим впредь говорить такое в её присутствии, что и было исполнено. Так скромность и благопристойность дома многократно упомянутого Якопо исправила нескромный и непристойный дом Никколо, зятя его.
Притом названный Якопо занимался ремеслом составления и изготовления красителей, коими окрашиваются шерстяные ткани и сама шерсть. Поэтому-то как его самого, так и детей его в том краю прозывали «красильщиками» (что, вероятно, заменяло им фамилию и звучало по-итальянски как «Тинтори». – прим. пер.). Так что есть чему подивиться: дочь красок составителя стала невестой небесного Повелителя, о чём, с Его помощью, будет поведано ниже.
Ну в то, что я рассказал в этой главе, частично известно почти всему тому городу или большей его части, частично узнано мною от самой преподобной девы, частично – у Лапы, её родительницы, равно как и от многих иночествующих и мирских особ, которые были соседями, знакомыми или родственниками Якопо.
[ГЛ. II]
[26] Когда вышеназванная Лапа, словно плодовитая пчела, часто производя потомство, наполняла, как было сказано выше, улей мужа своего Якопо сыновьями и дочерями, случилось по вышнему устроению так, что на Новый год (который праздновался в средневековой Сиене на Благовещение – 25 марта. – прим. пер.) она родила двойняшек или близняшек, коих по вечному предопределению подобало представить пред ликом Божиим, что впоследствии и подтвердилось на деле. Итак, родила она двух чад пола слабого, но ещё более слабых, как оказалось, телесным сложением, однако же сильных в очах вышнего Величия. Когда Лапа внимательнее рассмотрела тех, кого произвела на свет, то, понимая, что обеим её молока на прокорм не хватит, решила одну доверить кормилице, а другую оставить и кормить своим молоком. Случилось же по Господню попущению так, что она избрала себе на кормление ту, которую Господь от века избрал в невесты Себе.
Итак, та и другая прияли благодать святого крещения, и хотя обе они были в числе избранных, однако избранная для более высокой участи получила имя Екатерина, а другую назвали Джованной. Сия последняя, получив вместе с благодатью крещения имя Благодати (Иоанн в пер. с др. евр. – «Благодать Божия». – прим. пер.), в благодати оной воспарила на небеса, ибо же вскоре приял её [Бог], а Екатерина осталась у материнской груди, дабы в конце концов потянуть на небо цепь душ. Тогда Лапа стала с тем большим вниманием пестовать выжившую дочь, чем больше приходила к убеждению, что ей было предназначено одной остаться при ней после кончины сестры, а поэтому вышло так – часто повторяла она мне, – что полюбила она Екатерину паче всех сыновей и дочерей своих. Рассказывала она также, что по причине частых беременностей не могла ни одного из детей кормить своим молоком, а эту дочь выкормила, поскольку до окончания время вскармливания не беременела снова, явно ради того, чтобы получить передышку от родов и подготовиться к завершению плодоношения благодаря той дочери, которой предстояло достичь и стяжать вершины совершенства, словно бы в ней было [её материнское] предназначение. Ведь известно, что исполнитель приводит в действие изначальный замысел [своего господина] в последнюю очередь. Ну а Лапа сия, произведя на свет Екатерину, родила затем ещё один раз – некую Джованну, которая заменила почившую спутницу Екатерины, и на том, после рождения двадцати пяти чад, был положен предел её плодоношению.
[27] Итак, Бог взращивал помянутую сию девочку, и, когда, перейдя с молочной пищи на хлеб, она научилась ходить самостоятельно, так стала всем видевшим её мила и такие разумные молвила речи, что мать едва могла удержать её дома, ведь каждый из соседей и родственников норовил умыкнуть её и отвести к себе домой, чтобы послушать её разумных речей и с превеликим удовольствием приобщиться её детской веселости. За таковую особую весёлость её, доставлявшую чрезвычайное утешение, её стали, несмотря на собственное имя, звать вместо Екатерины Евфросинией (одна из трёх мифических граций, чьё имя в переводе с греческого и означает, собственно, «веселье». – прим. пер.). Кому это пришло в голову, не знаю; но она сама не раз усматривала тут таинственное знамение, ведь, как ниже будет поведано, впоследствии она возымела намерение подражать св. Евфросинии (Александрийской, пам. 16 января). Я же думаю, что дитя сие в детской своей болтовне то и дело употребляла какие-то словечки, которые были похожи или созвучны со этим словом – Евфросиния, из-за чего, повторяя её словечки, так и называли её саму. Что бы то ни было, ещё когда она была малюткой, по первым росткам было заметно, какие плоды она принесёт во взрослых летах. Притом её смышлёность и разумность в речах, равно как и усладу, приносимую святыми беседами с нею, нелегко было бы выразить ни в слове, ни на письме; познали сие только те, кто лично испытал. И от избытка сердца моего принужден упомянуть здесь, что благодаря невесть откуда взявшейся мощи (energiae) она не только могла растрогать своим живым голоском, но и убедить в беседе, отчего людские умы настолько бывали увлечены к добру и обретали услаждение в Боге, что всякие печали покидали сердца беседовавших с нею, а всякое душевное томление изгонялась и всякое воспоминание о любом бедствии отступало, за чем наступало столь глубокое и необыкновенное душевное спокойствие, что каждый, дивясь самому себе, радовался невиданным радованием и восклицал в душе: «Хорошо нам здесь быть.., сделаем здесь три кущи (ср. Мф. 17:4), чтобы остаться подольше». Что неудивительно, ведь там, незримо скрываясь в сердце невесты Своей, несомненно присутствовал Тот, Кто, преобразившись на горе, побудил Петра воскликнуть подобными словами.
[28] Так, возвращаюсь к тому месту рассказа, откуда сделал отступление. Девочка возрастала и укреплялась Духом (ср. Лк. 1:80) Святым и Премудростью Божией быстро наполнялась. Когда же ей было пять лет или около того, она, выучив Ангельское приветствие Преславной Девы, часто повторяла его и, вдохновлённая свыше, начала, поднимаясь и спускаясь по лестнице, на каждой ступени коленопреклонённо Пресвятую Деву приветствовать (о чём сама призналась мне на тайной исповеди, когда зашла речь на эту тему). И получилось так, что, как прежде она произносила слова, угодные людям, так теперь она начала чаще и благоговейно произносить угодные Богу слова, по-своему взбираясь от видимого к невидимому. И вот, поскольку она начинала и сопровождала всякий день такими благоговейными деяниями, Всемилостивый Господь пожелал начатки её благочестия украсить неким благодатным и чудным видением, дабы, призывая её к «дарам большим» (ср. 1 Кор. 12:31), вместе с тем показать, что намерен из сего малого росточка образовать высокий кедр (ср. Иез. 17:23) и вырастить его, орошая Святым Духом.
[29] Случилось же так, что когда девочке сей было около шести лет, пошла с отроком Стефано, братом своим, который был её немного старше, в гости к Бонавентуре, сестре их, упоминавшейся выше, бывшей замужем за неким Никколо, чтобы, скорее всего, по поручению общей родительницы их Лапы , поведать да потолковать о том о сём; таков уж обычай матерей семейств – навещать своих замужних дочерей и узнавать лично или через кого-нибудь другого, всё ли у них в порядке. Когда же, исполнившие приказание дети, возвращаясь от вышеназванной сестры к себе домой, проходили через некую низину под названием Валле-Пьятта, преподобная девочка, подняв взор, увидела напротив, в воздухе над куполом церкви Братьев Проповедников, несравненно прекрасный брачный чертог, посреди коего Спаситель мира Господь Иисус Христос восседал на царском троне, облачённый в архиерейские одеяния, а на главе у него была тиара, то есть митра как у самодержца и папы. И были при Нём князья апостольские Пётр и Павел, а также блаженнейший евангелист Иоанн. Когда она с изумлением это рассмотрела, то, став как вкопанная, воззрилась, не сводя глаз, на Спасителя своего и обоих мужей взором, полным любви. А Он, явившийся так чудесно с тем, чтобы по милосердию Своему привлечь её любовью к Себе, устремив на неё очи славы (ср. Ис. 3:8), прелюбезно улыбаясь, простёр над нею десницу и, сотворив по образу иерархов спасительное знамение креста, милостиво уделил ей дар благословения Своего вечного.
[30] Сей дар благодати оказался настолько действен, что тотчас же, восхищенная умом и преображённая в Того, на Кого она с любовью взирала, девочка, позабыв не только путь, но и как бы самоё себя, стала на большой дороге, по которой в великом множестве двигались люди и лошади, в естественном испуге, но с вознесённым взором и неподвижной головой. И стояла бы она там без сомнения неизменно, пока длилось то видение, если бы кто-нибудь не подтолкнул её и не повлёк за собой. Пока же творилось такое от Господа, сопровождавший её брат, отрок Стефано, прошёл, когда она остановилась, ещё какое-то расстояние по низине, думая, что она идёт за ним. Но когда он вскоре обратил внимание, что она не следует за ним и что её нет поблизости, вернулся и увидел, что сестра его, сильно отстав, стоит как вкопанная и всматривается ввысь. Возвысив голосом, он позвал её. Затем, поскольку она не ответила и не обратила на него внимания, он обратился назад и, приближаясь к ней, продолжал звать. Но когда и это ничуть не помогло, он потянул её руками, говоря: «Что ты творишь? Почему не идешь?» Она же, словно бы пробудившись от глубокого сна, опустив на миг взор, сказала: «О, если бы ты видел то, что видела я, ты бы ни за что не стал мешать мне, пробуждая от сего сладостного видения». И сие сказав, она снова обратила взор в высь, но видение, исчезнув, уже совершенно прекратилось, ибо такова была воля Явившегося. И она, не в силах снести сего без острой скорби, со слезами стала винить саму себя, горюя, что отвела глаза.
[31] И с того часа девочка начала взрослеть, взрастая в добродетелях и нравах да в дивном разумении, так что поступки её казались не детскими и даже не юношескими, но, скорее, умудрёнными старостью. Ибо ведь уже тогда возгорелся в её сердце огонь любви Божией, силой коего просвещался её разум, оживлялась воля, укреплялась память, а внешние поступки во всём следовали правилам закона Божия. Согласно тому, что она мне, недостойнейшему, смиренно поведала наедине, в то время она изучила жития и уразумела поучения Отцов египетских, а также и деяния некоторых святых (а прежде всего – бл. Доминика), причём никто из людей ей того не советовал и ни разу перед тем она не слышала чтения вслух [этих книг], но [получилось так] исключительно по действию Святого Духа. И сердце её целиком было охвачено пылким рвением подражать их житию и делам, так что ни о чём другом она не могла и помышлять. Отсюда происходит то множество небывалых достоинств юной преподобной, что всех взиравших приводило в изумление. Ибо она искала укрытых мест и втайне бичевала какой-то веревочкой своё тельце. Совершенно оставив забавы, она постоянно стремилась к молитве и размышлениям. День ото дня она вопреки детским нравам становилась всё молчаливее и меньше, чем обычно, вкушала телесной пищи, хотя с растущими детьми обычно происходит как раз обратное. Привлекаемые сим примером, множества её сверстниц собирались вокруг неё в горячем желании слушать её спасительные речи и подражать её святым трудам по мере своих скромных сил. Поэтому и стало так, что все они вместе с нею тайно собрались в каком-то из помещений её дома, и подобно ей бичевали себя, а также повторяли указанное ею число раз Молитвы Господней и Ангельского приветствия. Однако всё это, как увидим ниже, было лишь предвестием будущих свершений.
[32] Этими подвигами великие деяния Божии не ограничились. Ибо (как мне неоднократно повторяла её мать, да и сама она не смогла отрицать, когда я втайне спросил её) весьма часто, если не в большинстве случаев, когда Екатерина в отчем доме поднималась или спускалась по лестнице, она, казалось, переносилась по воздуху, не касаясь ступеней ногами, так что мать по собственному признанию часто пугалась, видя, как быстро та движется. Случалось же сие преимущественно тогда, когда она стремилась избежать общения с другими, и особенно –мужчинами. Впрочем, я думаю, сие необычайное чудо на подъёме и спуске с лестницы вызвано было тем, что (как было сказано выше) прежде на каждой ступени она, поднимаясь и спускаясь, любила произносить Ангельское Приветствие.
[33] Затем, в заключение этой главы [вспомним], что, узнав исключительно благодаря откровению Божию, как было сказано выше, о деяниях и житии святых египетских Отцов, она возгорелась величайшим рвением подражать им изо всех сил. Поэтому, как она сама признавалась мне, в ранние свои годочки невероятно горячо алкала пустыни, но никак не могла измыслить способ исполнить свою мечту. А поскольку ей не было определения свыше обитать в пустыне, она остановилась на том, что позволяла её немощь собственного естества, и не смогла придумать тут ничего больше того, что дала ей детская смекалка. Ибо же случилось так, что когда после борьбы мечты с хрупкостью детства, мечта вроде бы победила, но не одержала полной победы. Так, однажды утром, вдохновлённая мечтой, она, думая отправиться на поиски пустыни, в меру детского соображения запаслась всего лишь одним куском хлеба и, добравшись в одиночку до дома своей замужней сестры, расположенного недалеко от городских ворот, известных как Ворота св. Ансана (позднее – ворота св. Марка, разрушенные в XIX в; св. мч. Ансан Сиенский – покровитель города, память 1 декабря. – прим. пер.), и вышла через них, чего никогда раньше не делала. Проследовав оттуда вниз по какому-то спуску и, не видя рядов зданий, как в городе, она подумала, что пустыня уже близко. Пройдя немного дальше, она в итоге обнаружила под скалой некую пещеру, которая ей понравилась. С радостью вступив внутрь, она решила, что наконец-то нашла желанную пустыню. Тот, Кто уже давно являл ей Свою благосклонность и благословение, – Бог, исполняющий истинные устремления святых, – хотя и не предопределил для невесты Своей такого жития всё же не допустил, чтобы оное деяние прошло без знамения его милости. Ибо вскоре после усердной молитвы она, потихоньку оторвавшись от земли, вознеслась настолько, насколько позволяла высота пещеры, и оставалась до девятого часа. Она ж сама тогда думала, что это происходит с нею из-за козней врага, который будто бы обманом хочет воспрепятствовать её молитве и отшельничеству, а потому старалась молиться еще сосредоточеннее и ревностнее.
[34] Наконец, около часа, когда Сын Божий, подвешенный на кресте, свершил наше спасение, она, как взошла, так и сошла (ср. Прит. 30:4; Ин. 3:13; Еф. 4:9-10). И уразумела по Господню вдохновению, что ещё не то время, когда ей ради Господа подобает сокрушать свое тельце, и что не хочет Господь, чтобы она покинула отчий дом таким образом. По этой причине в том же Духе, что вёл её, она отправилась обратно. Однако, выйдя и осмотревшись, она поняла, что находится в одиночестве, а путь до городских ворот показался ей чрезвычайно долог для её слабых сил. И перепугавшись, что родители сочтут её погибшей, она в молитве вверила себя Господу. Ну а затем (как она поведала Лизе – некоей своей родственнице) по прошествии краткого времени Господь, перенеся её по воздуху, поставил в городских вратах, отчего она не понесла никакого вреда. Тут уж, поспешив, она возвратилась в свой дом. Поскольку же родители полагали, что она вернулась от замужней сестры, всё случившееся осталось в тайне, пока она сама, уже в зрелом возрасте, не поведала сие своим духовникам, в числе коих не по достоинству оказался и я, «последний по призванию», равно как и по заслугам (аллюзия на антифон в праздник обращения ап. Павла. – прим. пер.).
Почти всё, что содержится в этой главе, я узнал по большей части от Лапы, матери её. Какую-то же часть [сведений], а особенно то, что здесь приводятся под конец, нам сообщила сама святая дева и вышеупомянутая Лиза, как я уже говорил. Впрочем, обо всём вышесказанном, кроме последнего [события], я собрал множество свидетельств как от первого её духовника, который с детства воспитывался в доме родителей её, так и от ряда достойных веры дам: соседок и родственниц семейства девы сей святой.
[ГЛ. III]
[35] Такова была (как вкратце упомянуто выше) сила и действенность видения, описанного в предыдущей главе, что вскоре всякая мирская любовь была полностью вырвана с корнем из сердца преподобного дитяти, а укоренилась в душе её святая и безраздельная любовь к единородному сыну Бога и Преславной девственной Матери: к Господу нашему Иисусу Христу. Поэтому она всё почитала за сор, дабы приобрести Спасителя (ср. Флп. 3:8). И начала она не иначе как по научению Святого Духа понимать, что должно, всецело храня целомудрие, служить Творцу как сердцем чистым, так и телом, а поэтому от всего сердца горячо стремилась к девственному целомудрию.
Итак, она поразмыслила и благодаря откровению Божию осознала, что Пресвятая Богородица была первой, кто изобрёл девственную жизнь, и первой, кто посвятил своё девство Богу. Посему она и вверила себя в этом отношении Ей, а когда достигла возраста семи лет, то не как семилетняя, но как семидесятилетняя (ср. Мф. 18:) – рассудительно и неспешно – размышляла о принесении сего обета, постоянно молясь (ср. 1 Фес. 5:17) Царице Дев и Ангелов о том, чтобы изволила Она милостивым споспешением Своим вымолить ей у Господа совершенного наставления Духа Его, силою коего она поступит как будет угоднее Богу и полезнее для спасения души её. И постоянно выказывала она перед Нею устремление своё, ибо горячо жаждала вести жизнь ангельскую и девственную.
День ото дня любовь к вечному Жениху всё более разгоралась в сердце умудрённой девы, горячо распаляя дух её и беспрерывно зовя к жизни небесной. Когда рассудительнейшая девочка заметила это, она, не желая дать погаснуть пламени, которое она себе уже вымолила, с искренней устремлённостью обратила дух ввысь. Однажды, выбрав себе укромное место, где могла бы говорить погромче и никто не услышал бы, преклонив колени телесно и духовно, она с величайшим благоговением и смирением так обратилась к Благословенной Деве: «О Преблагословенная и Пресвятая Дева, Ты первая из женщин посвятила Господу девство Своё вечным обетованием, благодаря чему по великой Его благодати стала Матерью Его Единородного Сына, взываю к неизреченному милосердию Твоему: невзирая на недостоинство моё и несмотря на убожество моё удостой меня великой милости и даруй мне в Женихи Того, Кого я из самой глубины души моей алчу – Всесвятейшего Сына Твоего, единого Господа нашего Иисуса Христа. И я обещаю Ему и Тебе, что никогда не приму другого жениха, а девство своё по мере малых сил моих соблюду ради Него навсегда невредимым».
[36] Читатель, ты отметил, как сообразно устроила та Премурость, которая быстро всё устрояет на пользу (ср. Прем. 8:1), дары и добродетельные дела сей преподобной девы? На шестом году своей жизни, узрев Жениха своего плотскими глазами, она получила от Него славное благословение, а на седьмом принесла обет девства. Первое из этих чисел превосходит в совершенстве другие числа (6=2х3 – произведение двух первых простых чисел. – прим. пер.), а второе все теологи называют числом полноты (universitatis). Итак, что же следует понимать под этим, как не то, что сей деве предстояло обрести от Господа совершенную полноту всех добродетелей и, следовательно, достигнуть вершины славы? Если шесть означает совершенство, а семь – полноту, то что же они могут означать вместе, как не совершенную полноту? Поэтому по праву наречена она именем Екатерина, что, собственно, означает всецелую полноту, о чём в первом предисловии сказано пространнее.
Но призываю также обратить внимание на порядок, который она соблюдала при свершении обета. Во-первых, она попросила о Женихе, Которого любила душа её (ср. Песн. 1:6). Во-вторых, отвергла любого другого, поклявшись в вечной верности Первому. Неужто сия просьба её могла быть отклонена? Обрати внимание, Кого она просит, о Ком просит и как просит. Ведь просит она Ту, что будучи наделена щедростью в даяниях благодати как Своим особым свойством и не в состоянии отказать в даянии благодати даже самым неблагодарным грешникам, никого не отвергала – ни мудрых, ни неразумных, ни единого не презрев, перед каждым сочла Себя должницей; Ту, что длань Свою открывает любому бедному, и руки Свои непрестанно протягивает всем беднякам (ср. Прит. 31: 20), служа для каждого словно бы неисчерпаемым источником. Так как же не выслушала бы невинную и пламенную малышку Та, Которая не отлучает от милости Своей взрослых злодеев? Как же не приняла бы обет девства Та, Которая первою открыла девственное житие людям? Как, право же, отказала [дать в Женихи] столь искренне просящей деве [Своего] Сына Та, Которая привлекла Его с небес на землю, дабы Он был всем верующим дарован?
[37] Увидел, как она просит? Посмотри же, ради всего святого, и о Ком она просит! А молит она о том, о чём учил молить Тот, Кого молят; взыскует того, что призывал искать Он же – взыскуемый. Не может быть отвергнуто, если Истина не обманывает, таковое прошение; не останется тщетным ходатайство, об исполнении коего обещает таковое повеление: «Просите, – рекла Истина воплощённая, – и дано будет вам; ищите, и найдёте». И в другом месте: «Ищите же прежде Царства Божия и правды его» (Мф. 7: 7 и 6: 33). Итак, когда она в столь ранние годы просит и усердно взыскует Сына Божия, Который и есть само Царство Божие, то по какому закону может случиться так, чтобы она не нашла того, что ищет, или не получила того, что просит? Но если обратишь внимание и на то, каким образом она просит, то ясно будет видно, что моление её по настоянию закона ни в коем случае не может обернуться тщетной. Ведь она не только в настоящее время готова получить просимое, но для всякого будущего [даяния] устраняет любые препятствия, облекаясь в одеяния вечного девства, угодные Тому, Кого она просит: она связывает и сковывает себя торжественным обетом пред Богом, дабы ни мир, ни сатана не смогли воспрепятствовать сему намерению. Чего не соблюла она из условий, требуемых, чтобы молитва непременно была услышана? Да, она молится за себя, и правильно делает – мало того, она самого спасения смиренно просит и даже с величайшею верой настаивает, а для того, чтобы одновременно изъявить готовность выстоять, даёт вечный обет, которым устраняет всякое препятствие к исполнению просьбы. Неужто же, о добрый читатель, не уверился ты с ясностью (если разумеешь Священное Писание), что по настоянию закона молитва такая должна быть услышана Господом? Будь же уверен, будь совершенно уверен, что она, как и просила, получила вечного Жениха от Его сладчайшей Родительницы и в обете вечного девства соединилась с Ним при посредстве оной Матери Господа, что будет, споспешением Господним, с полнейшей ясностью показано ниже в последней главе сей первой части при описании преславного знамения.
[38] Ну а теперь ты узнаешь, как по свершении сего священного обета святая девочка день ото дня становилась всё святее.
И начала маленькая подвижница Христова бороться с плотью, потому что до сих пор борьбы этой ещё не начинала; и решила она отнять у плоти яства из плоти, хотя бы насколько это было для неё возможно. Поэтому, когда подавали ей, как обычно, мясо, она либо отдавала его брату Стефано, упомянутому выше, либо потихоньку, чтобы никто не заметил, подбрасывала кошкам. Самобичевания, о которых было сказано выше, она продолжила и увеличила их число, [занимаясь этим] как одиночку, так даже и с девочками. Поистине, в душе малышки возгорелась – о чём и сказать удивительно – некая ревность о душах, и особую пылкую любовь она питала к тем святым, которые посвятили себя спасению душ. И стало ей по Господню откровению ведомо, что блаженнейший отец Доминик по ревности о вере и спасению душ основал Орден братьев-проповедников. Поэтому-то она прониклась таким почтением к оному ордену, что, когда братья этого ордена у неё на глазах проходили по улице перед её домом, она приметила места, где ступали их ноги, а после того, как они прошли, целовала следы их ног их со смирением и благоговением. С той поры в её сердце возникло великое желание вступить в орден оный, чтобы вместе с другими братьями содействовать спасению душ. Но когда она поняла, что этому мешает её пол, стала часто подумывать (как сама мне призналась), не последовать ли в этом примеру св. Евфросинии, чьим именем её как раз когда-то называли, сиречь, как та, притворившись мужчиной, вступила в мужской монастырь, так ей, отправившись в отдалённые края, где её не знают, притворяясь мужчиной, вступить в Орден проповедников, чтобы помогать гибнущим душам. Однако всемогущий Бог, Который с иной целью наполнил сердце её оной ревностью и по-другому желал исполнить устремление её, не позволил довести ей замысел до дела и не попустил полностью осуществить его, хотя в душе её ещё долго держался этот замысел.
[39] Между тем преподобная девочка прибавляла в росте и летах, но куда более возрастала духовно. Прибавлялось смирения, и росло благочестие; вера всё более выступала на свет, надежда сильнее день ото дня укреплялась, любовь постоянно умножала свой пыл, а из всех сих достоинств наибольшее почтение в очах наблюдавших её поведение вызывала зрелость нравов. Родители изумлялись, братья дивились, все домочадцы семейства их были поражены, взирая, какими она в столь малых летах обладает познаниями. В качестве занимательного примера на сей счёт я хотел бы привести один случай, поведанный мне с величайшей серьёзностью её матерью.
Так вот, это случилось в то время, когда Екатерине было от семи до десяти лет: её мать, желая, чтобы отслужили мессу в честь св. Антония, позвала дочь и сказала: «Поди в приходскую церковь и попроси нашего отца-настоятеля, чтобы сам отслужил или поручил кому-нибудь мессу в честь св. Антония, а столько-то и столько-то свечей и монет оставишь в пожертвование на алтаре». Услышав сие, благочестивая девочка с готовностью совершить то, что послужило бы чести Божией, весело и стремительно побежала в церковь, поговорила с настоятелем, исполнила материнское повеление, но, восхищённая литургией, осталась в церкви до самого окончания мессы. Наконец, когда богослужение полностью завершилось, она возвратилась домой.
[40] Однако, поскольку, по мнению матери, она слишком задержалась (ибо предполагалось, что она, отдав приношение священнику, тотчас же должна вернуться), то, увидев Екатерину, мать её Лапа, чтобы устыдить дочь за задержку, молвила на местный лад: «Пусть будут прокляты злые языки, что говорили, будто ты вообще не воротишься!» Ибо так принято говорить в народе, особенно, когда кто-нибудь сильно задерживается. А мудрая девочка, услышав материнские слова, примолкла ненадолго и спустя малое время, отведя её в сторону, совсем по-взрослому произнесла сии слова, смиренно молвив: «Госпожа матушка, если я когда-нибудь не исполню либо нарушу приказ ваш, выпорите меня, как вам заблагорассудится, чтобы в другой раз я оказалась внимательнее, – ибо это достойно и праведно, – но умоляю, не позволяйте из-за моих проступков языку своему проклинать кого-либо доброго или злого, поскольку это не приличествует почтенному облику вашему, а мне это чрезвычайно великое огорчение для сердца (ср. Рим. 9:2)». Сие услыхав, мать свыше всякого вероятия удивилась, что маленькая дочь её делает ей такое разумное замечание, и совершенно растерялась, но, не желая ей этого показывать, спросила у неё: «Почему ты так долго там пробыла?» А та молвит: «Я слушала ту мессу, о которой вы приказали, а когда отслужили её, без промедления сразу же вернулась, нигде на обратном пути не останавливаясь». Тогда мать, получив от дочери ещё большее назидание, по возвращении домой рассказала обо всем мужу своему Якопо, сказав: «Так и так говорила твоя дочурка». Он же, возблагодарив Бога, молча обдумал случившееся.
По одному лишь этому, пускай и из числа мелочей, случаю, ты, читатель, ты можешь судить, какая была благодать Божия, постоянно сей преподобной деве прибавляемая, когда она достигла брачных лет, о коих предстоит поговорить непосредственно в следующей главе. Посему сей главе я полагаю конец, но знай, что содержащиеся в ней сведения я получил большей частью от самой преподобной девы, а ещё частично от её матери и тех, кто жил в их доме тогда, когда она была в том возрасте.
[ГЛ. IV.]
[41] По прошествии первых лет её жизни, которые были удивительны и добродетельны, всемогущий Бог, желая выше возвести лозу, которую недавно посадил в виноградниках Енгедских (ср. Песн. 1:13), чтобы возросла она до высоты кедров ливанских (ср. Песн. 5:15) и чтобы к вящему удивлению на возвышенностях произрастила кисти кипера (ср. Песн. 1:13), дланью попущения своего ненадолго углубил её в землю, дабы так, сильнее закрепившись корнями, она выше протянула свои побеги и на вершине совершенства явила подобающий плод. Так и вода прежде чем подняться, достигает дна; так вообще и всякое растение: чем глубже оно запускает корни, тем дальше поднимает верхушку свою. Ничего поэтому нет удивительного в том, что Соделатель всяческих, Премудрость нетварная иногда позволяет святым Своим впадать в некоторые несовершенства, чтобы, отважней воспрянув и осмотрительнее живя, они с вящей алчбой и жаждою старались достичь вершин совершенства, а с тем большую славу стяжали, торжествуя над врагами рода человеческого. Всё сие я сказал лишь потому, что с тех пор, как сия посвященная Богу дева достигла брачного возраста, то есть двенадцати лет или около того, по обычаям отечества её, она была заперта в отчем доме, ибо там было не принято, чтобы незамужние девицы этого возраста выходили из дому. В ту пору родители и братья девы, не зная о её обете, стали думать, как её выдать замуж, и подбирать ей мужа поприличнее. Мать же, полагая, что благодаря уму дочери ей посчастливится породниться с каким-нибудь влиятельным семейством (хотя и так уже получила больше, чем могла рассчитывать), стала заботиться о внешности дочери и настоятельно приучала её чаще умывать лицо, украшать волосы и укладывать причёски, удалять всё, что безобразит лицо и шею, и тщательно заниматься всем тем, что украшает женщин, чтобы, если придут звать её замуж, заметили, как прекрасна она. Она же, имея более высокие устремления и даже обеты, хотя из страха перед родителями и не открыла своего обета, решительно отказывалась делать сие, ибо всеми силами старалась угождать не людям, но Богу (ср. Гал. 1:10).
[42] С неудовольствием заметив сие, мать позвала Бонавентуру, дочь свою замужнюю, о которой много раз упоминалось выше, приказав обязательно убедить сестру заняться по принятому обычаю своей внешностью и делать то, что ей матерью велено, ведь она знала, что Екатерина особо нежно любит Бонавентуру, а потому с её помощью девушку будет легче убедить, что и подтвердили последующие события. Ведь по попущению Божию, как было сказано, Бонавентура, использовав множество подходов, убедила сестру, и дева согласилась заниматься своей внешностью, хотя по-прежнему верно хранила обет не выходить замуж.
Позже, каясь на исповеди, она оплакивала этот грех с такими стонами и слезами, что можно было подумать, будто она совершила что-то тягчайшее. А поскольку я знаю, что после её ухода на небеса мне позволительно открыть то, что наипаче послужит её славе, хотя тогда было тайной, я постановил привести здесь беседу, состоявшуюся между нами об этом. Ибо она часто совершала передо мною общую исповедь и всякий раз, подходя к этому моменту, крайне сурово винила себя со стонами и плачем.
[43] Я же, хоть и знал, что души благомысленные усматривают грех там, где нет греха, а легко согрешив, тяготятся много более, [чем следует], но тем не менее, поскольку за вышеназванный грех считала себя заслужившей вечного наказания, вынужден был спросить её, не собиралась ли она и не пыталась ли поступить вопреки своему обету девства. Она ответила, что нет, и что сие ей никогда не приходило на сердце. Далее я спросил, свершила ли она сие, чтобы вопреки обету девства угодить какому-нибудь мужчине особо или мужчинам вообще? Она ответила, что отнюдь не провинилась тем, чтобы взирать на мужчин, показываться им на глаза либо проводить среди них время. Посему, когда ученики отца, осваивавшие красильное ремесло и заодно жившие у него, заходили в помещение, где находилась Екатерина, она тут же на удивление всем убегала от них так быстро, словно нарвалась на змей. И никогда не стояла она у окна или при входе в дом, чтобы наблюдать за прохожими. Тогда я: «Так с какой же стати оные действия по уходу за внешностью заслуживают вечного осуждения, особенно если в этом уходе не было чрезмерности?». Ответствовала на то, что чересчур сильно любила свою сестру, и, похоже, больше, чем Бога, любила её тогда – о чём безутешно плакала и совершала суровое покаяние. Когда же я попытался возразить ей, что, мол, хотя тут есть некоторая чрезмерность, но при отсутствии злого или даже тщеславного намерения, сие не было против Божией заповеди, она, возведя очи и возвысив голос к Богу (ср. Деян. 4:24), сказала: «Ах, Господи Боже мой, что у меня нынче за отец духовный, который оправдывает грехи мои!». Затем, обвиняя саму себя и обращаясь ко мне, она сказала: «Да разве подобает, отче, сему ничтожнейшему и нижайшему созданию, получившему от Творца столько милостей без труда и каких-либо заслуг, тратить время на уход за сей тленной плотью во искушение кого-либо из смертных?». «Я же, – молвила она, – не думаю, что и ада будет достаточно, чтобы наказать меня, если только не пребудет милосердно со мною божественное сострадание».
[44] Тут я был вынужден смолкнуть. Но смысл беседы нашей был, надо понимать, в том, чтобы я смог установить, всегда ли оставалась оная душа чиста от пятна смертного греха, то есть в целости хранила девство ума и тела, не совершая не только смертного греха распутства, но и всякого другого. И вот, я лично представляю свидетельство о ней перед Богом и Церковью Его Святой, что, многократно выслушивая её исповеди, причём весьма часто и генеральные, я ни разу не обнаружил, чтобы она хоть как-то нарушила заповедь Божию, если только не считать за [нарушение] то, о чём я только что рассказал, во что я нисколько не верю, и не думаю, что кто-либо благоразумный поверит.
Ещё скажу, что лично я постоянно обнаруживал в ней такую чистоту от лёгких прегрешений, что в большинстве случаев едва мог усмотреть что-либо предосудительное в том, о чём она ежедневно исповедовалась, ведь ясно не только её духовникам, но и всем, кто общался с нею, что она почти никогда не погрешала словом. Всё её время было полностью занято либо молитвой и созерцанием либо назиданием ближних. Она позволяла себе едва ли четверть часа сна в течение естественного дня (т.е. до предела урезала себе сиесту, традиционно длившуюся два-три часа. – прим. пер.). Когда ж она на свой лад принимала пищу, если это ещё можно было назвать пищей, то всегда молилась и размышляла, вкушая умом полученное от Господа. Знаю, и знаю наверняка, и свидетельствую перед всей Церковью Христовой, что в то время, как я был с нею знаком, для неё было мучительнее вкусить пищи, чем для какого-нибудь голодающего – пищи лишиться, и тело её сильнее страдало от приема пищи, чем обычный больной – от приступа лихорадки. И сие было одной из причин (о чём, даст Бог, будет сказано ниже), почему она относилась к еде так, словно бы это было средство удручать себя и мучить своё хрупкое тело. Так какими же прегрешениями мог быть занят оный ум, который всегда был занят Богом? Однако это не помешало ей так сурово винить себя и так изобретательно выискивать у себя недостатки, что, если бы исповедник не знал её образа жизни, то мог бы подумать, что она согрешила – там, где она не то что не согрешала, но, скорее, наоборот, поступала похвально. Однако я сделал сие отступление, любезнейший читатель, для того, чтобы ты, едва приметишь в сей преподобной деве какой-нибудь недостаток, сразу же понимал, сколь великое достижение проистекало из него посредством Божией благодати.
[45] Но возвратимся к прерванному рассказу. Бонавентура, участив свои уговоры, склонила деву к тем самым женским заботам о внешности, однако так и не добилась того, чтобы благодаря им дева обратилась сердцем к мужчинам вообще или к кому-нибудь из них в особенности, или хотя бы добровольно дала им на себя полюбоваться, хотя молитвенный пыл [её при заботах о внешности] остывал и настойчивость созерцания ослабевала.
Однако Всемогущий Господь, долее не в силах терпеть ни малейшей разлуки с невестой, которую Он избрал себе, устранил препятствие, стоявшее на пути её единения. Дело в том, что когда названной Бонавентуре, сей преподобной девы сестре и совратительнице в суетные дела, вскоре пришлось рожать, роды оказались тяжёлыми, и она скончалась, хотя была ещё довольно молода. Заметь, читатель, как неугодны и ненавистны Богу дела тех, кто пытается сбить с пути или задержать желающих послужить Ему. Сия Бонавентура, как говорилось выше, сама по себе была весьма пристойна как в поступках, так и в речах, но поскольку она старалась стремившуюся послужить Богу [душу] увлечь мирскими [заботами], поразил её Господь и наказал довольно тяжкой смертью. Однако Он обошёлся с нею милосердно, ибо, как спустя какое-то время было открыто деве, хоть она и оказалась в чистилище, где претерпела тяжкие муки, однако по молитвам сестры воспарила в небеса, о чём я втайне узнал от самой преподобной девы.
После ж кончины сестры преподобная дева, ещё яснее осознав суетность мира, с куда более жарким пылом вновь бросилась в объятия вечного Жениха. При этом, виня и кляня себя за проступок, она, как когда-то Мария Магдалина, припав к стопам Господа, проливала обильные слезы и упрашивала Его смилостивиться, непрестанно молясь и помышляя о грехе своём, дабы удостоиться, подобно Марии Магдалине, слов: «Прощаются тебе грехи» (Мф. 9:5, Лк. 7:48). И в то время она прониклась особым почтением к Магдалине, поскольку всеми силами старалась уподобиться ей ради прощения грехов своих. А из того, что её преданность к сей святой росла, воспоследовало затем, что Жених душ святых и Преславная Его Родительница даровали сей преподобной деве саму Магдалину в наставницы и матери, о чем с позволения Господа будет подробнее поведано ниже.
[46] В таковых обстоятельствах древний враг, скорбя от того, что добыча, которую он силился залучить к себе, исторгнута из рук его и окончательно у него отобрана, и видя, как дева, взыскуя прибежища, с величайшей поспешностью устремилась к скинии милосердия Жениха своего, замыслил помешать ей чрез домочадцев предаваться таковым [подвигам] и различными невзгодами и гонениями полностью вовлечь её в мирские [заботы]. И вложил он в души родителей и братьев мысль, что её обязательно нужно выдать замуж, дабы посредством неё приобрести какие-нибудь родственные связи. Он настоятельно им напоминал, что они уже потеряли одну дочь, и в итоге они захотели возместить потерю покойной с помощью живой, а потому всеми способами старались, особенно после смерти [сестры], приискать жениха для преподобной девы. Когда же она заметила это и по внушению Господню распознала козни древнего врага, то тем крепче и усерднее продолжила молиться и неутомимо предаваться размышлениям и покаянным подвигам, а всяческого общения с людьми – избегать, являя родным явные признаки того, что отнюдь не намерена позволить отдать себя жениху тленному и смертному, ведь ещё в детском возрасте по великой благодати Женихом её стал бессмертный Царь веков.
[47] Поскольку сие [расположение духа] было явно заметно по всем признакам, [проявляясь] во всех поступках и словах преподобной девы, и она всегда в том упорствовала, родители обдумывали, каким бы средством склонить душу её к согласию с их [желанием]. Поэтому-то, пригласив некоего доминиканца, который доселе жив, а тогда был их близким знакомцем и другом, с величайшей настойчивостью упрашивали его, чтобы он обязательно убедил Екатерину уступить их желанию, а он ответил им, что сделает всё для себя возможное. Но, встретившись с девой и убедившись в чрезвычайной крепости её святого намерения, он по наставлению совести преподал ей сверх того здравый совет, сказав: «Раз уж ты окончательно вознамерилась служить Господу, а они досаждают тебе своим противлением, покажи им твердость своего намерения: полностью остриги волосы головы своей, и тогда, возможно, они уймутся». Восприняв сие [предложение], словно бы оно прозвучало с небес, она тут же схватила ножницы и с радостью под корень остригла на голове своей волосы, из-за которых, как она думала, так тяжко согрешила. Сотворив сие, она накинула на голову платок и стала вопреки обычаю девическому, но зато по учению апостольскому ходить с покрытой головой (ср. 1 Кор. 11: 6). Когда же Лапа, родительница её, впервые обратила на это внимание и спросила, отчего она вдруг надела покрывало, то не смогла получить ясного ответа, поскольку дева, не желая ни лгать, ни открывать правды, скорее бормотала, чем отвечала. Приблизившись к дочери, она своими руками схватила покрывало и обнажила ей голову и обнаружила целиком обритой. Тогда, огорчившись до глубины души, поскольку волосы те были чрезвычайно прекрасны, она вскрикнула с сетованием, сказав: «Ах, доченька, что же ты наделала?!» А дева, снова покрыв голову, удалилась оттуда; но на вопль матери сошлись муж её и дети; и, услыхав о причине вопля, сильно против девы возмутились.
[48] С того-то возмущения и началась вторая война, суровее первой, но с небес деве была ниспослана настолько полная победа, что те, кто, казалось бы, должен был помешать, чудесным образом стали её союз с Господом укреплять. Ведь они теперь открыто преследуют её словом и делом, сиречь, браня и угрожая, мол, ты, мерзавка, думаешь, что раз остригла волосы, то тебе удастся не исполнить нашей воли? Волосы у тебя хочешь не хочешь отрастут, и если жива будешь, придётся тебе выйти замуж; и никогда тебе не будет покоя, пока не уступишь нашему желанию. Они издали своего рода указ, чтобы у Екатерины не было никакого места для уединения, но чтобы она всегда была занята домашними обязанностями, так что она совсем лишилась места и времени для молитвы и для общения с Женихом своим, а чтобы она хорошенько поняла, как её презирают, освободив кухарку, грязную работу на кухне поручили деве Екатерине. Ежедневно – упрёки, ежедневно – словесные оскорбления, ежедневно – множества пренебрежительных замечаний, из тех, что обычно сильнее всего ранят женское сердце. Дело в том, как я понял, что в то время родители и братья присмотрели некоего юношу, породниться с которым были бы очень не прочь; потому-то и жёстче осаждали Екатерину со всех сторон, чтобы склонить её к согласию.
[49] Однако древний враг, злобными своими и коварными действиями всех их подстрекавший, надеясь, что они сломят деву, добился лишь того, что она с помощью Господней стала ещё сильнее. Ибо она, ни в чём при всех этих [гонениях] не поддавшись, по внушению Святого Духа построила себе тайную келью в собственном уме, из которой решила наружу не выходить ни для какой работы. В итоге получилось так, что если прежде, имея внешнюю келью, она порой находилась внутри, а порой выходила вовне, то теперь, построив келью внутреннюю, которой её невозможно было лишить, она никогда её не покидала. Сии суть победы небесные (ср. 1 Ин. 5:4), коих у неё никто не мог бы отнять (ср. Ин. 16:22), кои несомненно сковывают сатану. Ибо же по свидетельству самой Истины, «Царствие Божие внутрь нас есть» (ср. Лк. 17:21), а из научения Пророка мы узнаём, что «Вся слава дщери Царя внутри» (Пс. 44: 14). Ведь внутри нас, без сомнения, пребывает ясный разум, свободная воля и крепкая память; внутри нас свершается помазание излиянием Святого Духа, которое, усовершая вышеуказанные силы, вовне все нападения врага одолевает и сражает; внутри нас, если мы будем ревнителями доброго (ср. 1 П. 3:13), поселится Гость оный, сказавший: «Мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16: 33). Уповая на сего Гостя, преподобная дева соорудила себе с Его помощью нерукотворную келью внутри, потому и не беспокоилась об утрате кельи рукотворной, находившейся вовне. Покопавшись в памяти, я ныне вспоминаю, что, когда мои внешние занятия порой преступали меру или мне предстояло отправиться в путь, преподобная дева зачастую увещала меня, говоря: «Сотворите себе келью в уме, из которой никогда не выходите». И хотя тогда я понимал это поверхностно, однако ныне, когда я более внимательно обдумываю её слова, вынужден воскликнуть вместе с Иоанном Евангелистом: «Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили» и т.д. (Ин 12: 16). Ведь на удивление как мне, так и другим, кому довелось бывать с нею, мы более отчетливо осознаём её поступки и слова в настоящем, чем тогда, когда вживую были с нею.
[50] Потом (возвращаясь снова к тому месту, где прервался наш рассказ) Святой Дух внушил ей иной образ, коим она победила все оскорбления и пренебрежения, что она поведала мне, когда я втайне спросил её, как она выстояла среди такого множества изъявлений крайнего пренебрежения. Молвила же она мне, что в неё чётко запечатлелся образ, что её отец представляет нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, мать же её – Преславную Матерь Его Марию, ну а братья и прочие члены семейства являли святых апостолов и учеников; и ради сего образа она служили всем так радостно и с таким усердием, что все изумлялись. Но и другую пользу принёс ей сей образ, ведь при служении она всегда размышляла о Женихе своём, Которому, как ей представлялось, она служила; и таким образом, находясь на кухне, она всегда оказывалась в святая святых, а прислуживая сидящих за столом, всегда питала душу свою присутствием Спасителя. О, бездна богатства (Рим. 11:33) предвечного совета! Сколь многоразличными и чудесными путями избавляешь Ты уповающих на Тебя от всякой бедственной напасти и проводишь их между Сциллой и Харибдой к пристани спасения вечного!
[51] И вот, пока дела обстояли так, преподобная дева постоянно взирая в уме на награду, обетованную ей Духом Святым, не просто терпела, но и радостно переносила обиды, а бег свой непрестанно ускоряла, дабы исполниться радости духовной. Поскольку же ей не позволялось жить одной в комнате, но предписывалось находиться там, где обитали другие, она со святой сметливостью избрала комнату своего брата Стефано, не имевшего ни жены, ни детей, где днём в его отсутствие она могла побыть одна, а ночью, когда он спал, могла вдоволь молиться. Так, ища день и ночь и взыскуя лика Жениха своего, она не переставая стучалась в дверь божественной скинии. И молилась Господу она неустанно, дабы изволил он стать хранителем чистоты её, воспевая вместе со св. Цецилией известный Давидов стих: «Господи, да будет сердце моё и тело моё непорочно!» (ср. Пс. 118: 80), и так, в тишине и уповании (Ис. 30:15) чудесным образом укрепившись, она с умножением теснивших её гонений всё обильнее исполнялась внутри бо́льшими дарами и радостями; так что его братья, видя его упорство, говорили между собой: «Мы побеждены». Но отец её, будучи благодушнее остальных, в молчании присматривался к поведению её и с каждым днём всё больше убеждался, что ею руководит Дух Божий, а не какая-нибудь девичья прихоть.
То, что изложено в этой главе, я узнал от Лапы, матери её, от Лизы, жены её брата, и от других, живших тогда в их доме, ну а нечто такое, чего другие не могли знать, мне, как сказано выше, открыла сама преподобная дева.
[52] Между тем, во время всех этих событий, случилось однажды, когда раба Христова с великим усердием молилась в комнате своего вышеназванного младшего брата при открытой двери (потому что запираться ей было по родительскому повелению совершенно запрещено), что отец её Якопо вошёл в ту комнату – возможно, чтобы поискать в отсутствие сына что-то понадобившееся ему. Когда, войдя в комнату, он, продолжая, вероятно, свои поиски, огляделся, то увидел, что в одном углу коленопреклонённо молится дочь, скорее уж Божия, чем его, а на макушке у неё покоится маленькая голубка снежной белизны, каковая голубка тотчас при входе отца, вспорхнув ввысь, вылетела, как ему показалось, через окно. Когда он после эдакого зрелища спросил у дочери, что то была за голубка, которая только что улетела, она ответила, что не видела в комнате ни голубки, ни какой-либо мной птицы. Отчего он ещё больше удивился и собирал все слова сии, сохраняя в сердце своём. (ср. Луки 2:19, 51).
[53] Помимо прочего, о ту пору в душе девы день ото дня начало расти некое устремление, зародившееся у неё, впрочем, как выше было сказано, ещё в детстве, а ныне, при обороне девства своего, обновлённое: получить и носить хабит Ордена братьев-проповедников, коего вождём, учредителем и отцом был блаженнейший Доминик. Чего ради она, непрестанно молясь, день и ночь старалась достучаться до слуха Божия, чтобы Господь изволил исполнить желание её, и тогда же, как упоминалось выше, прониклась глубоким почтением к названному святому – славному и многоплодному ревнителю спасения душ. В ответ на это преславнейший Господь, взирая, как мудро и мужественно юная Его воительница сражается на поприще и с каким усердием старается угодить Ему, никак не мог допустить, чтобы устремление воли её оказалось напрасным, а ради вящего её спокойствия утешил её нижеописанным видением.
Ибо ведь узрела раба Христова во сне, что явилось ей множество святых отцов и основателей различных орденов, среди которых был блаженнейший Доминик, коего она с величайшей лёгкостью узнала, потому что он нёс в руках своих лилию белизны и красы несравненной, которая, словно новоявленный терновый куст Моисеев, ясным горела огнём, но не сгорала (ср. Исх. 3:2). Когда все и каждый стали уговаривать её избрать для стяжания вящих заслуг один из их орденов, где её служение будет угоднее Господу, она, к бл. Доминику обратив свои шаги и взоры, увидела, что святой отец вышел ей навстречу, держа в одной руке хабит сестёр, называемых Сёстрами Покаяния бл. Доминика, коих в граде Сиене было, да и сейчас есть, немало. А как подошёл он к ней, то утешил её следующими словами, сказав: «Дочь прелюбезная, успокойся (ср. Тов. 7:17) и не бойся никаких препятствий, ибо ты согласно желанию своему всенепременно облачишься в сей хабит». Сие услышав к немалой своей радости, она со слезами счастья возблагодарила Всевышнего, а также достославного подвижника Доминика, который так чудесно её утешил. Так, проснувшись от слёз, она пришла в сознание.
[54] Итак, душа её, сим видением утешившись и укрепившись, тотчас благодаря упованию на Господа прониклась таким дерзновением, что в тот же день дева, собрав своих родителей и братьев, с таким дерзновением обратилась к ним: «С недавних пор ваши речи и манера обращения преследуют цель, как вы говорили, отдать меня замуж за человека тленного и смертного. И хотя таковые [замыслы] привели меня в искренний ужас, как вы могли ясно заключить по множеству признаков, всё ж из почтения, которое я по велению Божию обязана оказывать своим родителям, доселе я ясно не высказывалась. Ныне же, поскольку более нет времени молчать, я просто и ясно открою вам свои сердечные помыслы и намерения, которые не новы, но возникли у меня в детстве и паче окрепли. Знайте же, что я в самом детстве принесла обет девства – не по-детски, а после долгого размышления и по важной причине – Спасителю мира, Господу моему Иисусу Христу и Его Преславной Матери; и я пообещала им, что никогда не будет у меня никакого жениха, кроме Самого Господа. Ныне же, после того, как я сотворила [таковой обет] самому Господу, я достигла более совершенного возраста и разумения; знайте наверняка, что сие так укоренилось в моей душе, что камни легче было бы смягчить, чем моё сердце отвратить от сей святой цели; а чем дольше вы будете над этим трудиться, тем больше времени попусту потеряете. Сего ради советую вам полностью прекратить все попытки устроить мой брак, поскольку в этом я отнюдь не намерена исполнять вашей воли, ведь мне должно повиноваться больше Богу, нежели человекам (Деян. 5:29). Теперь, если вы желаете держать такую меня в своем доме, пускай как служанку, я с радостью готова служить вам по мере сил в том, что умею делать. Потому что, если вы решите изгнать меня из своего дома, то да будет вам ведомо, что сердце моё ничуть не отклонится от своего намерения. Ибо Жених у меня так богат и могуществен, что не позволит мне ни в чём потерпеть нужды, но, несомненно, обеспечит меня всем необходимым».
[55] Выслушав сию речь, все расплакались и, захлёбываясь горестными вздохами, не могли дать ей тогда никакого ответа. Ибо они узнали о святом обете девическом, которому не осмелились противоречить, и столкнулись с тем, что девушка, доселе молчаливая и робкая, так отважно и толково изъясняет что у неё на уме рассудительными словами, а сверх того они ясно поняли, что она скорее готова покинуть отчий дом, чем нарушить данный ею обет, и что, таким образом, она окончательно лишает их надежды выдать её замуж. Сего ради им проще было выплакаться от души, чем отвечать что-либо. Однако, спустя некоторое время, когда прекратились слезы, отец, который нежно любил её и ещё более боялся Бога, вспомнил о голубке, виденной им, и о некоторых иных деяниях дочери, кои с удивлением примечал. И дал он ей, говорят, следующий ответ: «Да не будет этого, вселюбезная дочь, чтобы мы каким-либо образом попытались противостать воле Божией (ср. Нав. 22:29), от которой, как видно, и исходит твоё святое намерение. Так что, раз мы на долгом опыте убедились и теперь точно знаем, что побуждаема ты к сему не девичьей прихотью, а любовью Божией, то вольна ты исполнять обет свой. Действуй, как заблагорассудится и как Святой Дух укажет. Мы более не будем отвлекать тебя от твоих святых занятий, ни же упражнениям в добродетелях тебе отнюдь не воспрепятствуем, однако предстательствуй за нас прилежно, да удостоимся исполнения обещаний (фраза из читаемой трижды в день молитвы «Ангел Господень». – прим. пер.) Жениха твоего, Коего ты в столь нежном возрасте по благодати избрала!» И, обратившись к жене и чадам, молвил: «Пускай больше никто не досаждает вселюбезной дочери моей; ни един да не смеет препятствовать ей в чём-либо; дайте ей без помех служить Жениху своему и молиться за нас непрестанно. Мы не сыщем родства, подобному сему, и не на что нам жаловаться, коль вместо человека смертного мы принимаем [в члены семьи] бессмертного Богочеловека».
По окончании сего разговора, хотя прочие и стенали (а паче всех – мать её, которая чрезмерно любила её по плоти), дева святая, ликуя о Господе, воздала благодарение своему всепобедному Жениху, доставившему ей сей триумф, а также родителей как можно смиреннее возблагодарила, погружённая в замыслы о том, как правильно воспользоваться наконец-то полученным разрешением. И тут мы полагаем предел сей главе.
[56] Однако да будет тебе, читатель, ведомо, что о голубке, которую видел отец, я узнал не от него, потому что он уже преставился к тому времени, как я познакомился со святой девой, но получил эти сведения от нескольких родственников той девы, что жили в их доме, а они слыхали от самого Якопо; мало того, они говорили, что он такое видел часто, отчего относился к ней с великим почтением и никоим образом не желал её беспокоить. Впрочем, я тут был более сдержан в словах, дабы, как подобает, как можно полнее избежать ложных высказываний. О видении же бл. Доминика слыхали от неё самой и духовник её, что мне предшествовал, и я лично. Ну а что касается последних слов, сказанных её родителям и братьям, то, когда я расспрашивал её, как она вела себя во время тех гонений, она мне целиком и обстоятельно их изложила и пересказала.
[ГЛ. VI.]
[57] Итак, получив после долгого ожидания столь полную свободу служить Богу, всецело преданная Ему дева не стала медлить, но дивным образом направила жизнь свою целиком на служение сие. Она попросила и получила крохотную комнатку, отделённую от других, в которой, как в пустыне, вволю могла внимать Богу и смирять тело своё. Сколь суровыми подвигами она там смиряла тело своё и с какой ненасытной любовью искала лика Жениха своего, того словами не описать. Но раз уж в настоящий момент представилась возможность описать её неслыханное самоограничение, то целесообразно будет, как мне кажется, дражайший читатель, в порядке отступления вкратце тебе о том поведать, дабы прежде, чем ты обозришь весь сад её святой жизни, мог ты вкусить некоторые из его первых и последних плодов, впрочем, не ради того, чтобы в надлежащем месте избежать возвращения к подробному описанию оных плодов, когда по милости Всевышнего дойдёт до них речь, но только с той целью, чтобы лучше настроить тебя и подготовить к пониманию плодов её добродетелей.
Итак, да будет тебе ведомо, что в сей келейке, то бишь комнатке, возобновились древнейшие деяния святых египетских отцов, что тем удивительнее, коль скоро вершились они в родительском доме без устного научения, без примера, без руководства. Начнём же с её воздержания от еды и питья.
[58] Мясо она с детства редко ела, как уже было упомянуто, а теперь совсем отказалась от него и настолько привыкла к полному воздержанию от него, что, как втайне мне признавалась, даже запаха его не могла вынести без тошноты. Кстати, не ради того, чтобы подивить тебя, любезный читатель, хочу поведать тебе, что однажды, когда я застал её в чрезвычайном телесном изнеможении, едва живую, поскольку она ничего не ела и не пила из того, что служит укреплению немощных, я додумался добавить к той холодной воде, что она пила, немного сахара, чтобы хоть так немножко взогреть её жизненные силы. Как только я о том проговорился, она, обратившись ко мне, возразила: «Вы, как видно, хотите окончательно меня добить!» Когда я спросил, почему она так считает, то получил ответ, что она настолько, как было прежде сказано, приучилась к кушаньям безвкусным и питью пресному, что из-за предпочтения, вошедшего в свойство, ей от любой сладости сделалось бы дурно. Вот и к мясу, как было уже сказано, она относилась так же.
А вино она в то время, как обрела келью, стала так разбавлять, что, утратив вместе с запахом и вкус, оно сохраняло только красноту, свойственную винам тех краёв. На пятнадцатом же году жизни она совсем отказалась от вина и с тех пор всегда употребляла в питьё лишь холодную воду. День за днём она уменьшала долю любых приготовленных на огне блюд, за исключением хлеба, так что через короткое время, ограничив себя, перешла к питанию хлебом и сырой зеленью. Наконец, в возрасте, если не ошибаюсь, лет двадцати или около того, она лишила себя даже хлеба, оставив себе на прокорм одну лишь зелень.
[59] В конце концов не по навыку и не по природным силам (как будет подробнее, даст Бог, сказано ниже), а чудом Божиим она возвысилась до такого состояния, что хотя сие хрупкое тело было подвержено многим немощам, да и прочие неподъёмные труды сносило, однако отнюдь не потребляло [яств, питающих] корневую влагу, и желудок их не переваривал, и никак его к тому было не принудить, а телесные силы нисколько не убывали из-за нехватки пищи или питья, так что (как я тогда часто говаривал) жизнь её была сплошным чудом. И, как недвусмысленно сообщили мне врачи, которых я приводил к ней, никакая природная сила не могла бы послужить причиной того, что мы видели собственными глазами. Сие всё, однако, более ясно и полно будет с помощью Господней изложено ниже. Но дабы завершить разговор о постничестве Екатерины, скажу тебе, пожалуй, читатель, что в то время, когда я удостоился быть свидетелем её жития, она обходилась без всякой питательной еды и питья и, не поддерживаемая никакими природными силами, всегда с радостью на лице переносила скорби и труды, нестерпимые для других.
[60] Притом не хотелось бы, чтобы ты решил, будто она смогла как-то достичь этого состояния с помощью некоего естественного усилия, упражнения или навыка; не думай также, что и любой человек должен в итоге дойти до таких [подвигов], потому что они в высшей степени необычайны и происходят более от полноты духа, нежели от какого-либо упражнения или привычки к воздержанию. Ты же знаешь, что полнота духа сообщается телу, и когда оно вкушает [от сей полноты], тогда легче переносит муки голода. В чём тут Христову последователю сомневаться?! Разве святые мученики не претерпевали голод и другие телесные муки с величайшей радостью, что превыше всех природных сил? И откуда это (Лк. 1:43) взялось, как не от полноты духа? Я самолично испытал это и думаю, что любой это может испытать, что одни и те же люди, внимая Богу, легко постятся, а если затем займутся житейскими делами, им становится слишком трудно или невозможно поститься, как раньше. И откуда это, как не от того, что полнота духа укрепила тело, ипостасно с ним соединенное? И хотя дар [Святого Духа] превыше природы, однако же по природе тело духу и дух телу взаимно сообщают добро и зло. Я, впрочем, не отрицаю, что некоторым от природы легче поститься, чем другим, и наоборот, но мне кажется, что на протяжении долгого времени беспрерывно держать строгий пост невозможно одной природной силою. И сие ныне подобало в заключение сказать о её постничестве.
Но дабы ты не подумал, читатель, будто преподобная дева только таким образом смиряла плоть свою, внемли дальнейшему.
[61] Она настлала себе ложе из деревянных планок или досок без добавления чего-либо другого, на котором размышляла, сидя, или стояла, склонившись в молитве, а в своё время, не снимая с себя ничего из одежды, укладывала своё тельце спать. Как верхняя, так и нижняя её одежда была шерстяной. Одно время она носила власяницу, но поскольку внутренне была чиста, то и внешней нечистоты избегала, а потому заменила власяницу на некую цепь. Итак, на ней была некая железная цепь, которая опоясывала её непосредственно по талии, да так сильно была затянута, что почти вошла плоть, покрытая со всех сторон кожей, как поведали её духовные дочери и сподвижницы, которые во время обострения её недугов были вынуждены, чтобы вытирать ей чрезмерный пот, часто её переодевать. По каковой причине, ближе к окончанию её земного пути, при обострении недугов я обязал её, напомнив об обете послушания, снять эту цепь, что она и сделала, хотя весьма неохотно.
Сверх того, поначалу её бдения длились до утреннего часа, о чём пространнее, даст Бог, будет сказано ниже, а впоследствии ей постепенно дано было побороть сон настолько, что в течение двух дней она спала от силы полчаса и даже на такой сон не соглашалась, за исключением случаев, когда телесные немощи принуждали её к тому. И как-то сказала она мне, что ни одной брани победа не стоила ей таких усилий, как в брани со сном, и нигде она не встретила столько трудностей.
[62] Далее, если бы в пору нашего с ней знакомства ей встретились умные собеседники, она вне всяких сомнений провела бы сто дней и столько же ночей без еды и питья, говоря о Боге; и нисколько бы при том не утомилась, более того, становилась бы всё веселей и бодрее. Ещё она мне несколько раз сообщала, что в сей жизни её ничто так не освежало, как говорить или общаться о Боге с умными людьми, в чём мы, находясь рядом с нею, убедились на опыте. Ибо же мы воочию наблюдали, что, получая возможность поговорить о Боге и открыть то, что таилось у неё в сердце, она даже внешне выглядела бодрее, крепче и веселее, а когда ей того не позволяли, изнемогала и едва ли не испускала дух.
То, что я сейчас сообщу, [служит] к чести Господа Иисуса Христа, её вечного Жениха, а также к её прославлению – и моему постыжению. Часто, говоря со мною о Боге и углубляясь в рассуждения о Его высочайших тайнах, она надолго затягивала разговор, и я, совершенно не поспевая за мыслию её, да и отягчённый дебелостью плоти, поддавался сонливости; она же, говоря о том, была целиком поглощена Богом и всё продолжала свои речи, пока не замечала моей дремоты. Когда же с запозданием она обращала внимание на то, что я сплю, то громким хлопком будила меня, говоря: «Что ж вы ради сна лишаетесь пользы для души своей? Я стене говорю слова Божии или вам?!»
[63] Помимо же всего этого, желая подражать святому Отцу, явившемуся ей, сиречь бл. Доминику, она ежедневно свершала три самобичевания железной цепью: первый раз – за себя, второй – за живых, третий – за умерших. Ведь в книге жития бл. Доминика написано, что так обычно поступал прославленный Отец, чему она и подражала долгое время, но после того, как на неё навалилось великое множество недугов, не смогла продолжать. Когда же я втайне спросил у неё, каким образом она творит сие покаяние, она хоть и робко, но всё-таки призналась мне, что каждое самобичевание занимало по полтора часа, и почти никогда не случалось такого, чтобы кровь с плеч не стекала струйками к ногам. Узри, читатель, как совершенна была сия душа, которая трижды в день устраивала телу своему кровопускание, чтобы кровью воздать за Кровь Спасителя. Узри, скольких душевных сил [стоили труды] сии, совершаемые на заре её подвижнического жития среди отеческих пенатов без наставления, без руководства и примера со стороны живших рядом.
[64] Читай деяния святых, всматривайся в жития отцов египетских, не забудь исследовать сами Священные Писания и посмотри, найдёшь ли где что-нибудь подобное! Обнаружишь Павла – первого пустынника, который долго жил один в пустыне, но при этом каждый день ворон приносил ему полхлеба. Антония – знаменитейшего своим уставом, который дивные подвиги совершал деятельно и страдательно (т.е. как сам накладывал на себя ограничения, так и терпел внешние тяготы, включая яростные бесовские нападения. – прим. пер.), но вспомнишь и то, что он посещал разных отшельников и, как цветы, говорят, собирая, поучался от каждого какой-нибудь добродетели. Про Иллариона бл. Иероним сообщает, что тот, ещё будучи ребёнком, сначала пришёл к Антонию, а получив от него наставление, отправился в пустыню и там после мужественной борьбы одержал победу. Но и оба Макария, и Арсений, и прочие (которых было бы слишком долго перечислять) имели по одному или нескольку учителей и наставников, которые словом и примером вели их по пути Господню, и то всегда в пустынях или в монастырях, превосходно устроенных и управляемых. А сия истинная дочь Авраама, читатель, как видишь, не в монастыре или в пустыне, а в собственном доме отеческом, без какого-либо посторонней человеческой помощи или примера, а при помехах от множества домашних достигла такой степени совершенства в постничестве, каковой ни один из них достигнуть не мог. Что мы скажем на это? Умоляю послушать ещё чуточку.
Священное Писание упоминает, что Моисей дважды и Илия один раз совершали сорокадневный пост без пищи и питья, что и Сам Спаситель исполнил по свидетельству Евангелия, но о многолетнем посте мы доселе не слыхали. Иоанн Креститель, хотя и устремился, ведомый Богом, в пустыню и обитал там, однако говорится, что он мёд ел дикий и саранчу или коренья травные, а чтобы он держал строгий пост, такого не написано. Только о Магдалине я нашёл упоминание (не в Священном Писании, а в её жизнеописании и в надписи в её гроте (в Сен-Бом близ Марселя. – прим. пер.), которая доселе сохранилась) , что она свершала такой пост тридцать три года, стоя на скале. Именно поэтому, я считаю, сам Господь и его Преславная Матерь, как будет, даст Бог, описано ниже, назначили сей деве Магдалину наставницей и матерью.
Итак, что мы теперь скажем? Ничто не мешает ясно понять, что [сила], каковой преподобная дева благодаря Господу обладала, являлась в высшей степени исключительной благодатью и даром, который доселе никто не получал, что пространее будет объяснено ниже, если изволит сам Господь щедродательный.
[65] Впрочем, не подумай, любезнейший читатель, что я посредством всего вышесказанного хотел поставить сию деву в святости выше всех вышеперечисленных святых, или же что я производил предосудительные сравнения между святыми. Не настолько я безумен, добрый читатель: ведь я упомянул даже Спасителя среди прочих, с Коим, как я знаю, кощунственно сравнивать какого-либо святого; другие же святые, коих имена я назвал, представлены мною не для сравнения, а чтобы ты, во-первых, мог оценить, каково величие Бога нашего, Который по своей неиссякаемой щедрости не престает ежедневно измышлять новые дары, дабы святых Своих совершенствовать и украшать; во-вторых, чтобы ты обратил внимание и тщательнее рассмотрел исключительные качества сей девы, ведь ты знаешь, что, никого не оскорбляя, Церковь поёт о всяком святом: «Не было подобного ему» (Сир. 44:19 – в качестве строчки антифона мессы в память какого-либо архиерея-исповедника. – прим. пер.), потому что всё проистекает из безмерной мощи и милости Освящающего их, Кто может и хочет каждого из святых Своих украсить славой несравненного дара.
[66] Но чтобы мы не слишком отклонялись от нашего повествования, [положим, что] каждый уже может понять из сказанного, до какой худобы должно было дойти то тело, которое постоянно укрощали столь многими и суровыми подвигами и порабощали духу непрерывными наказаниями. Ибо мать её, которая всё ещё жива, как-то раз рассказала нам, что до того, как её дочь начала подвергать себя столь тяжким покаянным подвигам, она так сильна была и крепка телом, что груз, подвезённый к двери её дома на спине быка или осла, без труда подняв, проворно несла на собственных плечах по двум длинным многоступенчатым лестницам до самого верха дома. И была она, как сообщает мать, вдвое шире и толще во всех членах своего тела, чем потом в двадцать восемь лет. Неудивительно же, что она так исхудала, более того, странным кажется и является (и я не думаю, что сие могло произойти без чуда) то, что она не исчахла совсем. Потом, в то время, когда я был знаком с нею, любой мог заметить, что она была весьма слабосильна и худа, потому что, когда дух возрастает, плоть неизбежно убавляется (ср. Ин. 3:30), как бы одолеваемая им. Однако, несмотря на это, трудилась она всегда неутомимо, а паче всего – для спасения душ, хотя и страдала постоянно многими телесными недугами. Таким образом, явилась словно бы другая Екатерина, которая страдала от истощения, но трудилась духом, который, будучи насыщен и крепок, изнутри поддерживал и укреплял немощную плоть.
[67] Что ж, возвращаемся к тому месту истории, где мы изначально прервали её своей речью. Когда святая дева, получив келью и полную свободу посвятить себя Богу, начала с величайшим (как было сказано) усердием восходить к Жениху, древний змей не отказался, хоть и будучи побеждён, от новых попыток досаждать ей. И подступил он к дочери Евы, то есть к Лапе, матери девы, и посредством плотской любви, коей она тело дочери любила более духа её, побудил её мешать покаянным подвигам дочери. Ибо, когда он проведала, что та бьёт себя железной цепью, то возвысила голос и с громким плачем, сетуя, сказала: «Дочка, дочка, я прямо вижу тебя мёртвой; ты себя, несомненно, забьешь! Горе мне! кто отнял у меня дочь мою? Кто принёс мне беды эти?» Продолжая в том же духе, старуха та прибавляла к своим крикам стоны и сопровождала их то и дело безумными действиями, царапая себя и волосы свои поседелые вырывая, как будто уже воочию видела дочь почившею. А крики эти часто приводили в волнение целый квартал, так что почти все соседи сбегались посмотреть, что за новое зло иль несчастье постигло старушку Лапу.
[68] Когда же она заметила ещё и то, что дочь спит на голых досках, она силою затащила её в свою комнату и заставила ночевать с собою в одной постели. А она, не в скудной мере просвещённая духом премудрости, видя такое, преклонила колени перед матерью и, утешив её нежными и смиренными словами, умоляла, чтобы та, оставив всякую горячность, попыталась успокоиться, поскольку она охотно подчинится её приказаниям и ляжет с нею в кровати. Затем же, дабы успокоить мать, она на некоторое время примостилась на краешке кровати, напряжённо при этом размышляя, а после того как мать заснула, тихонько встала и вернулась к своим святым упражнениям. Но и сие она не смогла долго скрывать от матери, ибо не бездействовал враг рода человеческого, ненавидевший её блаженные труды.
И прибегла она к такой хитрости: чтобы лишний раз не огорчать мать, брала тайком с собой дощечку-другую, и когда приходилось спать в постели, украдкой подкладывала их под простыню, чтобы лёжа чувствовать привычную жёсткость и таким образом не менять своего святого обычая. Когда ж через несколько дней её мать и это обнаружила, она сказала: «Зря я, как видно, стараюсь. Ты, я так понимаю, не переменила намерения; лучше мне смотреть на это сквозь пальцы. Спи, пожалуй, где привыкла». Итак, убедившись в стойкости её, она позволила ей в дальнейшем жить по внушению Всевышнего.
И на этом нашей главе конец. А то, что описывается в ней, я узнал от самой преподобной девы, сиречь, что касается поста, других подвигов и порядка их. Кое что, впрочем, сообщила Лапа, родительница её, и некоторые дамы, что были вхожи к ним. Но кое-что я увидел и узнал сам, и прежде всего – о её несравненном даре постничества.
[ГЛ. VII]
[69] Итак, святая дева, возвратившись после вышеназванной победы к привычным ей святым упражнениям, стала действовать ещё усерднее, поскольку видела, что враг рода человеческого нападает на неё яростнее и чаще. Ежедневные стоны, ежедневные слезы: непрестанно она пыталась достучаться до слуха Божия, чтобы удостоил Он её получить долгожданный хабит, напоминая, что Бог в щедроте Своей чрез благословенного отца Доминика обещал ей оный. Ведь она думала, что житие сообразно обету девства дотоле не будет защищёно от помех со стороны её домашних, пока она в вышеупомянутый святой хабит не облачится. Ибо же знала она, что после принятия названного хабита все попытки выдать её замуж прекратятся, и ей будет позволено свободнее предаваться служению Жениху своему. По этой причине она добивалась от родителей и преследовала просьбами сестёр покаяния бл. Доминика (которых в вышеназванном городе в просторечии называют «мантеллатами»), чтобы они изволили принять её в свои члены и удостоили её получить хабит святого их чина. Мать, как правило, воспринимала сии просьбы без особого восторга и хотя не давала дочери отрицательного ответа, всё же постоянно думала, как бы отвратить её от сих крайностей. И вот, с этой целью она вознамерилась посетить природные купальни и взять туда свою дочь, дабы, понемножку разнежив её телесными удобствами, попробовать отвратить от сурового подвига. А я не думаю, что сие могло бы свершиться без козней древнего змия, который всеми силами старался вырвать пылкую невесту из объятий вечного Жениха, а препростую оную Лапу исподтишка наущал коварствам.
[70] Но поскольку «не может быть совета вопреки Господу» (ср. Прит. 21:30), оная Христова невеста, победоносным оружием справа и слева защищённая (ср. Вульг. 2 Кор. 6:7), все козни врага обращала к своей пользе и его истреблению (ср. 2 П. 2:12). Ведь она изобрела новый способ смирять собственное тело даже среди удобств, ибо, делая вид, что хочет выкупаться как можно лучше, она направлялась к источникам, из которых шла серная вода и, терпеливо подставляя горячим струям обнажённую нежную плоть, подолгу смиряла хрупкое тельце – сильнее, чем при бичевании железной цепью. Ныне припоминаю, что когда однажды её мать при ней заговорила об упомянутых купальнях, она наедине поведала мне то, о чём выше написано, добавив, что, желая творить сие беспрепятственно, убедила мать, что предпочла бы купаться после того, как все уйдут, что и делала. Ибо она знала, что в присутствии матери никак не смогла бы сего творить. Когда ж я спросил её, как она могла выносить такой жар, не подвергая опасности жизнь, она в своей голубиной простоте ответила: «Я, находясь там, постоянно помышляла о муках ада и чистилища и молила Творца моего, Коего столько оскорбляла, чтобы по милости Своей изволил Он принять взамен мук, которые я заслужила, те, что сношу добровольно. И пока я крепко держалась за мысль, что по милости Его сию благодать получу, сладость мне приносило то, что я терпела, хотя страдание я чувствовала».
[71] По окончании сего [отдыха на купальнях] они вернулись домой, и святая дева незамедлительно вернулась к своим обычным подвигам. Когда мать сие заметила, она отказалась от дальнейших попыток изменить её, хотя всё никак не могла сдерживаться и постоянно роптала на то, что она так сурова с собой. А дочь, не забыв о своей святой цели, пропуская мимо ушей роптания матери, каждый день приставал к ней, чтобы сходила к упомянутым сёстрам покаяния бл. Доминика и убедила не отказывать дочери в хабите, коего она так горячо просит. Что мать, побеждённая её настойчивостью, и исполнила. Однако сёстры преждеупомянутые ей поначалу ответили, что у них нет обычая облачать в оный хабит девиц или молодиц, а только вдов зрелых лет и пользующихся доброй славой, что готовы посвятить себя служению Богу. А так как сёстры оные не имеют никакой обители, а пребывают каждая в своём доме, то совершенно необходимо, чтобы каждая сама знала, как управлять собой.
О причине сего ответа ты, читатель, яснее и подробнее услышишь, даст Бог, непосредственно в следующей главе. Ныне же продолжим рассказ.
Итак, мать Лапа вернулась к деве с ответом, для дочери неприятным, но для неё самой более чем приятным. Дева же Христова, ничуть не поколебавшись из-за этого в своем уповании, зная, что обещание столь славного Отца никак не может быть нарушено, а должно в совершенстве исполниться, продолжала настаивать, убеждая мать из-за того ответа отнюдь не отступать от просьб, но вовремя и не вовремя настаивать (ср. 2 Тим. 4:2), стараясь добиться от названных сестёр упомянутого хабита, что она, всякий раз уступая просьбам своего чада, и исполняла, но неизменно приносила от сестёр тот же самый ответ.
[72] Между тем случилось так, что дева Христова заболела неким телесным недугом, который обычно досаждает всем подросткам, прежде чем достигнут зрелого возраста, а может быть, и чрезмерный жар, который она претерпела под горячими потоками, был причиной, впрочем, лично я думаю, что всё произошло по Божественному промыслу не без тайны.
Ведь вся кожа тельца её покрылась некими нарывчиками или, если выражаться по-врачебному, мелкими абсцессами, так что невозможно было различить её черты, и сопровождалось это изрядной горячкой. Увидев сие, мать Лапа (которая, хотя нежно любила всех своих сыновей и дочерей, но сию, которую вскормила своим молоком, любила нежнее) сильно огорчилась. Причём она не могла предположить, что причиной тому было воздержание, потому что оный недуг явно происходит более от излишества, чем от недостачи; к тому же он одинаково свойствен и мальчикам, и девочкам.
И вот, огорченная мать, сидя у постели дочери, почти непрестанно потчевала её всевозможными лекарствами и утешала какими только знала словами. А та, в пору болезни ещё более укрепившись в устремлении души своей, видя, что подоспело время подтолкнуть мать к исполнению оного, отвечала мудро и ласково: «Если хочешь, милая матушка, чтобы я выздоровела и окрепла, сделай так, чтобы исполнилось моё желание о облачении в хабит Сестёр покаяния бл. Доминика, а иначе, уверяю тебя, Бог и бл. Доминик, призывающие меня на своё святое служение, устроят так, что не увидишь ты меня более ни в оном хабите, ни в другом каком».
[73] Услышав такой ответ ещё не раз, мать её, крайне испуганная, страшась смерти дочери, поспешно отправилась к многократно упомянутым сёстрам и так горячо их умоляла, что, побеждённые её просьбами, они переменили свой ответ, сказав: «Если она не слишком ладна станом или хороша, то ради её и вашего желания, коль оно так горячо, мы могли бы её принять. Если же она окажется слишком хороша, мы опасаемся (как уже сказали), что грозит нам соблазн из-за коварства людского, царящего ныне в мире, так что в таком случае мы никак не сможем согласиться». На что мать им сказала: «Придите и посмотрите (ср. Вульг. Ин. 1:46; Отк. 6:1) и скажите это самим себе». Тогда они послали вместе с Лапой двух или четырех из дам своих, что были более прочих деятельны и сметливы, к хворавшей деве, чтобы посмотреть на её телесное состояние и исследовать умственное расположение. Придя к ней, они, хотя и не увидели в святой деве особой красоты (как потому, что она и от природы не была чрезмерной, так и потому, что недуг настолько обезобразил ей тело, что её черты едва можно было различить), зато слова, коими она выражала пыл своего устремления, а также благоразумие и рассудительность девушки рассмотрели и заметили с изумлением и радостью, понимая, что она, будучи телом девицей, а умом – старицей, многих пожилых превзойдёт добродетелями пред Богом. По этой причине, получив великое назидание и возвеселившись, они удалились от неё и, вернувшись к своим сподвижницам, поведали с немалой радостью, что увидели и услышали.
[74] А те, уразумев сие, заручились предварительно согласием Ордена, устроили общее собрание и единодушным волеизъявлением приняли её в сёстры, а матери возвестили, что, как только дева Христова исцелится от оного недуга, пускай приведёт её в церковь Братьев-проповедников, дабы, согласно обычаю, в присутствии всех братьев и сестёр, которые опекали их (т.е. монашествующих первого и второго ордена, руководивших членами третьего – мирского. – прим. пер.), Екатерина приняла столь долгожданный хабит бл. Доминика. Когда мать возвестила о том деве, она тут же с радостными слезами воздала благодарения Жениху своему и благословенному отцу Доминику, который наконец-то довёл до свершения обещание своё. Затем она стал молиться – не ради тела, а ради того, чтобы исполнилось устремление души её, – да закончится поскорее оный недуг телесный, дабы обет её, который так долго откладывался, не оказался отложен ещё далее из-за этого [недомогания]. И если прежде она ликовала о недуге своего тела и с величайшей охотностью переносила в любви к Жениху своему, то теперь она начала тяготиться оным и непрестанными молитвами старалась достучаться до слуха Всевышнего, чтобы Он без промедления избавил тело её от недуга, препятствовавшего исполнению сердечного её желания – что и совершилось. Ибо через несколько дней она исцелилась, поскольку не подобало Тому, с чьей волей она сообразовывалась с величайшим рвением, отказать ей хоть в чём-нибудь. Впрочем, чего бы она ни алкала и ни искала, всё к Тому направляла, Кого всеми силами души своей любила и на служение Кому себя целиком обратила и полностью посвятила.
[75] Итак, хотя по выздоровлении Екатерины мать всё ещё явно искала повода для задержки, однако настойчивостью и упорством дева добилась от неё своего: пришёл день и час, назначенные Божественным провидением, когда она получила долгожданный хабит к немалой сердечной для себя радости. И вот, пришли мать и дочь в вышеназванную церковь, и в присутствии всех сестёр да к общей их радости брат, который в то время их опекал, облачил преподобную деву в одеяние того вида, что наши отцы повелели носить в знак невинности и смирения, сиречь белого и черного цвета, дабы белизна соответствовала невинности, а чернота – смирению. И не было (по моему суждению) у какого-либо другого иноческого сообщества хабита лучше, который бы точнее отображал душевный строй (habitum interiorem) святой этой девы. Ведь она со всяческим тщанием умерщвляла собственное тело, угашая снаружи жизнь ветхого человека вместе со смертоносной его гордыней – и это наилучшим образом обозначается чёрным цветом; и невинностью детской проникнувшись, как было сказано выше, не только телесно, но и душевно, всеми силами к вечному Жениху, Который есть истинный свет, тянулась, дабы самой просветлеть – и это не менее точно символизируется белизною. А если бы её одеяние было либо полностью чёрным, либо полностью белым (терциарии Отшельников св. Августина и камальдулов соответственно. – прим. пер.), то оно могло бы символизировать лишь одно из этих двух качеств; если же бы вы использовали сизый или коричневый цвет (терциарии францисканского ордена. – прим. пер.), то действительно могли бы обозначить им умерщвление плоти, но не ясность душевную и чистоту.
[76] Более того, подумав, я прихожу к выводу, что если бы те сёстры оказались внимательнее, они и в первый раз отнюдь не отказали бы её матери, когда она просила о хабите [для Екатерины]. Ведь она носила оный хабит с куда большим правом, основанием и достоинством, чем те, кто не мог похвалиться девственностью. Итак, не подобало отказывать преподобной деве в хабите, который святыми отцами назначен знаком невинности, ведь Екатерина паче прочих просияла невинностью девства, которая, несомненно, предпочтительнее всякого вдовьего целомудрия. Осмелюсь поэтому сказать, что в городе том оный хабит не достиг в совершенстве [своего смысла], доколе преподобная сия дева не облачилась в него и не стала его носить. Ибо она стала в том месте первой поистине достойной девой, что прияла сей хабит – чему, однако, впоследствии последовали многие девы, так что о ней воспевали Давидов оный стих: «Приведутся к Царю девы во след Её» и т.д. (Пс. 44:15. Пер. Юнгерова). А как сие стало, даст Бог, будет пространнее рассказано ниже. Но теперь положим здесь конец сей главе и приступим к исследованию корня и основания того иноческого чина, в который Божественное провидение поместило преподобную сию деву, дабы из-за неведения об оном мнение о его святости в чьём-либо уме не умалилось. Ну а то, что описывается в этой главе, я узнал как от самой девы, так и от родительницы её Лапы, хотя события, связанные с получением хабита, известны всем её знакомым и даже не требуют подтверждения.
[ГЛ. VIII]
[77] Всем любознательным я в настоящей главе сообщу то, о чём читал, что слышал от достойных веры людей в различных частях Италии, а также то, о чём свидетельствуют деяния блаженнейшего отца нашего.
Сей преславный поборник католической веры и подвижник Христов бл. Доминик, будучи священноустроителем благополучия Церкви воинствующей, самостоятельно и совместно с братией своей триумфально оборол еретиков как в Тулузе, так и в Ломбардии, так что (как было надлежащим образом подтверждено на его канонизационном процессе пред лицом Верховного понтифика) в одной только Ломбардии обратил свыше ста тысяч еретиков (это число сообщается Стефаном, Свидетелем №7, но в своих показаниях он не точно выразился, следует ли понимать тут еретиков или верных, утвердившихся в католической вере. – прим. лат. изд.), как учением своим, так и чудесами, но тем не менее, ядовитое учение упомянутых еретиков так сильно заразило умы людские, что почти все церковные достояния были захвачены мирянами, которые стали владеть ими как наследственной собственностью, что – к сожалению – и сейчас зачастую творится во многих частях всё той же Италии. Из-за этого понтифики были вынуждены нищенствовать, и у них не было никаких средств, чтобы противостоять заблуждению; они не могли даже помогать с пропитанием духовенству или бедноте сообразно обязанностям своего сана. Узрев сие, святой отец возревновал духом и, не в силах терпеть нищету Церкви (хотя лично для себя и своих последователей он избрал крайнюю нищету), стал подвизаться за Её благосостояние. Итак, призвав некоторых мирян, боящихся Бога и хорошо знакомых ему, он начал вести с ними переговоры об устроении своего рода святого ополчения, которое помогало бы возвращать церковные владения и защищать их, а также добросовестно противостоять еретическом злодеяниям – что и было сделано. Ибо тех, кто вызвался добровольцами, он обязал дать ему присягу творить в меру своих сил всё, что будет им сказано, не считаясь с опасностью ни для себя лично, ни для того, чем владеют. А для того, чтобы их супруги не препятствовали сему святому делу, он распорядился, чтобы супруги, сиречь жёны, тоже присягнули, что не будут препятствовать мужьям, но станут сотрудничать с ними во всём, что для них возможно. И обещал святой обеим сторонам семейной четы, соблюдающим сие, надёжное упование на вечную жизнь; и назвал их Братией ополчения Иисус Христова. Однако, дабы хоть каким-то знаком выделить их среди прочих мирян и дать им возможность творить ещё и какие-либо сверхдолжные дела сверх обыкновения, он уделил им цвет собственного хабита, сиречь предписал, чтобы как мужчины, так и женщины независимо от покроя одежды всегда носили белое и чёрное, чтобы оба эти цвета служили внешним показателем невинности и смирения. Сверх того он назначил им читать каждый день некое отмеренное число Молитвы Господней и Ангельского приветствия во время каждого канонического часа, чтобы они не были лишены участия в Оффиции.
[78] После того, как блаженный отец, устроив сие, покинул бремя плоти и преселился на небеса, а с умножением чудес его Апостольский престол, причислив его к лику святых, представил всеобщему почитанию, Братия сии и Сёстры названного Ополчения Иисуса Христа, желая воздать своему уже прославленному Основателю особую благодарность и честь, постановили изменить свое наименование и называться Братией покаяния Бл. Доминика. В изрядной мере привело их к тому также и то, что благодаря заслугам и чудесам блаженнейшего отца, а также учительным трудам его Братьев, и еретическая зараза уже почти угасла, и внешняя борьба уже не казалась слишком необходимой, а оставалось только покаянными подвигами бороться с внутренним врагом, почему, собственно, они и выбрали себе наименование [братства] «покаяния». Наконец, поскольку день ото дня возрастало воинство верных братьев-проповедников (среди коих, словно утренняя звезда, просиял мученик и девственник Пётр (Веронский, пам. 29 апреля), который, будучи убит, больше врагов попрал, чем при жизни), была целиком уничтожена как бы стая лисиц, жаждавших разорить виноградник Господа Саваофа (ср. Песн. 2:15, Ис. 5:7), и силою Господней был возвращён мир Святой Церкви Божьей, а потому оное ополчение лишилось цели, а следовательно, и занятия. Но когда мужчины из этого сообщества (status) умирали, пережившие их жёны, памятуя иноческую жизнь, которую они вели вместе с мужьями, не осмеливались заново выходить замуж, но продолжали сохранять свои обеты (statum) до самой смерти. Видя сие, другие вдовы, не входившие в союз, но решившие остаться во вдовстве, пожелали следовать примеру упомянутых Сестёр покаяния бл. Доминика и подражать их правилам как средству исцеления от своих грехов. Затем, возросши постепенно числом в разных частях Италии, они стали понуждать пребывавших там братьев-проповедников научить их правилам жизни, что были установлены блаженным Домиником. Поскольку же правила те не были строгими, некий святой памяти отец, на кого была возложена забота обо всём ордене, звавшийся братом Муньо (де Самора, 1237-1300 гг.), испанец по происхождению, предал те правила жизни письменам – каковых они и по сей день придерживаются и называют Уставом, хотя это не должно называть Уставом в собственном смысле слова, поскольку и оный союз тоже нельзя в собственном смысле назвать уставным (т.е. монашеским. – прим. пер.), ведь он не подразумевает принесения трёх обетов, являющихся основными для любого иноческого сообщества.
[79] Далее, по мере того как в различных частях Италии увеличивались число вышеупомянутых сестёр и росли их заслуги, блаженной памяти владыка Гонорий, четвертый папа из носивших сие имя, обоняя благоухание доброй славы их, позволил им буллой слушать во время интердикта богослужения в церкви Братьев-проповедников. Точно так же владыка Папа Иоанн XXII, после того, как он провозгласил Климентину (Одна из Constitutiones clementinae, «Климентовых конституций» – канонических постановлений, разработанных на Венском соборе 1311-12 гг. под руководством папы Климента V. – прим. пер.) против бегинок, а также бегардов, заявил в своей булле, что не следует понимать, будто оная декреталия относится к упомянутым Сёстрам покаяния блаженного Доминика, пребывавшим в Италии, и что она ничего из их правил не отменяет.
Итак, читатель, теперь тебе известно, почему в описываемой время в сообществе состояли только женщины и почему оные сёстры в первый раз ответили, что не в их обычае принимать девиц, а только испытанных вдов. Ну а то, что тут мною описано, я большей частью нашёл в рукописях в разных частях Италии, хотя кое-что (немного, правда) я узнал, расспрашивая и выслушивая достойных доверия старых членов Доминиканского ордена обоих полов и Сестёр покаяния бл. Доминика. Так что завершим-ка сию главу, дабы вернуться к нашей основной теме.
[80] Хотя, приняв названный хабит, святая дева не принесла трёх основных иноческих обетов (ибо, как было сказано, в сем сообществе это не считается нужным), тем не менее она твёрдо решила для себя все оные обеты соблюдать в совершенстве. А поскольку за целомудрием дело не стало, ведь обет девства уже был дан, то в отношении послушания она решила быть во всём послушной не только брату, служившему в то время наставником сестёр, и приорессе, но и своему духовнику, чего неизменно до самой смерти придерживалась так строго, что имела дерзновение при преставлении от сего мира к Отцу сказать: «Никак не могу припомнить, чтобы я хоть когда-нибудь преступила послушание». Но поскольку некие завистники святости, язвительные и лживые хулители, осмеливались порой ещё при жизни её говорить обратное, то дабы ложь их увязла в лживых устах, я хочу уведомить тебя, дражайший читатель, что даже если бы сия преподобная дева не испытала среди земных трудов никакой иной скорби кроме той, которую навлекали на неё до крайности нерассудительные учителя, то её за одно уж долготерпение можно было бы в некотором смысле считать мученицей. Ибо, отнюдь не разумея великолепия даров, ниспосланных ей свыше, а ещё чаще – не веря в них, они пытались вести её путём других людей, живущих обыкновенно, и не оказали чести присутствию Величия, чудесным образом провождавшего её [своей] стезёй; когда же они стали непрестанно наблюдать явные признаки сего, то подобно фарисеям, которые, также видя знамения и чудеса, роптали об исцелении, совершённом в субботу, говоря: «Не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы» (Ин. 9:16). Сама ж она, поставленная Богом посреди такого рода раздора, стараясь, насколько удавалось, повиноваться людям и всё же не желая оставлять пути, который указал ей Сам Господь, таковою терзалась мукой, что ни словом сказать, ни пером не описать. Ах, Господи Боже мой, сколько раз о ней говорили, что она изгоняет бесов силою веельзевула, князя бесовского (Лк 11:15), то есть, что видения её не от Бога, но от диавола – хотя же ясно видели не только чудеса, но и то, что вся жизнь её была чудом. О них подробно будет рассказано в своё время ниже, а потому здесь я не буду распространяться.
[81] А [обет] бедности она соблюдала так совершенно, что,
живя в отеческом доме, который в то время изобиловал мирскими благами, вообще
ничего не брала по своей воле и для самой себя, кроме того, что раздавала
нищим, на что имела от отца великодушное разрешение. Она была настолько дружна
с бедностью, что, как призналась мне втайне, всё безрадостно было ей доме её,
пока она видела, как изобилует он благами земными. И она неустанно молилась
Всевышнему, чтобы, забрав богатство, Он изволил довести близких её до нищеты,
говоря: «Господи, разве сего [земного] блага прошу для родителей и братьев
моих? Не блага ли вечного? Знаю, что с сими [земными] благами сопряжено много
зла, много опасностей, а я не хочу, чтобы мои близкие хоть как-то в них
вовлеклись!»
«И услышал Господь голос её» (Дан. 13:44), и благодаря чудесными
случаям, не по своей вине, впали они в крайнюю нищету, как известно всем их
знакомым и подтверждается ими. Итак, положив сие в основание дивного своего
духовного восхождения, она после получения желанного хабита двинулась далее –
за пределы вышесказанного, а потому, думается мне, стоит перейти к описанию
первых плодов её совершенства.
[82] Когда исполнилось обещание благословенного отца св. Доминика, вернейшая дочь его, словно трудолюбивая пчела, начала повсюду собирать мёд, сиречь искать поводов и причин для того, чтобы себя сильнее укротить, а в объятия Жениха своего погрузиться полнее. Сего ради, обращаясь к себе, она говорила: «Вот, ты уже вступила в иноческую общину – не подобает тебе жить так, как ты доселе жила. Мирская жизнь миновала, наступила новая – иноческая, согласно уставу коей тебе нужно себя направлять. Подобает облечься в высочайшую чистоту и окутаться ею полностью, ведь белая риза её и означает. Затем, на то, что ты должна быть совершенно мертва для мира, ясно показывает чёрный плащ. Итак, смотри, что делаешь, ибо тебе надлежит пройти узким путем, которым идут немногие». И вот, ради лучшего соблюдения чистоты решила она хранить строжайшее молчание и ни с кем не заговаривать, кроме как при исповеди грехов своих. Посему, по словам её духовника, предшествовавшего мне в этом служении и сие сообщившего, а также предавшего записи, она в течение трёх лет непрерывно хранила молчание, при чём не говорила ни с кем, кроме духовника и только на исповеди.
[83] Он постоянно пребывала в замкнутой келейке и не выходила из неё, разве что в церковь. На обеды ей выходить было не нужно, ведь она была так худа (поскольку не ела ничего приготовленного, кроме одного хлеба, как было сказано выше), что ей было просто кормиться в келейке. Сверх того, постановила она в сердце своём никогда не приступать к пище иначе как со слезами (ср. Пс. 41:4 и 101:10), поэтому непосредственно перед трапезой она всегда сперва воздавала Богу слёзное приношение и, оросив душу свою, принимала затем пищу ради пропитания тела своего.
Пустыню она обрела в собственном доме и уединение – среди людей. Кто ж, однако, смог бы поведать иль описать бдения её, молитвы, размышления и слёзы?
Она поставила себе за правило, что ежедневно, в то время как братья-проповедники, коих она называла своими родными, спят, она будет бодрствовать. Когда ж братия благовестили к утрене, она со вторым ударом колокола и не раньше говорила Жениху своему: «Вот, Господи, родные мои и слуги Твои спали доныне, а я сторожила их пред Тобою, дабы Ты сохранил их от зол и от козней вражьих, а ныне они сами поднялись на хваление Твоё – храни же их, ну а я отдохну немного». И вот, положив вместо подушки чурбак, он преклоняла хрупкое тельце своё на дощатое ложе.
[84] Взирая на все сии [труды], преблагодарный Жених её, Который без сомнения сам дал ей силы для каждого [из них], как бы привлеченный её пылом, не пожелал оставить овцу столь превосходную без пастыря или поводыря и ученицу столь усердную и способную – без совершенного учителя, дал невесте Своей возлюбленной не человека, не ангела, но Самого Себя в наставники. Ибо ведь, как она поведала мне тайно, едва только она затворилась в келье, вселюбезный Жених её и Спаситель, Господь Иисус Христос, благоволил явиться ей и наставить её в полную меру всему, что будет полезно для души её. Посему, когда в тайной исповеди она зачитывала мне сии [наставления], обратилась ко мне с таким словом: «Примите, отче мой, как чистейшую истину, что ничему касательно пути спасения не учил меня никогда ни мужчина никакой, ни женщина, но именно Сам Господь и Наставник, души моей Жених драгоценный и пресладостный, Господь Иисус Христос, говоривший со мною либо во вдохновении Своём, либо в очном явлении, точно так же, как я сейчас говорю с вами». И призналась она мне, что в начале этого видения, которое, как и в большинстве случаев, было образным, но при этом воздействовало и на внешние чувства тела, так что она телесным ухом воспринимала голос – так вот, в начале, говорю, она устрашилась, как не обманул её враг, который часто принимает вид ангела света (ср. 2 Кор. 11:14).
[85] Что и самому Господу отнюдь не было неугодно; мало того, Он похвалил страх, сказав, «Путник всегда должен быть в страхе (ср. Вульг. Еф. 5:15), ибо написано: «Блажен человек, который из осторожности боится всего» (Прит. 28:15 – пер. Юнгерова). А хочешь, – молвил Он, – научу, как отличать видения Мои от видений вражьих?» Когда ж она со всяческой настойчивостью взмолилась о том, ответствовал: «Было бы просто чрез вдохновение так твою душу наставить, чтобы она тотчас стала отличать одно от другого, но ради пользы как твоей, так и других людей, расскажу-ка тебе сие на словах. Ибо учители, коих Я научил, говорят (и это верно), что видение Меня начинается с ужаса, но со временем наделяет ещё большим спокойствием; начинается с некоторой горечи, но всегда ещё более услаждает. Противоположные обстоятельства сопровождают видение вражье: ибо в начале, кажется, оно приносит некую радость, безопасность или сладость, но со временем в уме видящего постоянно возрастают страх и горечь. Сие как нельзя более правильно, ведь и пути Мои от его путей разнятся тою же разницей: ибо путь покаяния и заповедей Моих вначале кажется тернистым и трудным, но чем дальше по нему продвигаешься, тем он милее и проще; путь же пороков вначале кажется весьма приятным, но всегда в со временем становится горше и пагубнее. Но желаю Я дать тебе ещё один знак, ещё более безошибочный и верный. Знай наверняка, что, как Я есмь Истина, то Мои видения всегда приносят душе более глубокое познание истины, поскольку душе нужнее познание истины обо Мне и о себе, то есть чтобы она узнала Меня и узнала себя, каковое познание всегда приводит к тому, что он себя презирает, а Меня почитает, что и есть надлежащий долг смирения, ибо нужно, чтобы от видений Моих душа становилась смиреннее и, глубже узнав самоё себя и ничтожество своё, сильнейшим же к нему прониклась презрением.
А с видениями врага бывает обратное: ибо, как он есть отец лжи (Ин. 8:44) и царь над всеми сынами гордости (Иов. 41:26), и не может дать ничего помимо того, что имеет, то всегда от видений его возникает в душе некое самомнение или самонадеянность, что является подлинным проявлением гордости, и [душа после таких видений] остаётся напыщенной и надменной. Итак, всегда тщательно себя проверяя, ты сможешь судить, откуда явилось видение, сиречь, от Истины или от обмана; ибо Истина всегда душу смиряет, а обман придаёт гордости».
А Екатерина, как ученица, без малейшей лености и нерадения сохранила в памяти спасительное учение и передала его со временем мне и другим – как будет, даст Бог, сказано ниже.
[86] Итак, с тех пор видения небесные и откровения, а вместе с ними и посещения Господа, стали умножаться – причём до такой степени, что, как я не раз повторял многим в беседах о ней, едва ли найдётся двое людей, которые бы столь неустанно беседовали друг с другом, как сия преподобная дева – с Женихом своим и Спасителем всех, Господом Иисусом Христом. Ибо молилась ли она, размышляла или читала, бодрствовала или спала, так или иначе в большинстве случаев утешалась Его видением; более того, даже когда она беседовала с другими, иногда присутствовало сие священное видение, и с Ним она разговаривала мысленно, а языком телесным – с людьми. Но так не могло продолжаться долго, поскольку в такие мгновения её душу столь сильно тянуло к Жениху её, что весьма скоро, утрачивая власть над телесными чувствами, она приходила в экстаз. И именно здесь берут начало все дивные деяния, которые затем последовали: как необычайное для других постничество, так и дивное учение, а также настоящие чудеса, которые всемогущий Бог при её жизни явил очам нашим. А потому, поскольку это является основанием, корнем и источником всех святых деяний её и зримым средоточием всей жизни её чудесной, то, чтобы сие тебя, дражайший читатель, не поколебало, я нахожу необходимым поделиться с тобою тем, что повергает меня в немалое смущение. Ибо дабы не случилось такого, чтобы кто-нибудь недоверчивый сказал: «То, что ты описываешь, то слышала только она одна, и никаких других свидетелей не приводилось; она сама о себе свидетельствует, свидетельство её, возможно, не истинно (ср. Ин 8:13) – она могла обмануться или солгать», я вынужден написать здесь о себе кое-что, чего, если бы не требовала того честь сей девы святой, я вовек бы не предал бы огласке. Однако же я предпочитаю осрамиться, нежели позволить хоть как-то умалить честь её; лучше уж я буду краснеть перед людьми, чем, позволяя оскорблять деву, беречь свою стыдливость.
[87] Итак, хочу, чтобы ты знал, читатель любезный, что, когда, прослышав молву о ней, я стал близко с нею общаться, то поначалу меня (по попущению Божию – к лучшему) искушало многоразличное и разнообразное недоверие. Ибо я всеми путями и способами, какие мог изыскать, пытался разведать, от Господа ли свершения её, или ж с иной стороны (ср. Вульг. Ин. 10:1), были ли они истинны или ложны. Ибо пришло мне на ум, что ныне время оного третьего зверя в барсовой шкуре (ср. Дан. 7:6), означающего лицемеров; и [вспомнилось], что в дни мои я натыкался на некоторых, и преимущественно среди женщин, которые запросто могли тронуться головой, а ещё проще – поддаться вражьему соблазну, что явственно видно на примере первой матери всех; и многие подобные мысли представали тогда моему духу, что заставляло его колебаться в этом вопросе. Находясь, таким образом, на своего рода распутье, я не был уверен ни в одном [из решений], и когда в тревожном состоянии умственного шатания я возжаждал, чтобы меня направил Тот, Кто ни обмануть не может, ни обманутым быть, мне вдруг пришло в голову, что если бы мне удалось выяснить, что по её молитвам я могу стяжать от Господа одно великое и необычайное сокрушение во грехах моих, сверх всякого обыкновения моего, то это было бы для меня достаточным знаком того, что все свершения её исходят от Духа Святого: ведь никто не может обрести сего сокрушения, кроме как от Духа Святого; и хотя никто не знает, достоин ли он милости, ненависти или любви, однако сердечное сокрушение во грехах является великим знамением благодати Божией. И я не выдал сей мысли ни словом, ни звуком, но в полном молчании подступил к Екатерине и настоятельно просил её усердно молить Господа за меня, да отпустит Он мне грехи мои. Она же радостно ответила от полноты милосердия своего, что сотворит преохотно. Я со своей стороны заметил, что сие желание моё не уймётся, пока я не получу грамоты о сем отпущении, вроде тех, что даются римской курией. Когда же она, улыбаясь, спросила, какую же грамоту я хотел бы иметь о том, я ответил, что попросил бы вместо грамоты одного великого и необычайного сокрушения во грехах моих. На что она сразу же пообещала, что обязательно сотворит сие. И тогда мне показалось, что она поняла все мои мысли, и тут я ушёл от неё – в предпоследний, если не ошибаюсь, час дня (т.е. в шесть вечера. – прим. пер.).
[88] На следующий день у меня случился довольно сильный приступ одного из моих обычных недугов, отчего я слёг в постель, а при мне оставался некий сотоварищ – Богу и мне всячески преданный и любезный – брат Николай из моего Ордена, пизанец родом. Когда же она прослышала об этом (потому что в то время мы как путешественники останавливались в некоем монастыре сестёр того же ордена, а она оказалась недалеко от нашего жилища), то встала с постели, на которой лежала, сражённая лихорадкой и другими мучительными хворями, и сказала своей подруге: «Пойдём навестим брата Раймонда, ибо он страдает». И несмотря на возражение той, что, мол, не так уж это и нужно, а если бы и было, то ей тяжелее моего, она сверх всякого обыкновения поспешно пришла ко мне в сопровождении своей подруги и спросила: «Что с вами?» И несмотря на то, что прежде я от слабости едва мог хоть что-нибудь промолвить товарищу, собрался весь с силами, чтобы ответить, и сказал: «Зачем, сударыня, вы пришли сюда? Вам хуже, чем мне». Но когда она начала по своему обыкновению говорить о Боге и о нашей неблагодарности, когда мы оскорбляем такового Благодетеля, я, как бы окрепнув и в то же время вынуждаемый приличиями, встал с постели (при этом совершенно позабыв об обещании, которое она дала мне накануне вечером) и уселся на другую кровать, что была там рядом.
[89] Но по мере того, как она продолжала начатый разговор, внезапно явилось в душе моей некое необычайное осознание грехов моих, настолько ясное, что без всякого прикровения увидел я, как предстою суду праведного Судии и что без малейших сомнений заслуживаю смерти, по подобию тех, что каждый день за свои злые дела получают приговоры от судей века сего. Видел я также благость того же Судии и кротость, ибо Он меня, за прегрешения мои вполне справедливо заслужившего смерть, не только избавил от смерти, но и облёк, нагого, в одеяния Свои, и в доме Своём уложив меня и окружив заботой, и вверив меня слугам Своим, одною лишь благодатью своей бесконечной благости обратил смерть в жизнь, страх – в надежду, скорбь – в радость, позор – в честь.
Благодаря сим размышлениям, а точнее говоря, яснейшим видениям духовным, прорвалась плотина (ср. Вульг. Быт. 7:11) очерствевшего до крайности сердца моего, и явились источники вод, и открылись основания (Пс. 17:16) провинностей моих; и я разразился таким рыданием и рёвом, что, признаюсь со стыдом, я боялся, что грудь моя и сердце вот-вот лопнут. А она, которая как раз с этой целью и пришла, как только увидела это, с величайшей рассудительностью смолкла и дала мне насытиться слезами и рыданиями. Спустя же некоторое время после того, как я надивиться не мог своему необычайному новому состоянию, вспомнилась мне посреди плача моя просьба, высказанная накануне, и её обещание, и тотчас же повернувшись к ней, я сказал: «Не та ли это грамота, которой я вчера просил?» Екатерина ответила: «Она самая». И тут же встав, положила (если не ошибаюсь) руки мне сзади на плечи, сказав: «Памятуйте о дарах Божиих», – и тотчас удалилась, а я остался со своим товарищем, исполненный равно назидания и веселия. В сем [я готов поклясться] пред Богом, потому что не лгу.
[90] А в другой раз без какой-либо с моей стороны просьбы мне был дан ещё один знак её высокого достоинства, о чём ради чести её я чувствую себя обязанным тоже рассказать, хотя сознаю, что это усугубит позор мой. Случилось в вышеназванной обители так, что однажды она, обременённая многими недугами, лежала на убогой своей постели и, пожелав сообщить мне нечто, открытое ей от Господа, тайно попросила меня позвать. И придя к ней, я стал у постели её, а она, хоть и была в лихорадке, начала, по своему обыкновению, вещать о Боге и пересказывать то, что ей в тот день открылось. Ну а я, слыша сии слова, равно превозвышенные и другим людям непривычные, забыв, неблагодарный, первую благодать, что была уже получена мною, задумался в глубине души над чем-то: «А неужто всё, что она говорит, правда?» Когда же я так подумал и всмотрелся в лицо говорившей, внезапно лицо её преобразилось в лицо бородатого мужа, который, вперившись в меня неподвижным взглядом, чрезвычайно меня напугал. И было лицо то продолговато, средних лет, с недлинной бородой пшеничного цвета, и печать величия лежала на нём, что очевидно являло Господа: и никакого там иного лица я не мог в тот миг разглядеть, кроме оного. Когда же, устрашившись и ужаснувшись, я вскинул руки с выкриком: «О, кто это смотрит на меня?!», дева ответила: «Тот, Кто есть» (ср. Вульг. Исх. 3:13-14). При слове сем лик тот сразу исчез, и я ясно увидел лицо девы, которого раньше не мог различить. Тут я спокойно говорю, как перед Богом, ибо сам Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа знает, что я не лгу.
[91] А дабы ещё более подтвердить, что чудо сие (как ясно видно) совершено было Господом, признаюсь, что после сего чувственного видения (не могу сказать без румянца стыда) я воспринял изнутри умственное прозрение, столь великое и такое необычайное, в основном, о том, о чём она тогда говорила со мной – но о сем молчу, ибо я словно бы испытал то, что Господь, обещая Святого Духа, сказал ученикам: «И будущее возвестит вам» (Ин. 16:13). Вот, выходит, что я безумный, не отрицаю – а принудили меня к сему недоверчивые (ср. 1 Кор. 4:10; 2 Кор. 12:11). Лучше уж считаться среди людей дурачком, чем скрыть таковые священные свидетельства о сей деве. Ибо кто знает, не пожелал ли Господь показать сие мне, тогда ещё недоверчивому, чтобы я в должное время явил другим свидетельство её святости и этими свидетельствами преобразил души неверующих? Что ты сейчас говоришь или думаешь, о недоверчивый? Если отказываешься верить Марии Магдалине или другим ученикам, которые слишком (как мнит жестокосердие твоё) легковерны, то хоть Близнецу Фоме, ощупавшему раны, не откажись поверить! Если брезгуешь подражать легковерным, то уж не отрекайся от общности с недоверчивым, тебе подобным! Вот, я представляю тебе недоверчивого и более чем недоверчивого (ср. Мф. 11:9), ведь даже получив то знамение, которого просил, он всё ещё пребывал в неверии. Пришёл Господь и, явив лик Свой, ощутимо показал внешним чувствам и дал опытное подтверждение, что говорил чрез неё. Таким образом Он (позволю себе так выразиться) позволил Себя лицезреть недоверчивому Раймонду, как некогда предложил ощупать Себя Фоме, который звался Близнец. Ощупав же [раны Господни], Близнец оный воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20:28) Так что же странного тебе в том, что после двойственного видения восклицает ныне сей недоверок: «Господа моего и Бога моего невеста преистинная и истинная ученица!»
Для того, дражайший читатель, сие подобало сказать, чтобы, когда ты далее, даст Бог, услышишь об откровениях и видениях Екатерины, которым и о которых невозможно представить никакого свидетеля, кроме неё самой, не колебался ты и не смотрел свысока, но внимательно и благоговейно внимал святым урокам и священному учению, которые Господь, производивший их, показал тебе в немощном и хрупком от природы сосуде, который Он соделал драгоценным и крепким. Положим здесь конец сей главе, содержащей сведения, которые (помимо случившегося со мной) сообщила мне сама преподобная дева, а также нечто, воспринятое мною от молчания Того, Кого я выше упомянул.
[92] Итак, насколько Господь позволил, выше мы заложили основы веры, а теперь, коли поможет Тот, Кто есть Камень краеугольный, приступим к построению духовного здания. А поскольку души верные оживляемы и живут словом Господним (ср. Пс. 118:50; Мф. 4:4), то начнём с поразительного учения, данного сей преподобной деве её Учителем – Зиждителем всего.
Ибо рассказывала сия преподобная дева духовникам своим (среди коих был и я, недостойный), что в начале видений Божиих, сиречь когда Сам Господь Иисус Христос стал являться ей, однажды во время молитвы её Он явился ей и сказал: «Знаешь ли, дщерь, кто ты и кто я? Если сии две [истины] узнаешь, блаженна будешь. Ибо ты есть та, кого нет, а Я есть Тот, кто есть. Если будешь имеешь сие понимание в душе своей, то враг никогда не сможет тебя обмануть, и избежишь всех тенет его; никогда не согласишься ни на что, противное заповедям Моим, и без затруднений стяжаешь всякую благодать, всякую истину и всякую ясность».
О слово скромное и величественное! О учение краткое и как бы бесконечное! О безмерная мудрость, в речениях изложенная весьма кратких! Кто даст мне сил постигнуть тебя?! Кто откроет мне печати твои? (ср. Отк. 5:2) Кто сведёт меня в бездну твою, дабы исследовать глубины её? Может быть, ты и есть та долгота с широтою и высота с глубиною, постижения коих апостол Павел желал ефесянам, равно как и всем святым? (ср. Еф. 3:18) А может быть, ты – едино с любовью Христовой, превосходящей всякое человеческое разумение? (ср. Еф. 3:19)
[93] О дражайший читатель, сдержи шаг, да не минем несравненного сего сокровища, найденного нами на поле сей преподобной девы (ср. Мф. 13:44). Давайте постараемся раскопать [найденное] изнутри, ведь первые проблески указывают нам на великое изобилие богатств. Ибо непогрешимая Истина глаголет: «Если сии две [истины] узнаешь, спасена будешь». И ещё: «Если будешь имеешь сие понимание в душе своей, то враг никогда не сможет тебя обмануть», - и так далее, как приведено выше. Хорошо, как мне кажется, нам тут быть; сделаем же здесь три кущи (ср. Мф. 17:4), сиречь славе Господа Иисуса научающего [сделаем] с помощью разумения сказанных слов одну [кущу]; благочестию восприявшей учение Екатерины девы – с помощью благоговейных чувствований – одну; и доблести любого из нас, обретшего в сем жизнь, – с помощью бережного запоминания – одну. И так мы одновременно сможем и копать духовные богатства, и владеть ими, не имея более нужды стыдиться, прося (ср. Лк. 16:3).
«Ты есть, – глаголет Он, – та, кого нет». Разве это не так? Из ничего тварь всякая создана Творцом, ибо творить – значит создавать нечто из ничего. Также, предоставленная сама себе, она и стремится всегда к ничто, причём так сильно, что если бы Творец хоть на миг перестал сохранять её, она тут же обратилась бы в ничто. Когда [человек] совершает грех, который есть ничто, он всегда приближается к ничто, и не может он ничего сделать или помыслить прямо от себя, согласно Апостолу. (ср. 2 Кор. 3: 5). И неудивительно, ведь он ни существовать сам по себе не может, ни даже сохранить бытие. Поэтому тот же апостол восклицает: «Кто почитает себя чем‐нибудь, будучи ничто…» и т.д. (Гал. 6:3)
[94] Так что видишь, читатель, что всякая тварь окутана небытием? Ведь сотворённая из ничего и сама по себе всегда стремящаяся к ничему, она, согласно Августину, чрез прегрешение становится ничем, и ничего не может сотворить самостоятельно, как свидетельствует сама воплощенная Истина, изрекшая: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин 15:5), и ничего помыслить, как уже было сказано. Итак, ясно доказано, что её – нет. Ибо кто осмелится утверждать, что нечто есть, когда оно есть ничто?
Сколько из этого извлекается заключений – правильных и многополезных для устранения всяческих пороков, – прекрасно сознавали те святые Божии люди, которые, будучи научены Святым Духом, прониклись сей премудростью. Ибо же как горделивое надмение может поразить душу, которая знает, что она ничто? Как похвалится она каким-либо свершением, коли знает, что оно не её? Как она сочтёт себя чем-то выше других, если совершенно искренне считает, что её самой нет? Каким образом она презрит других или позавидует другим, если презирает себя вплоть до того, что вменяет в ничто? Разве сможет она хвалиться внешним богатством, когда уже пренебрегла всей собственной славой? Ибо вот что говорит слово воплощенной Премудрости, глаголя: «Если Я ищу Моей славы, то слава Моя – ничто» (ср. Ин. 8:50, 54). Опять же, как она может сказать, что внешние вещи принадлежат ей, коли прекрасно знает, что сама принадлежит не себе, а Тому, кто создал её? Наконец, кто соблазнит сию душу к усладам плотскими удовольствиями, когда она в сем размышлении ежедневно видит себя как нечто не-сущее? В итоге, когда же ей лениться, раз она нищенскими просьбами взыскует собственного бытия, зная, что оно ей не принадлежит? Благодаря сим рассуждениям, хоть и крайне сжато высказанным, читатель может уразуметь, что все пороки устраняются сим кратчайшим утверждением: «Тебя нет». Несомненно, здесь много чего можно добавить, но это сбило бы ход повествования, которое мы намерены рассказать.
[95] Однако негоже было бы опустить вторую часть этого замечательного учения. Ибо сама Истина говорит: «Я есть Тот, кто есть» (Вульг. Исх. 3: 14). Но является ли сие утверждение новым? Оно равно ново и древне. Ведь его произнёс Тот, Кто говорил из куста с Моисеем; его вразумительнейшим образом истолковывали все усердные изъяснители Священных Писаний; и учили они истинно, что только Тот есть, Кто по существу Своему требует бытия, и нет различия между Его сущностью и бытием; и ни от кого иного, кроме Себя, имеет Он бытие; а от Него берётся и происходит всякое иное бытие – и только Он один может по праву произнести сие утверждение. Потому что, говоря словами Апостола, в Нём нет «есть» и «нет», как в творениях, но есть в Нём только «есть» (ср. Вульг. 2 Кор. 1:19). По этой причине он повелевает вышеупомянутому Моисею сказать: «Тот, Кто есть, послал меня» (Вульг. Исх. 3:14). И неудивительно поэтому, что если кто внимательно рассмотрит по существу определение творения, неизбежно выведет из него сие речение. Ибо если творить есть не что иное, как создавать нечто из ничего, то с очевидностью следует, что всякое бытие происходит от одного-единственного Творца и никоим образом не может исходить откуда-либо ещё, ибо Он один есть источник всякого бытия. При таковом допущении сразу же следует вывод, что тварь не имеет ничего от себя, но всё имеет от Творца, а Творец – от Себя самого, а не от кого-либо иного имеет совершенное, да притом бесконечное бытие; ибо Он никогда не смог бы создать нечто из ничего, если бы не обладал в себе бесконечной силой бытийственности (entitatis). А всё, чему Верховный самодержец и вместе с тем Наставник хотел научить Свою невесту в вышесказанных речениях, таково: «Осознай до глубины сердца своего, что Я истинно Творец твой, и тем блаженна будешь».
[96] Нечто подобное, как написано, сказал Он и другой Екатерине (Александрийской, мч., пам. 25 ноября), когда посетил её в темнице в сопровождении многих святых и ангелов. Ибо молвил Он: «Познай, дщерь, Творца твоего». Ведь из сего знания проистекает всякое совершенство в добродетелях, всякое здравие тварного ума. Ибо кто, помимо неразумного или сумасшедшего, понимая, от Кого получил всё, не подчинится Ему охотно и радостно? Кто благодетеля столь прекрасного и столь богатого, притом все блага дающего даром, не полюбит всем сердцем и всем разумением? Чья любовь не станет разгораться день ото дня всё сильнее к Любящему столь нежно и горячо, что творения свои прежде всякой их заслуги, более того, без какого-либо побуждения, кроме лишь вечной благости, полюбил ещё до того, как сотворил? Кто после сего не устрашится или не содрогнётся тотчас же от страха и трепета пред опасностью как-нибудь оскорбить или обидеть столь великого и страшного Творца, столь могущественного и чудесного Дарителя, столь пылко и нежно Любящего? Кто, опять же, не претерпел бы даже любого зла ради Того, от Кого столько благ получил, и получает, и без сомнений надеется получить? Кто затомится от труда или падёт духом от тягот, имея возможность угодить столь великому и столь любезному Величеству? Кто слова Его, с которыми Он так милостиво обращается к Своим созданиям, не примет благоговейно, не выслушает внимательно и не сохранит их навек в сокровищнице цепкой памяти? Кто откажется Его спасительным заповедям по мере сил повиноваться с радостным сердцем?
Всё сие вместе и по отдельности происходит из совершенного осознания того, что сказано: «Осознай, что ты есть та, кого нет, а Я есть Тот, Кто есть». Или, как было сказано иными словами: «Познай, дщерь, Творца твоего». Оцени, читатель, какое основание заложил Господь вначале, какой брачный дар принёс невесте Своей! Не кажется ли тебе, что сего довольно, чтобы поддержать всю постройку [при возведении здания] духовного совершенства, дабы никакие ни ветры, ни бури не смогли его ни обрушить, ни пошатнуть? (ср. Мф. 7:24-25) В тебе, насколько позволил Господь, я выше уже заложил основы доверия, а теперь ты с полной ясностью видишь, какое основание заложил Верховный зодчий в душе девы, о которой идёт речь, так что, будучи утверждён на двойном основании, ты отнюдь не должен поколебаться. Итак, стой, по крайней мере, в твёрдом и неизменном доверии, и не будь неверующим, но верующим (Ин. 20:27).
[97] В добавок к упомянутому чрезвычайно замечательному учению Господь прибавил иное, весьма достойное внимания, которое, если я не ошибаюсь, полностью выводится из оного. Изрек ибо Он, явившись ей в другой раз: «Дочь, помышляй обо мне; ибо если будешь, то я буду помышлять о тебе непрестанно». Узнаёшь ли, читатель, в этом слова псалмописца, взывающего ко всякому праведному: «Возложи на Господа помышление своё, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику» (ср. Пс. 54:23)? Давай же послушаем, как понимала сие слово дева преподобная.
Ведь, рассказывая мне втайне о сем слове, она сказала, что Господь тогда предписал ей изгнать всякое иное помышление из своего сердца и волю свою направлять только на Него самого, чтобы, пребывая в постоянном покое, не отвлекаться от названного помышления ни на какую-либо заботу о самой себе, даже касательно благополучия духовного. Он добавил: «И Я буду помышлять о тебе», как бы прямо сказав: «Не беспокойся, дщерь, ни о спасении души, ни о здравии тела, ибо Я, знающий и могучий, изволю о сем помышлять и усердно заботиться; ты только старайся помышлять и размышлять обо Мне, поскольку в сем состоит твоё совершенство и конечное благо твоё». Но, о несотворенная Благость, что тебе от того, если дева сия, невеста Твоя, или иное какое-нибудь создание, помышляет о Тебе и размышляет? Разве может это Тебя хоть как-либо возвеличить? Почему же Ты так горячо желаешь, чтобы мы помышляли и размышляли о Тебе, если не оттого, что Ты есть благость, и по природе склонен сообщать Себя нам и влечь нас всегда к Себе?
[98] Кроме того, из сего учения сия дева Господня заключала, что коль скоро мы были отданы Богу – как в таинстве крещения, так и в посвящении священническом или монашеском, – нам ни в чём не должно беспокоиться о себе, но о том только заботиться и помышлять, как самому Господу, Коему мы себя отдали, угодить. И сие преимущественно не ради награды, но ради единения, потому что мы соединяемся с Ним узами любви тем теснее, чем больше мы Ему угождаем. Ибо и самой награды не стоит искать ни ради чего иного, помимо того, что она совершенным образом соединяет нас с нашим бесконечно совершенным Началом. Посему она обычно говорила нам, когда я или один из моих братьев боялся какой-либо опасности: «Что вы можете сами сделать для себя? Позвольте действовать Божественному провидению; оно всегда, когда вы более всего боитесь, взирает на вас и непрестанно заботится о вашем спасении». Ибо она восприяла такое доверие к Жениху своему после того, как услышала от него «Я буду помышлять о тебе», и такое имела глубокое понимание Божественного провидения, что не могла насытиться разговорами о нём день и ночь напролёт. Поэтому в книге, написанной ею, она не преминула подробно обсудить его в длинном трактате и во многих главах, что бросается в глаза читающим.
[99] Вспоминается мне, что когда мы – множество мужчин и женщин – были в море, и ночью прошли уже половину пути или около того, попутный ветер ослабел, из-за чего корабельщик немало смутился и сказал, что мы оказались в довольно опасном месте, потому что, если подует побочный ветер, нам непременно придётся отплыть к весьма отдаленным областям или островам. Услышав это, я обратился к ней, говоря сквозь рыдания: «О матушка (ибо так мы все звали ее), ты не видишь, в какой мы опасности?» А она тут же ответила мне: «Что вы можете сами сделать для себя?» И так она заставила смолкнуть крик мой, а заодно и страх.
Вскоре подул встречный ветер, и упомянутый корабельщик сказал, что из-за него он вынужден повернуть назад, а когда я доложил о том деве, она молвила: «Пусть покружит рукою во имя Господне и отправляется, куда Господь ветер даст». Он покружил рукою, и мы поплыли в обратный путь, но она, склонив голову, стала умолять Господа, и не продвинулись мы ещё обратно на расстояние выстрела баллисты, как появился попутный ветер, которого прежде не хватало, и по исполнении утрени мы прибыли, ведомые Господом, к долгожданному порту, воспевая громогласно Te Deum laudamus – «Тебя Бога славим».
Сие я привёл здесь не в порядке изложения событий, а из-за соответствия обсуждаемому предмету. Впрочем, как вкратце было сказано выше, любой мыслящий человек, если я не ошибаюсь, ясно увидит, что сие второе учение последовательно вытекает из первого. Ведь если душа сознает, что она сама по себе ничто, а всё – от Господа, следствием этого является то, что она полагается не на своё действие, а только на Господне. По этой причине он все заботы свои возлагает на Господа, а это, как я думаю, и есть «направлять помышления свои на Господа», говоря словами псалмопевца, возложение. И все же это не освобождает его от посильной деятельности: поскольку сие упование исходит из любви, а любовь необходимо вызывает в душе любящего желание любимого предмета, то ей невозможно обойтись без деятельности. Из чего следует, что сколько кто любит, столько действует, но тем не менее, он уповает не на свою деятельность, как на свою собственную, а именно на деятельность Создателя – чему душу сию в совершенстве научает сознание собственного ничтожества и совершенная истинность Создателя её.
[100] Поскольку среди прочих дивных деяний блаженной сей девы я учение её считаю достойным исключительного внимания, то, конечно, не могу опустить остального, чему она учила, но напротив – добавлю к уже пересказанным учениям; впрочем, все они, если не сильно ошибаюсь, изначально происходят от первого из рассказанных. Ибо же сия дева святая часто беседовала со мною о свойствах души, любящей своего Творца, и говорила, что таковая душа не видит и не ценит ни себя, ни кого-либо другого и совершенно не помнит ни о себе, ни о какой другой твари. Когда я попросил объяснения сказанному, она ответила, молвив: «Душа, которая уже видит своё собственное ничтожество и сознаёт, что всё её благо в Творце, полностью покидает себя со всеми своими силами и все творения и полностью погружается в Творца своего, так что все свои действия направляет целиком и полностью на Него и, чувствуя, что в Нём обретает всякое благо и всякое совершенство счастья, никоим образом не желает выходить от Него вовне; а благодаря зрению любви, день ото дня возрастающей в ней, она так некоторым образом преображается в Бога, что не может ни мыслить, ни понимать, ни любить, ни помнить ничего, кроме Бога, а также того, что Божие; творений же иных и себя самой не видит, разве только в Боге, и не помнит ни о себе, ни о них, разве лишь в Боге. Как тот, кто целиком погружается в море и плавает под водами морскими, не видит и не осязает ничего, кроме лишь вод морских и того, что в водах, а ничего вне воды не видит, ничего не осязает и не ощущает; если же образы того, что находится вне, отображаются в воде, он может их видеть, но только в воде и в той мере, насколько они [отображаются] в воде, не иначе». «И сие, – говорила она, – есть упорядоченная и правильная любовь к себе и ко всем творениям, в которой никогда не будет ошибки, поскольку она неизбежно соразмеряется с божественным мерилом, а согласно с оным ничего не невозможно возжелать вне Бога, а потому всегда в Боге [всё] свершается и творится.
Не знаю, полностью ли я объяснил речение, которое усвоил тогда от неё, ведь она сама усвоила сие учение непосредственно (sentiens), словно бы второй Дорофей, упоминаемый Дионисием (точнее, Иерофей; см. Дионисий Ареопагит «О божественных именах», II, 9. – по прим. лат. изд.). Я же подобного, увы, не испытав, могу сие передать только в ущербном виде, но ты, читатель, постигай и воспринимай в меру данной тебе благодати; однако знаю, что чем теснее ты соединишься с Богом, тем глубже уразумеешь сие величественное учение.
[101] Кроме того, из [опыта] сего соединения сия учительница науки Божией вынесла ещё одну [истину], которую не переставала ежедневно повторять тем, кого хотела наставить на пути Божием, а именно: чем сильнее такая душа (как мы сказали выше – соединённая с Богом) любит Бога, тем сильнее она ненавидит святой ненавистью свою собственную ощущающую или чувственную часть (из трёх частей души, согласно Аристотелю, наиболее свойственную животным. – прим. пер.). Ведь, поскольку из любви к Богу естественно проистекает ненависть к прегрешениям, совершаемым против Бога, то душа, видя, что горючее и источник всякого прегрешения находится в ощущающей части и в ней коренится, питает к ней великую, но святую ненависть; и изо всех сил старается убить – не её саму, а то горючее, что в ней укоренилось, что невозможно без мучений, немалых и некратких, для самой чувственности. Но поскольку невозможно [полностью убить всё горючее], а всегда остаётся какой-нибудь корень пускай и малых прегрешений – согласно изречению Иоаннову: «Если говорим, что не имеем греха» и т. д. (1 Ин. 1:8), – душа начинает испытывать некое недовольство собой, из чего возникает уже упомянутая святая ненависть и презрение к себе, коими она всегда охраняется от козней вражьих, да и человеческих. Ведь ничто так не успокаивает и не укрепляет душу, как оная святая ненависть, которую хотел выразить Апостол, говоря: «Когда я немощен, тогда я крепче» (ср. 2 Кор. 12: 10). И молвила Екатерина: «О вечная благость Божия, что ж сотворила ты?! Из прегрешения происходит добродетель, из слабости возникает крепость, из оскорбления – прощение, из недовольства рождается довольство. Всегда, о чада мои, имейте в себе сию вторую ненависть. Она всегда сделает вас в невзгодах терпеливыми, в благоденствии – умеренными, во всём – полными благородного спокойствия, угодными и милыми как Богу, так и людям». И добавила: «Горе и ещё раз горе душе той, в коей нет сей святой ненависти, ибо где нет сего рода ненависти, там неизбежно царствует себялюбие, которое есть нужник всех грехов, всех злых похотей корень и причина».
[102] Сии и подобные речи произносила она, ежедневно предписывая святую оную ненависть друзьям своим. Но всякий раз, когда она замечала недостатки или прегрешения в ком-либо из своих друзей или в другом ком-нибудь, тотчас, проникаясь состраданием, говорила: «Вот что творит самолюбие оное – горючее гордыни и прочих пороков!» О Боже мой, сколько же раз повторяла она мне, убогому, слова: «Приложите все усилия, дабы искоренить из своего сердца сие себялюбие и насадить в нём ненависть оную святую, ибо сие безошибочно царский путь, по которому восходят ко всякому совершенству и исправляют любые недостатки». Но признаюсь, что я так и не смог ни достичь понимания глубины и благотворности святых её слов, ни – увы! – осуществить их на деле. Но тебе, дражайший читатель, я говорю, что если ты помнишь те два града, о которых упоминает Августин в своей книге «О граде Божием», один из которых создан любовью к себе, дошедшею до презрения к Богу, а другой – любовью к Богу, дошедшей до презрения к себе (св. Августин. О граде Божием. XIV, 28), то сразу же оценишь, что сие за учение, если уловил мысль Апостола, сказавшего, что сила совершается в немощи (ср. 2 Кор. 12: 9), каковые слова донеслись до него с небес, когда он молился об устранении искушения, и что он вновь подытожил: «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова (там же)». И увидишь ты, что основания учения сей святой старицы и вместе с тем девицы положены на твердом камне истины, которым является Христос, которого также называют Скалою.
Ну а пока довольно о её учении, ей изначально переданном от Истины, а нам затем – от неё. Так что на сем завершается глава, где не требуется перечислять свидетелей, потому я сам услышал всё здесь сказанное из собственных уст Екатерины. Но при этом я увещеваю каждого читающего задуматься о том, в какой чести была сия преподобная дева у Бога и что в дальнейшем следует несомненно верить той, что была столь исполнена света истины.
[103] Когда миротворный Царь (аллюзия на Соломона, чьё имя имеет один корень со словом «шалом» – мир, а также ср. Евр. 7:2. – прим. пер.) воздвиг для защиты Иерусалима башню Ливанскую, обращённую к Дамаску (ср. Песн. 7:5), надменный царь Вавилонский и недруг мира тут же обозлился и двинул против неё свое войско, и попытался разрушить её. Предвидев то и предусмотрев, Царь оный, устроитель и хранитель мира, окружает башню Свою чудесными и неприступными укреплениями, в которую все стрелы врага не только попадают без всякого вреда, но, чудесным образом обратившись вспять, стрелков своих и поражают.
Сие я сказал к тому, что древний змий, заметив, как сия юная девушка восходит на великие вершины совершенных добродетелей, убоялся – и, как потом оказалось, не зря, – что она станет причиной спасения не только для себя, но и для многих других, и таким образом защитит святой град Церкви Католической как предстательством своим, так и учением. А потому со всем духом злобы своей обратил он на неё тысячи ухищрений, стараясь ввести её в соблазн. Но Господь великой милости, попустивший сие дабы прекраснее стал венец невесты Его, оградил её столь крепким оружием духовным, что она больше приобрела от войны, чем от мира. Ибо вдохновил Он ум её просить Господа о добродетели мужества; что она и творила в течение многих дней без перерыва – и всемилостивый Вдохновитель, желая, чтобы после продолжительных молений она почувствовала, что услышана, такое ей поведал наставление.
[104] «Дщерь, – молвил Он, – коли желаешь обрести добродетель мужества, то подобает тебе подражать Мне. Ибо хотя Я и мог бы божественной силой уничтожить всех «господствующих в воздухе» (ср. Еф. 2:2) или избрать иной путь победы над ними, Я, однако, желая дать вам пример Своими человеческими деяниями, не пожелал побеждать их иначе, кроме как путём креста, чтобы научить вас словом, подтверждённым поступком. Поэтому, если хотите стать мужественными, дабы побеждать всякую силу вражию, примите крест в укрепление себе, как и Я, Который, по словам Моего апостола, вместо предлежавшей радости поспешил ко кресту (ср. Евр. 12:2), столь позорному и тяжкому, – дабы, значит, и вы не только были готовы терпеливо сносить муки и невзгоды, но и принимали их себе в укрепление. И они воистину служат укреплением, поскольку чем более вы терпите таковое ради Меня, тем более вы сообразуетесь со Мною, ведь, если вы сообразуетесь Мне в страданиях, то, как неизбежно следует из учения Моего апостола, вы обязательно будете подобны Мне и в благодати, и в славе (ср. 2 Кор. 1:7). Итак, дщерь, прими сладкое как горькое и горькое как сладкое ради Меня; и не сомневайся затем ничуть, ведь ты непременно обретёшь мужество ко всякой [брани]».
Она же, не глуха оказавшись к оным словам, с той поры так твердо постановила в уме своем радоваться невзгодам, что (как она однажды призналась мне наедине) ничто внешнее в сей жизни не укрепляло её так, как невзгоды и страдания, без которых она, по собственному признанию, до крайности изнемогала телом. Причём ради того, что требовалось претерпеть, она охотно сносила отсрочку [обретения] венца небесного, поскольку знала, что благодаря тому венец на небесах становится всё краше.
[105] Затем Царь неба и земли, вооружив башню свою многомощными учениями, попущением открывает путь врагам, дабы приблизились они и попробовали хоть как-нибудь взять её приступом. Приближаются они со своими гнусными полчищами и стараются окружить её со всех сторон; так, чтобы, пока никто не помогает ей, подсечь её вкруг основания. И прежде всего начинают они с искушения плотского, которое насылают не только внутренне через помысли, не только через иллюзии и фантазии во снах, но через явные видения, которые, приняв воздушные тела, наполняли её взор и слух и разным образом ей представлялись. Страшно пересказывать эти борения, но чересчур уж сладостно будет чистым умам послушать о победе.
А она со всем мужеством восстает на борьбу с собою самой, то есть со своею плотью и кровью, железной цепью смиряя плоть и проливая кровь; продлевая свои бдения на время, гораздо большее обычного, так что на сон почти ничего не оставалось. Но даже при этом враги не прекращают начатой войны; принимают, как я говорил, тела воздушные и, множа призрачные образы, толпятся в величайшем множестве перед её взором, как бы сочувствуя и советуя: «Зачем, бедняжка, ты себя так мучаешь попусту? Какая тебе польза от такого мучительного страдания? Неужто ты думаешь, что сможешь выдержать? Ты отнюдь не сможешь так продолжать, если только не хочешь умертвить себя, вернее, стать убийцей собственного тела. Лучше бы тебе оставить эти глупости, прежде чем совсем не угаснешь. Всё ещё есть время насладиться миром! Ты молода, и тело твоё быстро восстановит силы. Живи, как прочие женщины, выйди замуж и рожай детей для умножения человеческого рода. Ведь если ты желаешь угодить Богу, то [посмотри]: разве даже святые замуж не выходили? Вспомни Сару, Ребекку, Лию и Рахиль заодно. На что ты выбрала этот странный образ жизни, которого никак не сможешь выдержать?»
[106] Пока они говорили сие и подобное, преподобная дева, непрестанно молясь и Супругу своему себя вверяя, полагала охрану устам своим, доколе нечестивый стоял пред нею (ср. Вульг. Пс. 140:3, 38:2), и не никак отвечала, и только когда они пытались хоть как-нибудь подорвать её долготерпение, чтобы совершенно её сломить, она сказала: «Я уповаю на Господа нашего Иисуса Христа, а не на себя». Больше они не добились от неё ни слова, ибо она всё время была сосредоточена на молитве.
И дала она нам, беседовавшим с нею, в качестве общего правила [такой совет], чтобы мы, когда возникнут искушения, ни в коем случае не брались спорить с врагом, ибо это именно то, — настаивала она, — чего он сам добивается: чтобы мы вступили в общение с ним. Ведь он уверен, что благодаря великим злоухищрениям своим не даст опровергнуть свои софистические рассуждения. Посему, как целомудренная женщина никак не должна отвечать заговорившему с ней прелюбодею, но по мере сил от него уклоняться, так и душа, обручённая в целомудренной любви со Христом, ни за что не должна отвечать врагу искушающему, но прибегать к Жениху своему с молитвою и со всякою верностью душевной возлагать всё упование своё на Него, ибо добродетелью веры преодолеваются все искушения. Итак, сия невеста Господня мудро ратоборствовала с Сисарой, сиречь пронзала ему виски колом упорной молитвы (см. Суд. 4:21). Уразумев сие, он бросил попытки убеждений и обратился к другому роду борьбы. И вот воспроизвёл он образ женщин и мужчин, смешивающихся друг с другом самым постыдным образом и представлявших как взору её так и слуху гнусные действия и преотвратные слова. И вот, пока столь мерзостные полчища кружили около неё с воем и криком, он соблазнял её на срам.
[107] О Боже мой, как велико было мучение сердца её тогда, сиречь когда то, что её наипаче ужасало, он была вынуждена созерцать и слушать даже с закрытыми глазами и ушами! И ещё одна скорбь прибавилась измученному сердцу: Жених, Который имел обыкновение часто навещать её и многие утешения милостиво давать ей, казался в то время далёким и ни видимо, ни невидимо не оказывал (как представлялось) помощи. От этого душу девы, несомненно, полнила немалая печаль, хотя она всё время целиком предавалась бичеванию плоти и непрерывной молитве. Ибо же, наученная Духом Господним, она тогда уже знала некоторые средства защиты (которым впоследствии меня и многих других научила), позволяющие избежать ловушек врага. Ибо часто (как сказывала она) так случается с душой, любящей Бога, что сердечный пыл то ли по Божественному промыслу, то ли из-за прегрешения какого-нибудь, то ли собственно от умышлений вражьих, приостывает, а порой даже доходит до охлаждения. Тогда некоторые, испытав лишение привычных утешений, неосторожно оставляют свои обычные упражнения, размышления, чтение или покаянные подвиги, чем ещё более ослабляют себя и веселят (скажем так) врага, который и не ищет-то ничего иного, кроме того, чтобы новобранец Христов сложил оружие, которым побеждал его. Поэтому осторожный подвижник Христов, какое бы ни видел или ни чувствовал (кажущееся) внутреннее охлаждение, должен неизменно продолжать свои обычные духовные упражнения, не оставляя их по этой причине, а наоборот – умножая.
[108] Итак, благодаря наставлениям Господним святая дева сие усвоила и в совершенстве исполнила, сказав самой себе с вышеописанной святой ненавистью следующее: «Разве ты, ничтожнейшая, достойна каких-нибудь утешений? Не помнишь о грехах своих? Кем ты себя мнишь, несчастная грешница? Неужели тебе не достаточно, коль минует тебя вечная мука, хотя бы пришлось тебе сносить эти муки и мрак всю жизнь твою? Что ж ты ленишься да грустишь из-за этого? Если тебе удастся избежать вечного наказания, со Христом тогда, без сомнения, утешаться будешь в веках. Разве ради сих [временных] утешений ты решила служить Ему? Не для того ли, чтобы услаждаться Им вечно? Встань же и ни в чем не ослабляй привычных [подвигов], а лучше умножай их, постоянно прибавляя что-нибудь ко всем обычным хвалам Его».
Сими стрелами смирения преподобная дева пронзала и разила царя прегордого Вавилона, себя самоё словесами премудрости укрепляла. Хотя, как она признавалась мне, в келье её было такое множество бесов, каковых она как бы воочию видела, столько источников злых помыслов, что она предпочитала убегать из неё, по крайней мере, на время. Оттого тогда она и задержалась в церкви дольше обыкновенного, хотя и туда за ней устремлялись адские досаждения, но там всё-таки с ней обращались мягче. И если бы было позволено, то, подражая Иерониму, бежала бы она по долинам и горам, чтобы избежать столь отвратительных страхов бесовских и страшных их действий. Ибо же всякий раз, возвращаясь в келью, она обнаруживала такое множество бесов, говорящих непристойные слова и творящих разнузданные действия, что казалось, будто на неё отовсюду набрасывались невыносимо назойливые мухи. А она, немедля прибегнув к молитве, подолгу взывала ко Господу, пока адское досаждение не утихало немного.
[109] Беды сии продолжались уже много дней, как однажды, когда она возвратилась из церкви и простёрлась в молитве, явился некий луч Святого Духа и тут же расчистил ум её, так что она вспомнила, как несколько дней тому назад просила дара мужества у Господа и какого рода наставление дал ей Господь для стяжания дара мужества; и как только она уразумела тайну сих искушений, возликовала искренне и, поразмыслив, твёрдо постановила с радостным сердцем переносить сии беды, доколе Жениху её будет угодно. Тогда один из тех бесов, что был, вероятно, как дерзостнее, так и вредоноснее прочих, обратился к преподобной деве, молвив так: «Что ты, несчастная, затеваешь? Всю жизнь напролёт в сем несчастии проведёшь? Мы до самой смерти не прекратим тебе досаждать, если только нам не уступишь». На что она тут же (не забывая данного ей наставления) с полной уверенностью возразила: «Я сама избрала муки – в укрепление себе, и мне не трудно, а даже приятно муки сии и иные терпеть во имя Спасителя, пока это Его угодно Величеству». Едва она сказала это, тотчас весь сонм тот бесовский в смущении отступил, и явился свыше некий свет великий, осветив всю келейку, а в свете стоял Сам Господь Иисус Христос, прибитый ко кресту, окровавленный, словно когда Он Своею Кровию вошёл во Святилище (ср. Евр. 9:12). И воззвал Он с креста преподобной деве, сказав: «Дщерь Моя Екатерина, видишь ли, как Я пострадал ради тебя? Так да не будет в тягость тебе потерпеть за Меня!»
[110] После сего, в ином образе приблизившись к деве, Он, дабы утешить её, ласково заговорил с нею о триумфе, уже одержанном в борьбе. А она, подражая Антонию, молвила: «И где был Ты, Господи мой, когда сердце моё терзалось столь многими гнусностями?» (ср. св. Афанасий Великий, Житие преподобного отца нашего Антония, п. 10). На что Господь ей: «Я был в сердце твоём». А она Ему: «Да пребудет вовек истина твоя, Господи, и всякое почтение к Твоему Величеству; как мне поверить, что ты обитал в моём сердце в то время, когда оно обиловало только самыми нечистыми и гнусными помыслами? На что Господь ей: «Что вызывали в сердце твоём те помыслы или искушения: веселие или грусть? удовольствие или скорбь?» Тогда она Ему: «Величайшую грусть и скорбь». А Господь: «Кто же заставил тебя грустить, как не Я, сокрытый в сердце твоём? Ведь если бы Меня рядом не было, помыслы те проникли бы в сердце твоё, и усладилась бы ты ими. Но Моё присутствие вызвало недовольство ими в сердце твоём, а когда ты желала отбросить их прочь, поскольку они были тебе неугодны, и не могла добиться сего согласно желанию своему, ты скорбела. Но все сие соделал Я, Который тогда сердце твоё полностью защитил от врагов, скрывшись внутри, а снаружи позволяя тебя тревожить, насколько то было благоприятно для твоего спасения; и вскоре адская тьма отступила, бежала, ибо не может она оставаться при свете. Ибо кто, наконец, объяснил тебе, что оные муки были полезны для тебя, дабы обрела ты мужество, и что должно тебе добровольно сносить их, доколе мне угодно, пока не [явится] луч мой? А поскольку ты от чистого сердца предложила взять на себя на мучения сии, то они тут же были с тебя сняты благодаря Моему непосредственному появлению, поскольку что отрада Моя не в муках, а в благоволении того, кто муки мужественно переносит».
[111] «А ради того, чтобы ты сказанное восприняла совершеннее и охотнее, Я приведу тебе в пример Тело моё. Ибо кто бы мог подумать, что, когда оно так страдало и умерло на кресте, а потом лежало бездыханно, то всё время таило в себе сокрытую жизнь и соединено было [с нею] неразделимым единством? И что уж говорить о чужаках и злодеях, если даже апостолы Мои, которые так долго были со Мною, не смогли поверить в это: все потеряли веру и надежду. А всё же, хотя сие тело Моё отнюдь не жило той жизнью, которую оно воспринимало от собственной души, оно удерживало при себе ту неуничтожимую единую Жизнь, которая живит все живые существа, и её силой в назначенное от вечности время его собственный дух воссоединился с гораздо большим богатством (collatione) жизни и силы, чем прежде, то есть с даром бессмертия, бесстрастия и другими достоинствами, коих прежде не было ему дано. Итак, когда Жизнь –Божественная природа, соединённая с Моим телом, – изволила сокрыть свою силу, то сокрыла, а когда пожелала явить – явила её. Ныне же, поскольку Я сотворил вас по образу Своему и подобию и, приняв вашу природу, стал подобен вам, то никогда не перестану уподоблять вас Себе, насколько вы сможете вместить, а то, что свершилось тогда в Моём теле, постараюсь воспроизвести и в душах ваших ныне, пока вы находитесь в пути. Ты же, дщерь моя, которая так упорно сражалась – Моею силою, а не своей, – великую тем заслужила благодать от Меня, а потому впредь ты будешь видеть Меня чаще и [узнаешь] ближе».
На этом видение закончилось, но Екатерина осталась полна такой утехи и сладости, что нелепо вообразить, будто сие можно было бы в совершенстве словом сказать иль пером описать. Но в сердце её пребыла необычайно чудесная сладость от того, что Господь назвал её дочерью Своею, сказав: «Дщерь Моя Екатерина». Посему, рассказывая о том своему духовнику, она умоляла его, дабы, когда он захочет к ней обратиться, назвал её именно так, чтобы всякий раз в душе её воскресала оная сладость.
[112] С того, стало быть, часа Всесвятой жених стал общаться с нею так близко, что для человека, не сведущего о том, что было раньше, сие показалось бы либо невероятным, либо нелепым. Зато душе, вкусившей, что сладок Господь и благ превыше всякого суждения человеческого, сие представляется не просто возможным, но даже весьма вероятным и уместным. Итак, Господь являлся ей чрезвычайно часто и пребывал с нею дольше, чем обычно, и приводил с Собою иногда Преславную Свою Родительницу, иногда блаженного Доминика, порой – обоих; а также Марию Магдалину, Иоанна Богослова, апостола Павла и некоторых других вместе и порознь, как Ему было угодно. Но в большинстве случаев Он приходил один и беседовал с нею, как друг с самым близким другом своим (ср. Исх. 33:11). Доходило до того, что (как она несколько раз признавалась мне робко наедине) Господь и она часто читали псалмы вместе, прохаживаясь по её комнате, как обычно делают двое монахов или священнослужителей, вместе читающих часы. Какое поразительное, удивительное, неслыханное в наши дни проявление дружеской близости! И всё же, читатель, это не должно показаться тебе невероятным, если ты попытаешься хорошенько вдуматься в то, что было сказано выше и что будет сказано ниже, и если ты внимательно вникнешь в бездну Божественной благости. Ведь Он дарует что-то особенное каждому из Своих святых, чтобы он достоянием этим выделялся среди других; дабы не только во всех, но и в каждом из Его святых явилась высота Его превосходящего всё великолепия, как сказал Пророк: «По высоте Своей умножил Ты сынов человеческих» (Вульг. Пс. 11: 9). По собственной высоте умножает Господь сынов человеческих, ибо как согласно здравому смыслу любой человек чем-то особенным отличается от всех других, так и любой из святых разнится от всех других каким-нибудь особенным даром. Поэтому не следует удивляться, если о ком-то сказано что-то такое, чего отнюдь не обнаруживается [в рассказах] о других.
[113] Впрочем, поскольку здесь было упомянуто о псалмопении, я хочу, чтобы ты знал, читатель, что хотя дева знала сии священные тексты, она отнюдь не научилась им от наставлений бренного человека. И когда я говорю «тексты», это не значит, что она умела говорить по-латински, но только то, что она умела читать тексты и произносить их. Ибо же рассказывала она мне о себе самой, что, когда она ради возможности читать славословия Божии и литургию часов решила выучиться грамоте, то, написав для себя алфавит, стала брать уроки у одной из сестёр. Но когда, промучившись несколько недель, она так и не смогла выучить его, решила, чтобы избежать пустой траты времени, прибегнуть к милости небес. Посему однажды утром, простершись пред Господом в молитве, она молвила так: «Господи, если Тебе угодно, чтобы я умела читать, чтобы при литургии часов могла возносить псалмопения и славословия Тебе, то соблаговоли научить меня тому, чего я самостоятельно не могу постигнуть, а коль нет, то да будет по воле Твоей, потому как я охотно пребываю в простоте моей, и время, дарованное мне Тобою, куда охотнее трачу на другие размышления о Тебе». Дивное дело и явное знамение силы божественной! Прежде чем она встала с молитвы, Бог так основательно обучил её, что после молитвы той она была способна читать любой текст так же быстро и легко, как какой-нибудь многоучёный муж. Когда я сам лично проверил это, был поражён; главным образом из-за того, что обнаружил следующее: хотя читала она очень быстро, стоило повелеть ей читать по слогам, она оказывалась неспособна вымолвить ничего, мало того – едва распознавала буквы. И я считаю, что таким образом Господь решил тогда свершить чудесное знамение.
После того она стала искать книги, содержащие богослужение, и читать в них псалмы, гимны и прочее, что относится к литургии часов. И между прочим, она точно запомнила слова, которые читала в то время, и помнила до самой смерти слово псалма, с которого начинается каждый час, а именно: «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне» (Пс. 69:2), что, переведя на простой язык, повторяла чаще всего. Наконец, по мере возрастания души её в совершенстве созерцания, устные молитвы постепенно прекратились, и в итоге, вследствие чрезвычайно частых восхищений ума она дошла до того, что едва могла хоть раз произнести вслух Молитву Господню, без того, чтобы душа её была восхищена от внешних чувств. Сие, коль позволит Господь, более полно будет объяснено ниже.
Теперь, однако, окончим главу сию, чтобы, собравшись с силами, приступить, коль поддержит меня Господь благодатью Своей, к следующей главе сей первой части. А что было описано в ней, я узнал как из слов святой девы, которые она втайне поведала своим духовникам, так и из её писаных посланий. В них она порой, рассказывая о себе, как о ком-то другом в качестве примера для других, проговаривается кой о чём из того, что случалось с нею в этом промежутке жизни.
[ГЛ. XII]
[114] Поскольку душа преподобной девы, с каждым днём всё более возрастая в благодати Создателя её и в добродетели, скорее летела, нежели шла, взросло в её сердце некое святое желание, а именно: возыметь и достичь степени совершенной веры, посредством коей паче угодить Жениху своему в неизменной покорности Ему и верности нерушимой. И стала она вместе с ученицами своими просить Господа, чтобы тот соблаговолил умножить веру её и даровать ей совершенную добродетель веры, которую никакая сила вражия ни поколебать не сможет, ни разрушить. На что Господь ответил таковым речением: «Я обручу тебя со Мною в вере». А поскольку дева часто и подолгу повторяла эту же молитву, то и Господь всегда давал один и тот же ответ.
Случилось как-то раз, когда приближался Великий пост, при котором верные прекращают [потреблять] мясную пищу и то, что от плоти происходит (т.е. молочные продукты. – прим. пер.), и как бы устраивают желудку пир пустоты, святая дева, пребывая в сосредоточении в своем затворе и взыскуя лика Жениха вечного молитвами и постами, с великим усердием повторяла означенную молитву. На каковую Господь [ей ответил]: «За то, что ты ради Меня, отвергнув себя, избежала всякой суеты и, пренебрегши плотскими наслаждениями, во Мне одном искала усладу сердца твоего в то время, когда остальные в доме твоём наслаждаются своими пиршествами и устраивают плотские празднества, Я решил торжественно отпраздновать с тобою обручение твоей души и хочу, таким образом, как обещал, обручить тебя со Мною в вере».
[115] Пока Он ещё говорил, явились Преславная Дева, Матерь Его, блаженнейший Иоанн Богослов, славный апостол Павел и святейший Доминик, отец их ордена, а с ними всеми – пророк Давид со струнным псалтерием в руке. Под его нежнейшие и громкие звуки Дева Богородица взяла десницу девы святейшей рукою Своей и, протянув ладонь Сыну, попросила, чтобы Он изволил обручить её Себе в вере. На что единородный Сын Божий всемилостиво согласившись, подал золотое кольцо с четырьмя жемчужинами на ободке, а также неописуемой красы алмазом, возвышавшимся над ними. Надев оное на безымянный палец девы Своей пресвятою десницей, Он молвил: «Вот, я обручаю тебя со Мною, Создателем твоим и Спасителем, в вере, которая до тех пор, пока ты не отпразднуешь своё вечное бракосочетание со Мною на небесах, всегда хранима будет без оскудения. Исполняй же отныне, дщерь, мужественно и безо всякого промедления то, что по велению Моего промысла тебе будет поручено, ибо ты уже вооружена крепкой верой и благополучно одолеешь всех противостоящих тебе». После этих слов видение исчезло, но тот перстень навсегда остался на пальце её, хотя и не доступный взору других, а только взору самой девы. В самом деле, она часто призналась мне, хотя и застенчиво, что постоянно видит то кольцо на пальце, и не было такого времени, чтобы она его не видела.
[116] Не кажется ли тебе, читатель, если ты помнишь, как другая Екатерина, Мученица и Царица, была после крещения (как пишут) обручена Господу, что ныне ты наблюдаешь вторую такую преблаженную Екатерину, которая после множества побед над плотью и врагом точно также обручена Господу с великой торжественностью? Но если ты рассмотришь устройство кольца, увидишь, что знак согласуется с означаемым, то есть значением. Она просила крепкой веры – что может быть крепче алмаза? Он сопротивляется всякой твёрдости, продавливает любую твердость и проникает, а разбит может быть только с помощью крови козла (согласно мнению Плиния Старшего. – прим. пер.); так и верное сердце всё супротивное и побеждает, и одолевает своею силой, но от воспоминания о крови Христовой совершенно размягчается и разбивается. А четыре жемчужины означают четвероякую чистоту девы, сиречь чистоту намерений, помыслов, речей и действий – всё это станет куда понятнее [при прочтении] как того, что уже было сказано, так и того, что будет по милости Господней сказано ниже. Я же думаю, что сие обручение было подтверждением милости Божией, а подтверждающим знаком был тот перстень, который был виден только ей, а не другим для того, чтобы среди волн мирских, заботясь о спасении многоразличных душ, полагалась она на помощь благодати божественной и не опасалась, что, извлекая других из волн, сама как-нибудь, упав, будет подхвачена волнами. Ведь по мнению и учению святых Учителей, одна из главных причин, по которой Всемогущий Бог в качестве редчайшего исключения некоторым ещё при жизни открывает, что они Ему угодны и пребывают в состоянии Его благодати, есть та, что Он намерен послать их на борьбу с нечестивым сим миром во славу Своего имени и ради спасения душ, как это стало очевидно в день Пятидесятницы апостолам, получившим так много знамений уделённой им благодати, и Павлу было сказано: «Довольно для тебя благодати Моей» (2 Кор. 12:9), и даны ради слабости человеческой некоторые другие знамения. Сия же дева – поскольку ради славы Божией и на спасение многих душ ей предстояло (как ниже подробнее по милости Господней будет описано) посланничество в мир (ad publicum) – обрела знамение того, что утверждена в благодати, дабы смелее и мужественнее исполнить то, что было ей поручено Богом.
[117] Но самое необычное с ней было то, что в то время как у других знамения были преходящи и появлялись на время, знамение при ней было постоянным и неизменным, оно всегда было зримо ей. А устроил так Господь, думаю, потому, что всё, казалось, препятствовало осуществлению порученных ей свыше деяний: и сравнительная слабость пола, и поразительная новизна [задания], и более глубокий упадок нынешнего века. Из-за этого ей в святом деле требовалась поддержка более заметная и более постоянная.
Наконец да будет читателю ведомо, что здесь подобает положить конец первой части сего жизнеописания, что знаменует также конец её молчальничества и затвора, дабы во второй части поведать, коли Господь позволит, о том, что свершила преподобная дева среди людей во славу Божию и на спасение душ, в каковых деяниях её неизменно являл царскую волю Свою Господь наш Иисус Христос, Который живет и царствует со Отцом и Святым Духом во все веки веков. Аминь.
[118] Се глас пренебесного Жениха, взывающего в Песне Песней к возлюбленной Своей и милой невесте, говорящий: «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя.., чистая моя! …Голова моя вся покрыта росою, кудри мои — ночною влагою» (Песн. 5:2) На что невеста отвечает: «Я скинула хитон мой; как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои; как же мне марать их?» (Песн. 5:3)
Сии слова я привёл в начале сей второй части потому, что хотя до сих пор мы обсуждали объятия Иакова-мужа и Рахили (т.е. созерцательную жизнь. – прим. пер.) да всё описывали «лучшую часть» Марии (см. Вульг. Лк. 10:42), пора нам, следуя порядку повествования, перейти к Марфиной плодовитости и прилежному служению, дабы так показать верным, что сия невеста Христова была не только невестой по внутреннему подобию, но и плодовитой духовным потомством. Правда, поскольку всякой душе, вкусившей, как сладок Господь, чрезвычайно трудно отлучиться или каким-либо образом отдалиться от полноты услаждения Им, то не могло получиться, чтобы невеста, призванная Господом к рождению детей и служению им в их нуждах, не пороптала немножко, жалуясь, или не дала повод для жалобы, насколько ей было попущено. Сего ради возвышает Жених голос свой, коим будит невесту, которая, совлекши одеяния свои и омывшись ото всякой грязи, почивает в покоях преходящих созерцаний, и увещевает её открыть Ему двери – не своей души, а иных душ. Её-то двери, без сомнения, были уже открыты, иначе она не могла бы покоиться в Господе и не могла бы, собственно говоря, называться невестой. Но она, узнав голос Пастыря своего (ср. Ин. 10:27) и Жениха (ср. Песн. 2:8, 5:2), и поняв по нему, что призвана от сладости покоя к трудам, от уединённого безмолвия – к крикам и из тайной горницы – на общественное служение, отвечала жалобно: «Я ведь уже скинула хитон преходящих забот; как же мне опять надевать то, что мною отброшено? Я вымыла ноги привязанностей моих, кои несут меня, куда им угодно; как же мне опять марать их прахом земным?»
[119] Возвращаясь же со всем этим к нашему повествованию, [скажем, что] после того, как Спаситель всех Бог Господь Иисус Христос по милости Своей исполнил сию невесту Свою благоуханием сладости Своей, научил её брани духовной чрез победы в различных сражениях да и дарами превосходными наделил, поразительными наставив поучениями; тогда, не пожелав скрывать столь яркий светоч под сосудом, а решив показать остальным город на вершине горы, чтобы сама невеста с лихвой вернула вверенные ей таланты Господу, призывает её и говорит: «Отвори Мне» и т. д., как было описано выше. Сиречь отвори мне своим служением двери душ, через которые Я могу войти в них. Отвори путь Моим овцам, чтобы они входили и выходили и пажить находили (ср. Ин. 10:9). Открой же Мне – сиречь во славу Мою – ларь сокровищ пренебесных – [сокровищ] учений и даров благодати, чтобы они изливались на верных. Отвори Мне, сестра Моя (по природе), возлюбленная Моя (любовью внутренней), голубица Моя (по простоте ума), чистая Моя (чистотою души и тела)! На сие дева оная преподобная ответила буквально, как следует в приведённом отрывке и как было изъяснено выше. Ибо рассказывала она мне втайне, что иногда, когда ей приходилось по велению Господа выходить из своей кельи и общаться с другими, сердце её наполнялось такой скорбью, что, казалось, вот-вот лопнет или разорвётся, и ничто, помимо Самого Господа, не смогло бы принудить её к этому.
[120] Итак, продолжая начатую нами историю, [заметим, что] после обручения, описанного выше, Господь начал потихоньку привлекать Свою невесту, бережно, впрочем, и с должной мерой, к человеческому общению, не отнимая у неё общения божественного – более того, скорее, прибавляя ей совершенств, как ниже будет с Его помощью описано. И всякий раз, когда Он являлся ей; когда научал её о Царствии Божием; после того, как открывал ей некоторые Свои тайны; после того, как он с нею читал или пел Псалтирь и Часы (как было сказано выше), тотчас же добавлял: «Ступай, ибо час обеденный и твои домашние уже собираются к столу; ступай и будь с ними, а потом возвращайся ко Мне!» Сие слыша, она, разражаясь горьким плачем, говорила: «По что, пресладостный Господи, Ты гонишь меня, несчастную, от Себя?! Если я Величество Твоё оскорбила, то вот, пусть тельце сие у ног Твоих понесёт наказание, в чем и я помогу охотно. Не попусти мне претерпеть сей суровой муки – отлучиться от Тебя хоть чуть-чуть, хоть на сколечко, Жених мой прелюбезный! А что мне до тех кушаний?! (ср. Мк. 5:7) У меня есть пища, которой не знают (ср. Ин. 4:32) те, к кому Ты меня отправляешь. Разве одним хлебом жизнь поддерживает человек? Не словом ли, исходящим из уст Твоих, оживится душа всякого смертного? (ср. Втор. 8:3, Мф. 4:4) Я, как Тебе лучше известно, избегала всякого общения, чтобы Тебя найти, Бога моего и Господа моего; ныне же, когда я по милосердию Твоему нашла Тебя и по милости Твоей счастлива с Тобою, несмотря на недостоинство своё, отнюдь не должно мне, оставив несравненное сокровище, снова плутать по людским распутьям, где невежество моё снова возьмёт верх, а я, постепенно ниспадая, окажусь пред Тобою отверженной. Да не будет так, Господи, по неизмеримому совершенству бесконечной благости Твоей, да не будет так, чтобы Ты приказывал мне или другому творить то, что может душу от Тебя отлучить!
[121] На сии и подобные [моления], кои дева, катаясь у ног Господа, изливала более рыданиями, нежели словом, Господь ответствовал: «Оставь теперь, дщерь сладчайшая, ибо так надлежит тебе исполнить всякую правду (ср. Мф. 3:15), дабы ты была обильна плодами не только для самой себя, но и, по благодати Моей, для других. Ибо Я не намерен нисколько отлучать тебя от Себя, но стремлюсь крепче соединить тебя со Мной через любовь к ближнему. Ты знаешь, что у Меня есть две заповеди о любви: о любви ко Мне и к ближнему, – на коих, по свидетельству Моему, утверждается Закон и пророки (ср. Мф. 22:40). Я хочу, чтобы ты исполнила правду сих заповедей и ходила, благодаря этому, не на одной, а на двух ногах, а в небеса летела на двух крылах. Ты должна помнить, как ревность о спасении душ, ещё в детстве посеянная в твоем сердце, так возросла, поливаемая Мною, что ты намеревалась притвориться мужчиной и в тех краях, где тебя не знают, вступить в Орден Проповедников, чтобы нести пользу душам. И опять же, тот хабит, что ныне носишь, ты с таким пылом желала из-за исключительной любви, которую возымела к верному Моему слуге Доминику, который прежде всего по причине своего радения о душах учредил свой Орден. Так что же ты дивишься и горюешь, когда Я веду тебя к тому, чего ты желала с детства?» А она, Господним ответом немного ободрённая, ответила подобно Пресвятой Марии: «Как будет это?» (Лк. 1:34) На что Господь ей: «Как благость Моя устроит и управит». А она, как добрая ученица в подражание Учителю молвила: «Не моя, Господи, но Твоя воля да будет во всём (ср. Лк. 22:42); ибо я тьма, а Ты свет, меня нет, но Ты тот, Кто есть; я безмерно глупа, а Ты – Премудрость Бога Отца. Но умоляю Тебя, Господи, если это не слишком дерзко с моей стороны, [объяснить], как же будет то, что Ты только что сказал, а именно, чтобы я, убогая и немощная душой и телом, оказалась полезной душам? Ибо, как известно Тебе, пол мой сему препятствует по нескольким причинам: и потому, что он презрен в глазах мужчин, и ещё потому, что по соображениям приличия сему полу не пристало общаться с полом другим.
[122] На что Господь ответил ей как бы вместе с архангелом Гавриилом, что у Бога не может остаться бессильным никакое слово (ср. Лк. 1:37). Ибо молвил Он: «Не Я ли сотворил человеческий род и образовал оба пола; и изливаю благодать Духа Моего, где хочу? Нет для Меня ни мужеского пола, ни женского, ни простолюдина, ни знатного; но все равны предо Мной, ибо всё возможно Мне в равной мере (ср. Гал. 3:28). Ведь Мне ангела сотворить так же легко, как и муравья; и все небеса создать – что одного червя. Написано обо Мне, что творю всё, что хочу (ср. Пс. 113:11), ибо нет ничего мыслимого, что было бы для Меня невозможно. Так что же тебя смущает «как»? Не думаешь ли, что Я не знаю, как найти способ, или не в состоянии сделать то, что Я вознамерился или решил сделать? Но поскольку Я знаю, что ты говоришь так не по неверию, а по смирению, то хочу, чтобы ты знала, что в нынешнее время настолько возобладала гордыня, и особенно у тех, которые считают себя учёными и мудрыми; что справедливость Моя не может сего более стерпеть, но требует посрамить их судом справедливым. Но поскольку милосердие Моё превыше всех дел Моих (ср. Вульг. Пс. 144:9), то прежде я пошлю им посрамление здравое и полезное (вдруг они захотят смириться, познав его), как я поступал с иудеями и язычниками, когда отправлял к ним простецов, исполненных от Меня божественной мудрости».
«Пошлю, – молвил Он, – женщин, от природы немудрящих и хрупких, но наделённых от Меня силою и премудростью божественной, на посрамление их безрассудства. Если благодаря сему они познают себя и смирятся, Я умножу Моё милосердие к ним, то есть к тем, кто учение Моё, поданное им в сосудах хрупких, но избранных (ср. Деян. 9:15), примут и последуют ему сообразно дарованной им благодати. Но если побрезгуют они сими целительными постыжениеми, то тех, кто откажется устыдиться так, Я судом Своим праведным введу в иные постыжения, да столь многие, что весь мир будет презирать их и брезговать ими. Ибо наисправедливейший и обычный суд над гордецами состоит в том, что те, кто по надмению гордыни пытается возвыситься над собой, низвергнулся даже ниже себя. Итак, когда Я решу послать тебя на внешнее служение (ad publicum), ты должна будешь тотчас же без промедления послушаться, ведь Я не оставлю тебя, где бы ты ни оказалась, и в будущем не покину тебя, но буду посещать, как обычно, и наставлять во всём, что тебе предстоит совершить».
Услышав сие, преподобная дева, как истинная дочь послушания, с благоговением поклонилась Господу, поспешно вышла из кельи и пошла в дом свой, и села там за стол с прочими, дабы исполнить повеление Спасителя.
[123] Остановись на мгновение здесь, дражайший читатель, ибо намерен я исполнить обещание, что дал перед Богом в начале. Ведь я говорил выше, если ты не забыл, что в этом произведении я не описывал ничего вымышленного, ложного или придуманного, но только то, что действительно узнал от Екатерины или от других людей. Итак, ты знаешь, что о некоторых предметах она говорила со мной часто и даже очень часто, но я не смог дословно (formaliter) запомнить всех её слов, как по небрежности, так и – стыд-то какой! – по лености моей, а также потому, что занятия, наваливавшиеся на меня после того, как я расставался с нею, вытеснили из моего ума эти и другие [воспоминания]. Изрядный вклад в это, думаю, привнесло то, что век мой на земле уже идет на убыль. Думаю, первой стареет, согласно Сенеке, память. Но когда такое происходит со мной, я привожу слова, которые, как мне кажется, скорее всего были сказаны, согласно тому, что я помню, и согласно порядку изложения предмета, о котором я говорю. Хотя к чести Бога Всемогущего и девы сей, Его преподобной невесты, а также к моему собственному смущению, должен признаться, что, когда я пишу, с её помощью приходит мне на ум многие множества [событий], о которых я прежде никогда не вспоминал – так что мне часто кажется, будто она неким образом находится рядом и как бы диктует мне то, что я пишу. Итак, читатель, пусть это будет для тебя правилом [оценки] слов, но не событий, ибо из оных я не привожу ничего, чего не узнал совершенно и достоверно от свидетелей, или из записей, или же сам. Вообще-то многие слова я помню буквально, а преимущественно те, которые относятся к учению, однако страх повредить истине заставляет меня вставить здесь [оговорку], которую ты сейчас читаешь.
[124] Теперь возвратимся к нашей истории. Дева находится среди других телесно, но умом она всецело со своим Женихом. Тягостно ей было всё прочее, что она видела и слышала, ибо только Его она любила всем сердцем, и от великой любви той казались ей часы, которые она проводила с другими, слишком долгими – они словно бы превращались в дни или годы; и при первой же возможности она возвращалась в келью свою, чтобы найти Того, кого любила душа её (ср. Песн. 3:1), а находя, обнимала Его ещё нежнее и удерживала ревностнее, да и поклонялась Ему благоговейнее. Тогда зародилось в ней желание (которое, пока она жила в теле, непрестанно возрастало), принимать святое Причастие так, чтобы не только дух её соединялся с Женихом вечным, но и чтобы тело её было причастно Его Телу. Ведь она знал, что хотя всечестное Таинство Тела Господня производит в душе духовную благодать и соединяет её со своим Спасителем (что является основной целью, с каковой оное Таинство было установлено), тем не менее, истинное Тело Его поистине вкушаемо телом вкушающего, и тело без всякого сомнения причащается Телу хотя и не телесно в полном смысле слова. Сего ради, стремясь ко всё более полному единению с предметом своей столь благородной любви, Она решила принимать Святое Причастие так часто, как только было возможно. Но поскольку этой теме ниже будет, с Господним поспешением, посвящена [отдельная] глава, то я не буду здесь более распространяться об этом.
Далее, Господь изо дня в день понуждал и побуждал её к умеренному общению с людьми, дабы пожала она, наконец, урожай душ, какового желал Он, из-за чего случилось так, что дева Господня, чтобы не казаться праздной в глазах своих домашних, начала иногда опять заниматься домашней работой, за чем последовало много дивных и достопримечательных [происшествий], описываемых в следующей главе по полном завершении сей первой. [Для подтверждения событий, описываемых в ней я не привожу никаких иных свидетелей, потому что всё сие мне поведала сама преподобная дева.
[ГЛ. II.]
[125] Богопосвящённая дева, видя, что воля Жениха её всецело в том, чтобы она иногда общалась с людьми, замыслила жить средь людей так, чтобы её общение не было бесплодным, но, скорее, служило примером добродетельного жития для тех, кто будет общаться с нею. Поэтому сначала она усердствовала в смиренных поступках, затем постепенно [перешла к делам] милосердия ради назидания ближним, не забывая, однако, ни на миг благоговейной и непрерывной молитвы и сопровождая её притом несравненным покаянным подвигом.
Итак, она начала смиренно уделять немало усилий труду рабскому и с радостным сердцем исполнять обязанности служанок на кухне и при трапезе: подметала и мыла посуду, а также занималась самой низкой работой при готовке. Она исполняла сие с особым усердием, когда домашняя прислуга страдала какой-либо телесной немощью: тогда он проделывала двойную против обычной работу, потому что и за болящей служанкой всячески ухаживала, и вместо неё исполняла обязанности служанки по дому. Но, что и сказать дивно, утешения Жениха её не оставляли из-за этого, ибо она казалась как бы от природы так склонна во всякий час и время к мысленному единению с Женихом вечным, что никакая внешняя деятельность или занятие телесное ей никоим образом не мешали пребывать в Его целомудренных объятиях. Ибо как огонь по природе стремится вверх, так и дух её, горящий огнём божественной любви, благодаря навыку, который неким образом стал как бы видимой природой его, неизменно стремился к горнему, где Христос сидит одесную Бога (ср. Кол. 3:1).
[126] По этой причине она в высшей степени часто испытывала то исступление тела, что называется экстазом, чему тысячу (так сказать) раз были непосредственными наблюдателями я и мои братия, которые были духовно рождены ею в Господе словом жизни (ср. 1 Кор. 4:15). Ибо же едва воспоминание о священном Женихе хоть на миг возобновлялось в сей душе святой, она, насколько это возможно, отдалялась от телесных чувств и удалялась из конечностей тела, то есть рук и ног, начиная с пальцев, а заканчивая членами целиком, а в тех местах, где они примыкали друг к другу, были прижаты так крепко, что их, скорее, можно было бы сломать или раздавить, но никак не сдвинуть. Глаза тоже были полностью закрыты, а шея замирала в неподвижности, так что прикосновение к оной в такие мгновения могло принести немало вреда её телу. Ибо часто мать её Лапа, пребывая в полном неведении о её экстазах, видя, как дочь неподвижно замирает с несколько согнутой шеей, пыталась вернуть её шею в обычное положение, но по окрику некоей сестры, знавшей, в чём дело, прекращала попытки. После же того, как дух возвращался к телесным чувствам, в шее возникала столь сильная боль, как будто по ней нанесли ряд сильных ударов. И сказала мне преподобная дева, когда я зачитывал при ней эти записи, что если бы её мать в попытке выпрямить ей шею приложила немного больше усилий, то совсем сломала бы её. И вот, при таковых исступлениях ума, когда преподобная дева возносилась на высоту, словно бы вторая Мария Магдалина, зачастую тело её вместе с духом возносилось от земли, дабы видно была, какова сила притяжения духа – о чём при водительстве Божием мы пространнее поведаем ниже. Но теперь перейдём к чуду, случившемуся при первых сих экстазах.
[127] Однажды, когда преподобная дева занималась у себя дома низкими, как я уже упоминал, работами, случилось так, что сидела при горящем угле или дровах и по обыкновению простых служанок поворачивала вертел с жарившимся мясом. Но в то время, как она делала всё это внешне, душа её внутри не менее горячо поджаривалась на огне Святого Духа. И вот, помыслив о Том, Кого любила душа её, и обратившись к Нему в душе, она пришла в экстаз, а по этой причине внешнее действовать совершенно прекратила. Что заметила жена брата её, которую звали Лиза, и, пока по её наблюдениям [длился экстаз], зная нравы девы, сама ворочала вертел, позволяя Екатерине услаждаться объятиями небесного Жениха. Когда же мясо то было приготовлено и приготовлен обед для всех домашних, а она все ещё пребывала в экстазе, вышеупомянутая Лиза, исполнив все работы, которые обыкновенно творила преподобная дева, позволила ей вволю насыщаться божественными утешениями и, войдя в середину дома, оказала обычные услуги мужу и детям. Расстелив им постели, она проводила их спать, а сама решила бодрствовать, пока святая дева не придёт в себя, чтобы увидеть завершение экстаза её. Потом, выйдя ненадолго, Лиза пошла в то помещение, где прежде оставила преподобную деву Господню в восхищении, и обнаружила, что её тщедушное тельце растянулось на углях огненных (кстати, в том доме было изрядно угля, потому что на варку красок тратилось огромное количество топлива). Увидев сие, она воскликнула, завопив: «Ай-ай-ай! Екатерина сгорела совсем!» Подойдя же стремительно поближе и вытащив её из огня, Лиза обнаружила, что ни тело Екатерины, ни одежда её нигде не потерпели ни малейшего вреда от огня; мало того – на них не осталось ни следов [копоти], ни запаха гари. А что ещё [удивительнее], на одежде не было заметно даже пепла, хотя потом, тщательно подсчитав, решили, что она провела в огне несколько часов.
Понимаешь ли ты, читатель, как велика была сила внутреннего огня, сокрытого в душе девы сей преподобной, мощь коего совершенно подавила природную силу огня внешнего? Не кажется ли тебе, что здесь неким образом повторилось чудо, случившееся с тремя отроками? (см. Дан. 3:23-25) И сие чудо огненное случились с ней не единожды, более того, а повторялось даже многократно.
[128] Ибо, когда однажды в церкви Братьев-проповедников сиенских она преклонила голову у нижней части одной колонны (ведь в той колонне были помещены некие изваяния святых), одна восковая свеча, зажжённая там кем-то в честь некоего святого, упала на голову молящейся девы, да так и пламенела, прежде чем воск полностью не выгорел. Дивное дело, а для наших времён –совершенно поразительное! Свеча, упав на головное покрывало девы, продолжала светить до тех пор, пока полностью не иссякло топливо восковое, и ничуть не повредила ни головы, ни покрывала, и даже ни малейших следов на священном её покрывале не оставила. Когда же воск полностью выгорел, светоч погас сам собой, словно бы лежал на железе или твердом камне. Свидетельницами сего события оказались несколько подруг Екатерины, которые видели оное и впоследствии сообщили мне. Одна из них – вышеупомянутая Лиза, другую звали Алессией, третью же – Франческой; причём первая из них ещё жива, а двое других по смерти своей наставницы последовали за нею.
Помимо сего весьма часто и в разных частях мира случалось так (а прежде всего тогда, когда она, а вернее, благодать Божия чрез неё, пожинала какой-нибудь необычайный урожай душ), что древний змий, чрезвычайно разъярившись на неё, в присутствии многих её дочерей и сынов во Христе ввергал её по попущению Господню в огонь. Когда же присутствовавшие, плача и рыдая, пытались вытащить её из огня, она с улыбкой на радостном лице из огня выходила, не имея никаких повреждений ни на себе, ни на своей одежде. И говорила она своим: «Не бойтесь, ведь это Мала-Таша». Ибо таким образом она именовала дьявола, потому что он скверный мешок для душ, ведь в том краю маленький мешок обычно называют «ташей» (Mala – лат. и ит. «плохая», Tasche – нем. «сумка». – прим. пер.). Один из сынов её, именуемый Нерио Ландокки Сиенский, засвидетельствовал мне, что дважды видел сие собственными глазами, и что при этом присутствовало несколько других особ обоего пола, а поскольку он вёл жизнь целомудренную и почти отшельническую, да и знаком мне давно, я бессомнительно доверяю словам его.
[129] О том же самом свидетельствует некий Габриэле Пикколомини Сиенский, утверждая, что он присутствовал при сем. И добавляет, что когда однажды перед ложем, в коем почивала преподобная дева, оказался огромный глиняный горшок, полный горящего угля, древний враг так неожиданно и с такою силой швырнул её в огонь, что, ткнувшись с размаху головой в угли, она разбила сосуд на множество осколков, однако ни голова её, ни головное покрывало ничуть не пострадали от огня или мощного удара; более того, улыбаясь и посмеиваясь над злобным гонителем, дева поднялась целая и невредимая, повторяя часто: «Мала-Таша». Нечто подобное написано в житиях святых о Евфраксии (вернее, Евпраксия или Евфрасия, св., пам. 12 марта. – прим. лат. изд.). Да и не диво то, что Бог попускает сему случаться с невестами Своими, коль попустил Он тому же лукавому перенести единородного Сына сердца Своего на крыло Храма и на вершину горы. Признаюсь, дражайший читатель, что я перескочил от начала почти к концу, но к сему меня побудило единство темы, и чтобы мне не пришлось потом возвращаться к чудесам, которые Господь сотворил через неё над огненной стихией, я сделал это отступление.
[130] Но возвратимся к нашей истории. Преподобная дева, научаемая Верховным учителем, более того, даже принуждаемая Им, с каждым днём познавала всё больше, как услаждаться объятиями Жениха небесного на ложе из зелени (ср. Песн. 1:15) и как спускаться в долину лилейную (ср. Песн. 2:1), чтобы стать плодоноснее, причём одно творя не в ущерб и не за счёт другого, что в земной жизни (in via) является высшим совершенством и паче совершенной любви. Но поскольку любовь была корнем и причиной всех действий её, дела любви к ближнему превосходили все другие её дела (ср. Вульг. Пс. 144:9). Дела же сии были двух родов, ведь, как известно, и ближний имеет двойную сущность, то есть духовную и телесную. Но так как, согласно порядку науки о естестве, подобает восходить от несовершенного к совершенному, то сперва скажем о делах милосердия, которые она совершала по отношению к телам своих ближних, а во-вторых, о том, что он свершала для спасения душ, если, однако, сие второе вообще выразимо, в чём я сомневаюсь. Далее, в отношении первых, по причине величия её свершений мы должны различить те дела, которые она творила для тел больных, и те, которые она совершала, помогая ближним в нужде, потому что они самые замечательные, и всякое такое её дело сопровождалось божественным чудом, заслуживающим благоговейного внимания.
Итак, следующая глава будет посвящена, во-первых, чудесам, которые она совершала, помогая нуждающимся; во-вторых же, дивному милосердию, которое она проявляла к телам болящих. И тут я полагаю конец этой главе, а свидетели событий, что описываются в ней, были уже поименно перечислены выше, и поэтому я решил не повторять их здесь.
[ГЛ. III]
[131] В дальнейшем обручённая Господу дева, замечая, что Жениху вечному она становится тем угоднее, чем больше милости проявляет к своим ближним, от всего сердца вознамерилась щедро помогать ближним в нуждах их и исполнила [сие намерение своё]. Однако поскольку в мире сем она ничем не обладала в качестве собственности (как истинная инокиня, постановившая соблюдать три основных обета, как было сказано в первой части), то, дабы не браться за чужое дело вопреки воле Господа, пошла к отцу своему и смиренно спросила, не будет ли его разрешения и воли на то, чтобы она по внушению совести что-нибудь уделяла нищим в милостыню из того, что Господь даровал ему и дому его. На что он тем охотнее дал согласие, потому как в то время яснее осознавал, что дочь его будет ходит стезёй Божией всесовершенно. Итак, он дал согласие, и не только лично наедине, но даже вслух повелел всему своему дому, сказав: «Пусть никто не препятствует дочери моей милейшей, когда изволит она подавать милостыню; ибо я даю ей на то все полномочия; пусть даже если она решит раздать всё, что у меня есть в доме сем». Получив столь полную свободу, дева преподобная начала не столько раздавать, сколько расточать имущество отца. Однако, поскольку она была в высшей степени наделена даром рассудительности, то щедро помогала не всем, кто бы только ни пожелал, но тем, о нужде коих знала, даже если они не просили. Ибо приметила она, что есть среди сих бедных несколько семей, живущих недалеко по соседству, которые, несмотря на огромную нужду, не приближались к их дому, стыдясь просить милостыни. Мимо них Екатерина не проходила без внимания, но, подражая блаженнейшему Николаю, с раннего утра, прихватив с собою хлеб, вино, масло и прочее, что могла взять, ходила сама в одиночку к дверям домов бедняков оных, а поскольку по чудесному действию Господню двери оказывались открыты, она клала за двери всё, что принесла, и, отпрянув, убегала домой.
[122] Случилось же так, что однажды она захворала телесно, да так, что полностью распухла от подошвы ступни до макушки и была не в силах ни подняться с кровати, ни встать на ноги. И услыхала она, что в двух кварталах от её дома есть некая бедная вдова, которая вместе с сыновьями и дочерьми страдает от голода немалого и нужды. Тут же проникнувшись искренним состраданием, Екатерина следующую ночь молила Жениха своего, дабы изволил Он уделить ей на время столько здоровья, чтобы она могла помочь той бедняжке. И ещё до зари, внезапно поднявшись и обойдя дом, она наполнила мешок пшеницей, сколько ей удалось сыскать, и бутыль, то есть огромный стеклянный сосуд – вином, а другой сосудец – маслом; и набрала всякого съестного да снесла к себе в келейку. Потом она заметила, что хотя любую [часть этих припасов] по отдельности она смогла занести к себе в келью, всё вместе доставить до дома вышеназванной вдовы ей невозможно, ибо слишком далеко было туда идти. Итак, всё-таки примерившись ко всему перечисленному, стала она нагружать своё тщедушное тельце, то есть что-то взяла правой рукой, что-то левой; одно привязала за спиной, другое приторочила к поясу; и так, в надежде на небесную помощь, попыталась поднять сию тяжесть. И тут же, благодаря сотворённому Господом чуду, она подняла её так легко, как будто все те вещи попросту полностью лишились веса. Ибо она как мне, так и другим своим духовникам признавалась, что вещи эти при всём их весе она поднимала, словно бы они весили, как одна соломинка, и общий их вес тогда ощущала не более, чем если бы несла одну соломинку; хотя, если подумать, то тогдашний груз её должен был весить с сотню фунтов или около того. И вот, едва на самом рассвете колокол возвестил начало дня, прежде чего никому не позволено ходить по улицам, святая дева, хоть и совсем молоденькая, да и с полностью распухшим телом, тут же вышла одна из своего дома с благим своим бременем и поспешила к дому нищенки так быстро, как будто ничем не страдала и ничего тяжёлого не тащила.
[133] Когда же она приблизилась к жилищу бедной женщины, предметы те стали так тяжелы, что, казалось, ей их ни шагу никак не пронести. Но она, полагая, что это игра пресладчайшего её Жениха, с упованием воззвала ко Господу и с трудом подняла ношу, чтобы большей удостоиться заслуги, и подошла к дверям жилища той убогой вдовы. И обнаружив, что по мановению Божию верхняя створка отворена, она просунула руку и открыла дверь полностью, а ношу сложила внутри дома. Когда сгружала её, она наполнилась такой тяжестью, что разбудила своим грохотом нищенку, из-за чего Екатерина попыталась было убежать, но, так как небесный Жених все ещё играл с нею, не смогла. Ибо сила, дарованная ей, когда она с молитвой встала с постели, в тот миг была почти совсем отнята у неё, и оказалась она немощной, как прежде, и слабой и не могла двинуться. Посему, горестно улыбаясь, она обратился к играющему с ней Жениху со словами: «Зачем ты так обманул меня, о Сладчайший? Неужто любо Тебе так подшучивать надо мной и смущать, задерживая здесь? Неужто Ты хочешь обнаружить глупость мою при всех, здесь живущих, а вскоре уж и при прохожих? Или, быть может, Ты позабыл о милостях Своих, кои изволил оказать недостойнейшей из Своих служанок? Верни мне, умоляю, силы, чтобы я смогла вернуться в свой дом!» Говоря сие, она всё время пыталась уйти, повторяя также своему телу: «Нужно идти, хоть умри!» И вот, скорее ползком, чем шагом, она немножко отдалилась, но не настолько, чтобы бедная та женщина не смогла, встав с постели, узнать хабита своей благодетельницы, по которому догадалась и о личности её. Ну а Вечный Жених, видя сердечную скорбь невесты Своей и как бы не в силах снести её, вернул ей силу, которую уделил прежде, но не в такой полноте. Поэтому, с трудом дойдя до дому прежде, чем совсем рассвело, она легла в постель, как и прежде, обессиленная. Ведь телесные немощи овладевали ею именно так – не естественным порядком, но согласно повелениям Всевышнего, что с позволения Господня будет описано ниже.
Итак, перед тобою, читатель, не единичное, а многократное повторение дел блаженнейшего Николая, увенчанное тяжкой телесной немощью. Но проследуем же далее и поглядим, не удастся ли нам обнаружить и подобие щедрости славного Мартина!
[134] Однажды, когда она была в церкви Братьев Проповедников сиенских, подошёл некий нищий к ней и попросил ради любви к Богу вспоможения в нуждах своих. А она, не имея тогда при себе ничего, что можно было бы подать нищему, потому что не привыкла носить с собой ни золота, ни серебра, попросила нищего подождать, пока она не сходит домой, ибо она охотно и обильно подаст ему милостыню из того, что там найдётся. Но нищий оный, который, как я думаю, был не тем, что являла его наружность, молвил: «Если у тебя есть хоть что-нибудь мне в подаяние, прошу о том сейчас же, потому что я не могу ждать так долго». Она же, не желая отпускать его ни с чем, с тревогой задумалась, что бы можно было дать бедняку, дабы помочь ему в нужде. И при размышлении вспомнился ей крест некий серебряный небольшого размера, какой по обыкновению часто пришивают к чёткам, что в просторечии именуются «Pater noster», потому по их числу повторяют Молитву Господню (ср. с белор. «пацеркі» – чётки и бусы вообще. – прим. пер.). И вот, преподобная дева, взяв сей «Pater noster» в руки, поспешно оборвала нить, на которой висел серебряный крестик, и с радостью подала нищему. А он, получив крест, ушёл совершенно довольный и больше ни у кого не просил милостыни, как будто пришел только для того, чтобы получить оный крест. Ну а на следующую ночь, когда дева по своему обыкновению молилась Господу, явился ей Спаситель мира, держа в руках оный крест, украшенный множеством драгоценных камней, и сказал: «Знаком ли тебе крест сей, дщерь?» На что она Ему: «Отлично знаком, но у меня он не был так прекрасен». А Господь: «Ты дала Мне сие вчера с чувством милости и щедрости, каковое чувство означаемо сими драгоценными камнями. А от Себя обещаю тебе, что в День судный перед всем собранием ангелов и людей Я вручу его тебе в нынешнем виде, дабы радость твоя достигла вершины; не утаю и утаить не позволю милосердного поступка, Мне тобою оказанного, в тот день, когда милость и суд буду петь Отцу» (ср. Пс. 100:1). Сказав сие, Он исчез, оставив деву, которая, промолвив в душе смиренные слова благодарности, весьма воспламенилась желанием творить подобное и впредь, что и подтвердили последующие события.
[135] Ибо же превозлюбленный Жених душ, привлечённый милостивыми и милосердными деяниями Своей невесты, дабы дать нам пример, испытывал её и побуждал к большему. Ибо однажды, после того, как в вышеназванной церкви допели Третий час и все удалились, Екатерина, которая привыкла молиться подольше, осталась в церкви наедине с одной сподвижницей. А когда она спустилась из капеллы сестер, которая находится на возвышенном месте, чтобы вернуться домой, внезапно сам Господь явился невесте Своей в образе молодого человека, нагого и нищего странника, которому на вид было года тридцать два – тридцать три или около того, и попросил Бога ради уделить какой-нибудь одежды. А она, уже паче обычного горя желанием творить дела милосердия, молвила: «Подожди, милейший, немножко тут: я схожу в ту капеллу и немедля выдам тебе одежду». И, вернувшись в капеллу, откуда только что спустилась, она с соблюдением приличий сняла с помощью сподвижницы через ноги рубашку без рукавов, которую носила под верхней рубашкой по причине пронизывающей стужи, и отдала её с великой радостью нищему. Получив же сие, нищий тот вновь обратился к ней с просьбой, молвив: «О сударыня, молю вас, раз уж вы снабдили меня шерстяной одеждой, не изволите ли вы также снабдить меня одеянием льняным?» На что она весьма охотно согласилась, промолвив: «Ступай за мною, милейший, ибо то, что ты просишь, я дам тебе сполна». Итак, невеста шествует впереди, а Жених неузнанный –следом. И она, войдя в дом отца своего, направилась к месту, где хранились льняные одежды отца и братьев её, и, взяв сорочку одну и штаны, с радостью подала нищему. Но, получив сие, он всё не переставал просить, а молвил: «Но, сударыня, ради всего святого, что мне делать с этой рясой – ведь у неё нет рукавов, чтобы прикрыть руки? Дайте мне каких-нибудь рукавов, чтобы я мог уйти от вас полностью одетый!» Услышав то, она ничуть не была раздосадована, а, скорее, загорелась рвением и обошла дом, старательно разыскивая, не найдутся ли какие-нибудь рукава. И случайно она нашла новую, ещё не надёванную рубашку домашней прислуги, висящую на шесте. Поспешно сняв её и оторвав с неё в торопливом поспешении рукава, она вежливо вручила их упомянутому нищему.
[136] После такого её поступка Тот, кто испытывал Авраама, продолжал настаивать и молвил ей: «Вот, сударыня, вы одели меня, за что воздаст вам Тот, из любви к Кому вы свершили сие. Но есть у меня один товарищ, находящийся в приюте, который тоже весьма нуждается в одежде, и если вы изволите послать ему одежду, я охотно доставлю её ему от вашего имени». А она, ничуть не утратив запала щедрости и не возмущаясь повторению прошений оного бедняка, глубоко задумалась, где бы взять одежды, чтобы одеть нищего, находящегося в приюте. Помня же, что все в доме, кроме отца, болезненно переносили её милостыни, а что имели, запирали на ключ, чтобы она не отдала сего нищим, да к тому же благоразумно рассудив, что уже изрядно взяла у служанки и не следует отнимать у неё всего, поскольку та тоже была бедна, она не могла прийти к окончательному и твёрдому решению, ибо в девственном сердце её происходил нешуточный спор: должно ли ей отдать оному нищему единственную оставшуюся у неё одежду – рубашку. Любовь к ближнему настаивала на положительном ответе, но с противоположной стороны возражала девическая пристойность. В итоге таковой борьбы любовь победила любовь: сиречь любовь, которая взирает на души, [превозмогла] любовь, что сострадает телам ближних. Ибо она подумала, что если будет ходить без одежды, то от этого последует немалый соблазн для ближних, чьи души она более любила, чем их тела; и ради телесной милостыни ни в коем случае не следует соблазнять их души. Поэтому-то нищему она ответила так: «Право, милейший, если бы мне можно было остаться без этой рубашки, я бы с радостью отдала её тебе, но поскольку [в таком виде мне быть] не подобает, а другой одежды мне сейчас взять неоткуда, умоляю не обижаться – ведь я преохотно дала бы тебе всё, что бы ты ни попросил». А он, улыбаясь, молвил: «Хорошо, я вижу, что ты охотнейше отдала бы мне всё, что могла бы. До свидания!» И увидела каким-то образом Екатерина при уходе его некие признаки того, что это был Тот, Кто являлся ей так часто и явно, Кто общался с нею так близко – от чего сердце девы оставалось в сомнениях, но и горело притом (ср. Лк. 24:32). Однако поскольку она считала себя совершенно недостойной такого дара, то обратилась к своим обычным упражнениям, которыми каждый день занимала время своё.
[137] А в следующую ночь, когда молилась она, явился ей Господь Иисус Христос, Спаситель мира, в образе того бедняка, держащего в руке дарованную ему девой рубашку, украшенную жемчугом, блистающую и сверкающую каменьями драгоценными, и сказал: «Не узнаёшь ли, дщерь вселюбезная, рубашку сию?» Когда ж она сказала, что узнала её, но не было на ней таких украшений, когда она дарила её, Господь добавил: «Ты даровала Мне вчера рубашку сию с такой искренней щедростью и нагого Меня одела со столь великой любовью, дабы защитить Меня от мук стыда и стужи! А Я ныне подарю тебе одеяние из Тела Моего, хоть и незримое для людей, но для тебя ощутимое, которым душа и тело твои (uterque homo tuus – «тот и другой человек твой», т.е. обе части человеческого существа. – прим. пер.) будут ограждены от всякого пагубного холода, пока в своё время не облекутся в славу и честь пред Святыми и Ангелами». И тут же из рубца от раны на боку Своём Он руками Своими священнейшими по мерке хрупкого тельца девичьего извлёк некое одеяние цвета крови, испускающее во все стороны лучи, в кое облачил деву оными священными руками, сказав: «Сие одеяние с [чудесными] свойствами его Я предаю тебе на время жизни твоей земной в знак и залог риз славы, в кои ты в свое время будешь облачена на небесах». И на том видение исчезло. Благодать же сего подарка столь великое оказывала действие не только на душу, но и на тело преподобной девы, что с того часа она в зимнюю пору никогда не носила больше рубашек, чем летом, но всегда довольствовалась одной верхней рубашкой поверх нижней рубашечки; и с того времени ни в какую пору, даже ради зимней стужи (которой, как она признавалась мне, совсем не чувствовала), не надевала никакой лишней одежды и не куталась ни во что дополнительно; мало того, постоянно ощущая на себе оное одеяние, она прямо осязательно чувствовала, что отнюдь не нуждается в другой рубашке.
[138] Понимаешь ли ты, читатель, какой высоты душевной была дева сия, которая в тайном творении милостыни последовала по стопам блаженнейшего Николая, в дарении одежд своих уподобилась славному Мартину и не только заслужила одобрения деяний своих, увидев Спасителя и услышав слова Его, но ещё и обетование вечной награды от непогрешимой Истины обрела, а также удостоилась постоянно чувствовать на себе самой ощутимое и вечное знамение того, как угодны были дары её Подателю всего сущего. Ибо как тебе кажется, когда Господь сказал, что в Судный день покажет ей оный серебряный крест, а кроме того – что облечёт на небесах сию преподобную деву в одеяние славы, то не поведал ли Он тем самым ей совершенно открыто не только о конечном спасении, но и о возвышенной славе её, да не поднял ли завесу над вечным её предназначением? Сего ты отнюдь не найдёшь в [житиях] поименованных выше святых, а именно того, что, когда они сотворили оные славные милостыни, им было бы открыто, что за тем последует вознаграждение в вечности. «Мартин, – молвил Господь, – ещё будучи оглашенным, покрыл Меня сей одеждой», но Он не добавил: «Я дам ему славное одеяние на небесах», хотя в итоге так и должно было произойти; и не было дано ему тогда никакого ощутимого предзнаменования грядущего одеяния славы, в отличие от того, что, как видишь, случилось с преподобной сей девою. И не пренебрегай такими откровениями и таковыми знамениями, ибо если одна только уверенность в окончательном спасении вызывает в душе столько радости и столько утешения, что ни словом сказать, ни пером не описать, то что тогда доставит уверенность в обретении великой славы в небесах? Отсюда впоследствии происходит умножение всех добродетелей, а именно: терпения, мужества, умеренности, старания и усердия в делах святости, веры, надежды и любви –и неизменное укрепление всех добродетельных навыков; и все, что прежде было трудным, становится лёгким; и всё что угодно душа оная перенести и соделать может ради Того, Кто даёт ей понять, что избрал её в вечности, и неизреченно укрепляет её. Итак, из сего ты узнал о преподобной деве нечто необыкновенное по сравнению с тем, что слышал прежде, но, полагаю, ниже ты получишь ещё больше сведений, да и более необыкновенных. Ну а теперь продолжим начатое.
[139] Также и в другой раз Богу любезная дева, непрерывно пылая внутренне огнем сострадания, прослышала, что некий нищий, добровольно лишивший себя земных благ ради Бога, страдает от недоедания; чего ради она некую льняную суму, пришитую к внутренней стороне рубашки, носимую на всякий случай подобного рода, наполнила куриными яйцами, дабы накормить Христа в нищем Его. Итак, подойдя к месту, где обитал уже упомянутый нищий, она зашла в некую церковь, где дух её, памятующий, что сие дом молитвы, тут же вознёсся в молитве к Тому, с Кем она всегда пребывала в единении; и оставил телесные чувства, как было сказано выше в предыдущей главе. И придя таким образом в экстаз, она случайно преклонилась телом на ту сторону, где висела сума, полная яиц; и вся тяжесть тела сосредоточилась на оной суме, причём так, что лежавший там вместе с яйцами некий медный напёрсток, вроде тех, что портные обычно надевают на палец, сломался и распался на три части. Зато яйца, помещённые туда из любви к ближнему, оказались прочнее меди, никак и нигде не повредившись, словно бы и не было их там. Чудно молвить о том, но ещё чудеснее, что так случилось! В течение многих часов оные яйца выдерживали всю тяжесть девичьего тельца, и их тончайшая скорлупа ничуть не потрескалась; и то, чего не смог выдержать медный напёрсток, выдержали хрупчайшие оболочки яиц. Причём совершенно невозможно, чтобы вся тяжесть девичьего тела пришлась на напёрсток – [что ясно] любому, кто пожелает тщательно сравнить количество яиц, на которые налегло тело, с размером напёрстка. Таким образом, любовь, наполнявшая сердце девы сей преподобной, не только делами милостивыми оказывала помощь ближнему, но и как бы постоянно прославляла Всевышнего божественными чудотворениями. Чтобы яснее показать сие, я намерен рассказать кое-что чудесное, свидетелей чему было столько, сколько людей обоего пола жило в отеческом доме, а их, как я слышал от многих заслуживающих доверия лиц, насчитывалось около двадцати.
[140] Ибо ведь мать её Лапа, невестка Лиза, брат Фома – первый духовник её и многие другие, проживавшие тогда в доме Якопо, родителя сей преподобной девы, сообщают мне, что во время, когда с великодушного разрешения оного Якопо она щедро раздавала милостыню бедным, случилось так, что домочадцы пили вино из такого бочонка, где оно случайно испортилось. А дева, которая имела обычай давать бедным во славу Божию хлеб, и вино, и прочую снедь не худшего, а по возможности лучшего качества, заметив сие, стала черпать хорошее вино из другого бочонка, из которого ещё никто ни капли не почерпнул, и каждый день потчевала им нищих. Бочонок же или, иначе говоря, сосуд сей столько вмещал метретов или, иначе говоря, мер доброго вина, что, по всем оценкам, его в обычных условиях должно было бы хватить семейству дней на пятнадцать или, самое большее, на двадцать – при бережливом расходовании. Однако прежде чем вино из сего сосуда начали подавать домочадцам, дева Господня ежедневно в течение многих дней в изобилии потчевала вином из него нищих, поскольку ей было нельзя запретить брать ничего из того, что имелось в доме. Наконец, по прошествии многих дней, тот, кто заведовал погребом, стал обыкновенно подавать вино из того же самого сосуда для семьи, но это не удержало деву от привычного щедродательства – более того, она раздавала тем щедрее, чем, как ей думалось, незаметнее и без ведома своих домашних может это делать, коль скоро из того бочонка стало пить всё семейство.
И пило семейство вино оное не в течение пятнадцати только или двадцати дней, но целый и полный месяц, а в сосуде, из которого они черпали, по-видимому, всё не становилось меньше прежнего. Дивились братья девы и прочие члены семейства и сошлись к отцу, радуясь тому, что сосуд тот так долго поил семью, да ещё, по-видимому, вина хватит в нём на немалое время. И то ещё прибавляло радостного удивления всем, пившим вино сие, что никто из них не помнил, чтобы доводилось им пить такого доброго вина с таким славным и приятным вкусом. Поэтому-то веселило вино сие сердца оных людей (ср. Пс. 103:15) не только своим удивительным количеством, но и своим восхитительным качеством.
[141] Далее же, хотя они не знали, откуда сие берётся, дева преподобная, которая знала Источник блага, из Коего проистекало столько чудес, начала щедрой рукой и в открытую подавать упомянутое вино всем нищим, кого ей удавалось найти. Но даже тогда вино в сосуде том не иссякало и вкус его ничуть не менялся. Так прошел второй месяц, и наступил третий, а всё оставалось по-прежнему, пока не пришла пора сбора винограда, и сосуды предстояло наполнить новым вином, к чему и начали их подготавливать. Чего ради ответственные за это члены семьи решили полностью опорожнить сосуд да наполнить его вином молодым, которое уже в избытке лилось из точил. Но даже тогда божественная щедрость не прекратилась. Итак, приготовляют другие сосуды, наполняют их молодым вином, а в точилах вино всё не кончается. После чего молодой человек, занятый этим в то время, послал с просьбой, чтобы опорожнили и подготовили тот сосуд, но получил ответ, что как раз накануне вечером из этого сосуда отлили большую флягу чистого, белого, прозрачного вина, и его, по-видимому, не стало меньше прежнего. На что чуть ли не досадуя, он возразил: «Слейте всё вино, что там есть, да наберите его куда-нибудь, а сосуд откройте; доставьте [его сюда], чтобы заполнить молодым вином, ибо мы не можем больше ждать». Предивное дело и в наши времена почти неслыханное! Сосуд, из которого накануне обильно лилось чистое вино, полностью открыли, и в нём не оказалось и следа вина, как будто в течение многих месяцев в нём ни капли вина и не бывало. И так как он показался всем совершенно сухим, то никто не мог бы усомниться в том, что вина из оного сосуда уже давным-давно невозможно было бы получить – от чего, несомненно, немалое изумление охватило всех, кто это наблюдал. Тут только и осознали, каким чудом было то, что вино доселе прибывало в количестве, да в качестве [улучшалось], когда наконец-то своими собственными глазами ясно увидели высохший сосуд. Чудо сие свершилось и стало в то время известно в Сиене, чему оказалось столько свидетелей, сколько было обитателей в том доме, хотя выше я назвал по именам нескольких мужчин и женщин, которые мне сие поведали. И на том я полагаю конец сей главе.
[142] В душе девы сей обитало достодивное сострадание к бедным, но гораздо более удивительна и возвышенна была жалость к болящим, что охватывала её сердце. Из-за сей жалости она творила почти что неслыханные дела, каковые людям несведущим покажутся, наверно, невероятными, но из-за этого не следует обойти их молчанием, а наоборот, в целости поведать ради вящей славы Бога всемогущего. Устный рассказ брата Фомы и писаные сочинения брата Варфоломея Доминичи из Сиены, ныне магистра священной Теологии и приора Римской провинции (к которым стоит добавить [сообщения] нескольких заслуживающих всяческого доверия дам, в том числе вышеназванных Лапы и Лизы) возлагают на меня необходимость поведать следующее.
[143] Жила в городе Сиене некая больная и неимущая женщина по имени Текка, которая за неимением средств принуждена была искать какого-нибудь приюта, где бы ей дали лекарств от недуга её, каковых она сама приобрести не могла. В итоге вышло так, что её приняли в приют настолько убогий, что она там едва могла получить самое необходимое. Болезнь же её настолько усилилась, что всё тело её покрылось проказой, отчего она дошла до ещё более несчастного состояния, ведь, чтобы не заразиться, никто не хотел находиться при ней и ухаживать за нею; хуже того, даже подумывали, не выслать ли её из города, как обычно поступают с такими. Когда о сем проведала преподобная дева, она, охваченная пылом любви к ближнему, поспешила в упомянутый приют и, с дружеским расположением посетив вышеназванную прокажённую, а заодно осмотрев её, предложила не только помогать ей в земных нуждах, но и неустанно ухаживать за нею до самого конца. А что молвила словом, то на деле всесовершенно исполнила. Ибо каждое утро и каждый вечер она лично посещала названную больную, а также сама готовила и подавала ей всякую пищу. И созерцая в прокажённой той мысленным оком Жениха своего, служила ей со всяческою заботой и почтением.
[144] И хотя преподобная дева исходила при этом из [намерений] самых что ни на есть добродетельных, однако породило то в больной женщине порок гордыни и неблагодарности. Ведь часто случается с теми, чьи души не обладают добродетелью смирения, что они надмеваются от того, от чего должны более смиряться, а то, что должно бы склонять их к благодарности, пробуждает в них наглость. Так и вышеназванная больная от смирения и милосердия блаженной сей девы впала в порок наглой надменности. Ибо она, видя, что Екатерина столь неослабно предаётся своему служению, начала то, что делалось по доброхотной милости, требовать как чего-то долженствующего: бранить сиделку свою грубыми словами, а к брани своей прибавлять поношения, когда не получала вволю того, чего ей хотелось. Действительно, случалось порой так, что дева Господня молитву свою утреннюю в церкви творила немножко дольше обычного, а вследствие позднее приходила ухаживать за больной, и та в нетерпении встречала её по приходе гневными и насмешливыми речами, говоря: «Добро пожаловать, государыня королева Фонтебрандская!» (Ибо так называется квартал, где был и ныне находится отчий дом девы) «О как славна, – продолжала она, – королева сия, что весь день простаивает в церкви Братьев (доминиканцев. – прим. пер.)! Ведь вы у Братьев провели всё утро, сударыня? Вы, я вижу, всё не насытитесь Братьями теми». Этими и подобными словами она, насколько её хватало, старалась вывести из себя рабу Христову, но та, ни чуточки не задетая этим, отвечала ей, словно собственной родительнице, смиренно и нежно утешая её, говорила: «Милейшая матушка, не тревожьтесь Бога ради; я хоть и замешкалась малость, однако быстро исполню всё, что нужно по уходу за вами». И торопливо разведя огонь и поставив на него горшок, готовила пищу для своей ругательницы, а во всех прочих нуждах услужала с таким проворством и дивным усердием, что даже сама нетерпеливая [больная] дивилась.
[145] Сие продолжалось долгое время, а деве всё никак не наскучивало ухаживать [за больной], и душа её отнюдь не охладевала в обычном для неё рвении. Многие просто удивлялись, но Лапа, родительница её, возмущалась этому и кричала, говоря: «Дочь моя, ты непременно подцепишь проказу. Я совсем не согласна, чтобы ты ухаживала за той прокаженной!» Но Екатерина, возложив всё упование своё на Господа, смягчала ярость матери нежными словами и увещевала её не бояться того, что она заразится; и уверяла, что не сможет оставить служения оного, Господом ей порученного; и, преодолевая таким образом все препятствия на пути служения милосердного, она упорно продолжала святое дело. Уразумев сие, древний враг обратился к иной уловке и поразил проказой, когда Господь ради вящей славы Невесты Своей попустил сие, руки преподобной девы. Ибо же на руках её, коими она прикасалась к телу прокаженной, показались столь явные признаки заражения, что у всякого, кто глядел на руки преподобной девы, не оставалось сомнений в том. Но она, никоим образом не отступая из-за этого от своего святого занятия, предпочитала, скорее, целиком покрыться струпьями, чем оставить начатое милосердное служение; ведь она презирала собственное тело, как грязь, и не заботилась о том, что с ним случится, коль оказывает она угодное служение вечному своему Жениху. И вот, струпья сии оставались целый ряд дней, но преподобной деве это казалось ничтожно малым по сравнению с величием небесной любви. Но затем Тот, кто исцеляет ударом, возвышает низвержением и любящим Его всё заставляет содействовать ко благу (ср. Рим. 8:28), с благоволением воззрел на мужество Невесты Своей и не допустил, чтобы зараза эта продлилась долго.
[146] Ибо Он явился вскоре после кончины оной больной, когда та в присутствии преподобной девы, которая усердно ободряла её, преставилась от сего света. По кончине [прокажённой], хотя тело её было ужасно на вид, Екатерина крайне тщательно омыла оное, облачила, благопристойно положила в гроб, а после панихиды собственноручно похоронила. По завершении же похорон струпья проказы тут же совсем исчезли с рук девы, как будто они никогда и не были поражены заразой; мало того, казалось, что руки её своей красотою превосходили все части тела её – как будто проказа придала им гладкости.
Заметил ли ты, читатель, что в одном этом поступке преподобной девы собрались все добродетели? Ибо ведь любовь, царица добродетелей и украшение их, подвигла её к тому, чтобы взяться за сие служение и завершить его; а любви сопутствовало смирение, заставившее её полностью покориться больной столь презренной; не отставала и добродетель терпения, с которой она всерадостно выдерживала все упрёки той [прокажённой], да и собственный телесный недуг, столь отвратительный, переносила с такой чрезвычайной терпеливостью. Присоединилась к сему, без сомнения, твёрдость чистой веры, благодаря коей она не прокаженную ту [видела], а постоянно очами веры созерцала Жениха своего, Коему старалась угодить; ну и не было у неё недостатка в мужественной надежде, что помогла её претерпеть до конца (ср. Мф. 10:22). За священным же собранием сих добродетелей последовало явное чудо, а именно то, что проказу, которою прокаженная при жизни своей заразила ей руки, после смерти оной и погребения Христос в единый миг очистил. Что из сих [событий] оставит равнодушными разумеющих истину? Велики дела сии, но дальнейшие – больше, как ты заметишь, добрый читатель, коли будешь внимателен.
[147] В то время, как дева Христова ради Бога предавалась услужению нищим и болящим, в том же городе – в Сиене, часто здесь упоминаемой, – была некая сестра Покаяния св. Доминика, которая по обычаю своей родины пожертвовала дому милосердия как имущество своё, так самоё себя, а звали её Пальмериной. Хотя она связала себя двойным иноческим обетом, её странным и страшным образом удерживали узы дьявольские. Ибо, уязвляемая молчаливой завистью и гордыней, она зачала в сердце своём такую ненависть к преподобной сей деве и невесте Христовой, что ей не только тяжело было видеть Екатерину, но даже имени её она слышать не могла без сердечного смятения. Хулила её тайно и прилюдно, сколько могла, и, не будучи в силах насытиться хулой своей и злословием, выказывала все признаки предельной ненависти. Дева же, заметив сие, старалась так и эдак умилостивить гнев её смирением и кротостью, но та всячески презирала смирение. Посему дева Господня была вынуждена уставом святого рвения [о спасении душ] прибегнуть к помощи Жениха своего и вознести к Богу особые молитвы за врага своего, что творя, она, несомненно, собирала, по апостольскому речение, горящие угли ей на голову (ср. Рим. 12:20), ведь молитвы оные, словно огонь взвихрённый, возносились ко Господу и требовали милости и суда. Ибо, хотя раба Христова просила только милости к своей хулительнице, без суда не должно было свершиться милосердию, поскольку Тому, кого она молила, воспевается милость и суд (ср. Пс. 100:1).
[148] Поэтому свершил Господь великий суд, но, судя, оказал по молитвам невесты Своей гораздо большую милость. Ибо сначала Он поразил тело вышеупомянутой Пальмерины, чтобы она могла исцелиться душой. Но посредством суда сего явил Он, насколько жёстко было упрямство [оной сестры] и насколько нежна любовь, каковою Он наделил невесту Свою; сверх того, Он умножил в деве ревность о душах, показав неоценимую красоту оной душе, уже было осужденной за прегрешения свои, но чудом спасенной по заступничеству и молитвам девы. Ибо же когда поразил Пальмерину телесный недуг, язва душевная от этого не излечилась; более того, в какой-то мере ещё углубилась, и ненависть, которую она беспричинно питала к преподобной деве, показывала, что [душою] она скорее больна, чем здорова. Обнаружив сие, Екатерина старалась смягчить её суровость проявлениями смирения и кротости. Ибо она часто и смиренно посещала её и изо всех сил старалась утешить свою преследовательницу словами и делами, исполненными любви. Но та, отвердев в душе хуже скалы и не поддаваясь ни словам, ни знакам заботливой милости, по испорченности ума своего гнушалась всеми попытками девы, а в приступе ярости даже велела выгнать её из дома своего. Видя сие, Судия справедливейший так отягчил руку Своей справедливости на противницу милости, что она вдруг почти совсем лишившись телесных сил и, не подкреплённая спасительными таинствами, оказалась на краю жалкой гибели как плоти, так и духа (utriusque hominis).
[149] Далее, когда все сие дошло до ведома преподобной девы, она тотчас заперлась в своей комнате и принялась усердно донимать слух Жениха своего пречастыми молитвами о том, чтобы не погибла из-за неё душа оная. Ибо вопрошала она в сердце, как сама втайне мне потом призналась, таковыми словами: «Неужто, Господи, на роду мне написано такое несчастье, чтобы из-за меня душа, по образу Твоему сотворённая, предана была нескончаемому огню? Или, быть может, Ты готов попустить, чтобы для сестры моей, для которой я должна была стать орудием вечного спасения, оказалась поводом для вечного проклятия? Да не отступит пред лицом множества милостей Твоих сей ужасный суд, да удалится в виду вечной благости Твоей столь горестное попущение. Лучше было бы мне было, пожалуй, не родиться, чем допустить, чтобы я послужила хоть в какой-то мере причиною осуждения души, искупленной Твоею кровью (ср. Мф. 26:24). О, несчастная я! Где те обещания, что Ты дал мне по щедроте Своей, когда предсказывал, что я, согласно устремлению моему, принесу обильный плод во спасение душ ближних? Неужто сие и есть плоды спасения, Тобою через меня, орудие Твоё, произведённые, что сестра моя погибнет из-за меня навеки? И хотя я не сомневаюсь, что сие всё происходит и творится не иначе как по грехам моим, и не достойна я обрести никакого иного плода от моих дел, всё равно не престану искать милостей Твоих вечных, не престану взывать к благости Твоей бесконечной, пока зло, которое я заслужила, не обратится в добро, а сестра моя не будет избавлена от вечной смерти». Когда дева святая сие и сему подобное в молитве своей скорее сердцем, чем устами, произнесла, ей, дабы сильнее воспламенить её состраданием к оной гибнущей душе, было свыше явлено несчастье и бедствие, постигшие душу ту бедненькую. И когда дан был ей ответ от вечного Жениха, что справедливость Его не может потерпеть, чтобы осталась без наказания столь ожесточенная и злонамеренная ненависть, тогда дева, душой и телом простершись в молитве, сказала: «Господи мой, я ни в жизнь не сойду с сего места, доколе Ты во исполнение просьбы моей не явишь мне милость к сестре моей. Накажи меня за грех её, каков бы он ни был, ибо я причина зла её, я должна быть наказана, а не она». И прибавила: «Всей благостью Твоею и милосердием заклинаю Тебя, всемилостивый Господи, не допусти, чтобы душа сестры моей оставила тело, пока не примет благодать Твою и не обретёт вместе с нею Твою милость».
[149] Короче говоря, столь действенна оказалась молитва сия, что душа оная не могла покинуть тела, три дня и столько же ночей пребывала в борении. Дивились и сострадали ей все, кто знал её, и с изумлением взирали на то, как долги её предсмертные муки; но преподобная дева всё это время продолжала молитву свою – и (так сказать) победила Непобедимого, и Всесильного связала смиренным плачем. Посему Господь, как бы не в силах более сопротивляться, свет Свой ниспослав свыше, милосердно просветил душу ту, в борении пребывавшую, побудил её к признанию вины и спасительному сокрушению обо оной. Поскольку же дева преподобная познала сие из откровения, то тотчас же пришла домой к сей [умирающей], которая, увидев её, знаками, как могла, выказал радость и почтение той, кого прежде страшилась, а свою вину звуками и мановениями осудила – и так, прияв таинства, преставилась от тела. После же отшествия её Господь явил Невесте своей душу ту спасённою и такою прекрасной, что, как Екатерина сама мне потом признавалась, красу сию не выразить никакими словами, хотя она ещё не была облечена славою блаженного видения; но явил Он только красу, каковой она была облечена от творения и по благодати крещения. И сказал Господь: «Вот, вселюбезная дщерь, благодаря тебе вновь обрёл Я эту потерянную было душу». И при этом добавил: «Разве она не кажется тебе прекрасной и великолепной? И кто бы пожалел сил, чтобы приобрести столь прекрасное творение? Если уж Я, высшая Красота, от которой всякая иная красота происходит, так был пленён любовью к красоте душ, что пожелал спуститься на землю и пролить собственную кровь, чтобы искупить их, то насколько больше вы должны трудиться друг для друга, чтобы столь прекрасное творение не погибло? Ради того Я и показал тебе душу сию, чтобы ты ещё сильнее воспылала желанием добиваться спасения для всех душ, да и других привести к тому же в меру данной тебе благодати».
[150] А она, возблагодарив Жениха пренебесного, от всего сердца смиренно попросила, дабы изволил Он даровать её такую благодать, чтобы в дальнейшем она всегда видела красоту всех тех душ, с коими имеет общение, и тех, кто приходит к ней, и благодаря сему сильнее пылала желанием помочь их спасению. На что изъявив согласие, Господь, молвил: «За то, что, презрев плоть, ты всецело прилепилась ко Мне, Кто есть вышний дух (ср. Кор. 3:17), да о спасении души оной так усердно и плодотворно молилась, вот, дарую душе твоей свет, коим ты сможешь взирать на красоту и безобразие душ, предстающих пред тобою, благодаря чему душевные чувства твои будут воспринимать состояния духа [человеческого] так же, как телесные чувства воспринимают состояния тел; причём не только тех, кто рядом с тобою, но также всех тех, о спасении кого ты будешь ревновать и за кого будешь горячо молиться – пускай даже они никогда не представали твоим телесным чувствам и не предстанут».
Благодать сего дара оказалась так действенна и постоянна, что с того часа, когда кто-нибудь приходил к Екатерине, она более ясно воспринимала действия и качества их душ, нежели тел.
[151] Поэтому, когда я однажды поведал ей втайне, что некоторые ропщут, видя, сколь многие обоего пола преклоняют колени перед нею, не встречая с её стороны запрета, она ответила: «Знает Господь, что телесные движения тех, кто меня окружает, я почти не воспринимаю, ибо так занята созерцанием самих душ, что тел совсем не замечаю». На что я ей: «Ты взираешь в их души?» А она: «Отче, под [условием тайны] исповеди открою вам, что после того, как Спаситель мой был так добр ко мне, что некую душу, уже обречённую своими прегрешениями на огонь вечный, по настойчивым молитвам моим исторг из бездны вечного осуждения, а затем показал мне её красоту, почти никогда не бывало такого, чтобы явился ко мне кто-нибудь, а я бы не увидела его душевного состояния». И прибавила: «Ох, Отче мой, если бы вы увидели красоту души разумной, то, не сомневаюсь, при малейшей возможности сто раз претерпели бы смерть телесную ради спасение единственной души; ибо нет ничего в этом чувственном мире, что можно сравнить с красотою её». Услыхав же сие, я попросил её рассказать мне историю по порядку – и тогда она последовательно изложила мне всё, что я написал выше, хотя грех, который совершила против неё сестра оная, Екатерина изложила вкратце и смягчённо. Однако я сам впоследствии выяснил, насколько тяжким было прегрешение её, от нескольких достойных веры сестёр, знавших ту и другую.
[152] Кроме того, для большего подтверждения сказанного, вспомнилось мне, что я несколько раз был переводчиком для блаженной памяти Владыки Григория XI, Верховного понтифика (в миру – Пьер Роже де Бофор, 1329 – 1378, последний папа периода Авиньонского пленения. – прим. пер.), и сей преподобной девы, о которой идёт речь, ибо она не понимала по-латыни, а Верховный понтифик не знал итальянского языка. Во время переводимого мною разговора с ним преподобная дева посетовала, что в Римской курии, где должен был явиться рай добродетелей небесных, она столкнулась со смрадом адских пороков. Услышав сие, Понтифик спросил меня, сколько времени прошло с тех пор, как она прибыла в Курию, и когда уразумел, что довольно мало, возразил: «Как же ты смогла ознакомиться с нравами Римской курии всего в несколько дней?» Тогда она, выпрямившись и отпрянув, отчего осанка её внезапно приобрела некую даже величественность, что было прямо воочию заметно, разразилась таковою речью: «К чести Всемогущего Бога осмелюсь сказать, что, находясь в моем родном городе, я острее чуяла зловоние грехов, совершаемых в Римской курии, нежели могли бы почуять сами те, кто их совершал и ежедневно совершает». На это Понтифик промолчал, ну а я, ошеломлённый, глубоко призадумался и чётко запомнил, с какой духовной силою были произнесены слова сии в присутствии столь великого Понтифика.
[153] Кроме того, часто случалось (как со мной, так и с другими, кто сопровождал её в путешествиях по разным краям света, где прежде никогда ни она не бывала, ни мы) так, что, когда приходили особы, совершенно незнакомые ни нам, ни ей, прилично одетые, по виду благонравные, а на самом деле упорно державшиеся греха, Екатерина, тут же почувствовав их порочность, не могла ни говорить с ними, ни даже лицом к ним повернуться, когда они с нею говорили. Если же они всячески настаивали, коротко выкрикивала: «Нам должно прежде исправить пороки наши и вырваться из сетей дьявольских, а уж потом о Боге беседовать». Сие или сему подобное молвив, она отделывалась от них как можно скорее, а мы впоследствии обнаруживали, что они увязли в сети гнусного порока, в коем упорствовали с нераскаянным сердцем.
Однажды мы встретили некую женщину, которая – увы! – была давней наложницей одного значительного церковного прелата. Когда же она, являя и в манерах, и в одеянии благопристойность, разговаривала при мне с Екатериной, всё никак не могла увидеть деву прямо в лицо, потому что та всё время всегда от неё отворачивалась. Удивившись сему, я усердно разузнал об образе жизни той женщины и выяснил, что было сказано выше. Когда я впоследствии сообщил об этом преподобной деве, она втайне ответила мне: «Если бы вы почуяли смрад, который чуяла я, когда она говорила со мною, вас бы стошнило».
Сие я представил твоему, читатель, вниманию, дабы ты узнал, как превосходны были священные дары, уделённые деве сей свыше, и не удивлялся, когда я делаю отступления, чтобы поведать о таковых, ведь, как видишь, тема требует того.
[154] Тогда враг рода человеческого, заметив, что благодаря служению больным заслуги святой девы достигли великих вершин, да и духовный плод своим ближним она приносит немалый, изобрёл новую хитрость с намерением отвлечь её от сего. Но «беззаконие само себя обмануло» (Вульг. Пс. 26:12): ибо от того средства, коим он замышлял засушить плоды дерева, посаженного при потоках вод небесных (ср. Пс. 1:3), их по Господней милости ещё паче прибавилось.
Ибо случилось в то время так, что другая сестра Покаяния Бл. Доминика, которую по местному обычаю звали Андреа – мужским именем, переиначенным на женский лад, – была поражена неким недугом: ибо на груди у неё была язва («раковая» по врачебному именословию), которая разъедала плоть вокруг себя и, ползя подобно раку, почти целиком сгноила грудь её. И от сего гниения она источала такой смрад, что никому из окружающих невозможно было приблизиться к ней иначе, кроме как зажав нос: по этой причине ей не удавалось найти почти никого, кто готов был бы поухаживать за ней или хотя бы навестить её. Едва дева Господня о том проведала, уразумела, что та больная, почти всеми покинутая, предназначена свыше для неё, после чего тотчас же пришла к ней и, с ласковым ликом утешив её, весело предложила ухаживать за нею до исхода болезни, на что та согласилась тем охотнее, что заметила, как остальные всё чаще оставляют её без ухода.
[155] Итак, служила дева вдове, старой – юная, томимая любовью к Спасителю – томящейся недугом женщине. И ничего не упускала она при уходе за нею, как бы ни усиливался отвратительный смрад. Он постоянно при ней с открытыми ноздрями, обнажает язвы, вытирает их, промывает и перевязывает бинтами; не выказывает ни малейшего признака, ни намёка на омерзение, не тяготится ни долготой, ни трудностью работы, но всё делает с радостным сердцем и весёлым лицом, так что и сама страдалица, весьма изумлённая, надивиться не может такой твёрдости духа у молоденькой девушки да такой полноте любви и милосердия.
Когда же враг всех добродетелей и рода человеческого узрел сие, обратился он к своим обычным злоухищрениям, силясь свести на нет ненавистные ему деяния любви. И для начала он взялся за саму преподобную деву, ибо однажды, когда Екатерина обнажила язву болящей женщины, от неё пахнуло чрезмерным смрадом, и диавол, не в силах поколебать волю девы, основанную на камне Христовом, поколебал плоть: чрезвычайно сильно возмутил желудок её смрадом тем и чуть ли не довёл до рвоты. Сие почувствовав, раба Христова тут же воспылала на самоё себя святым гневом и, обращаясь к плоти своей, молвила: «Ты что, гнушаешься сестры твоей, искупленной кровью Спасителя, хотя можешь впасть в такую ??же, а то и худшую болезнь? Жив Господь: это тебе не пройдёт без наказания!» И тотчас, склонившись лицом к груди больной, она приложила уста и ноздри к язве той омерзительной и оставалась в таком положении довольно долго, пока не убедилась, что дух её подавил приступы тошноты и сокрушил сопротивление плоти. Заметив же сие, больная оная воскликнула: «Перестань, доченька; перестань, доченька милая; не навреди себе зловонием этой мерзкой гнили!» Но дева Господня поднялась не раньше, чем одолела неприятеля, который после сего поражения отдалился от неё на время (ср. Лк. 4:13).
[156] Но увидев, что взять верх над ней не удаётся, он тем больше злокозненных своих ухищрений обратил на болящую, поскольку заметил, что ум её куда беспечнее и беззащитнее. И вот, оный сеятель плевелов принялся насевать в душе неоднократно упомянутой больной некую досаду в отношении того, как преподобная дева ухаживала за нею, и по мере того как росла злоба в сердце её, превращать досаду в ненависть. Однако, поскольку больная совершенно ясно осознавала, что ей не найти никого, помимо Екатерины, кто стал бы ухаживать за нею и находиться при ней, ненависть, таившуюся в душе, внешне выражала в виде какой-то неумеренной ревности. А поскольку ненавистникам свойственно с лёгкостью верить во всё плохое, что говорят о ненавидимых ими, древний змий довёл болящую и немудрящую старицу до того, что она стала подозревать незапятнанную деву в срамных делах и всякий раз, как её не было рядом, воображала, что она отправилась творить какое-то непотребство. Ибо так случается с беспечными умами, что они сперва испытывают досаду от прежде их радовавших добродеяний ближнего; затем ненавидят его, после чего уж начинают считать дурными и дела его, и свершителя оных; и, по пророчеству Исаии, в ослеплении ума своего «зло называют добром и добро – злом» (Ис. 5:20). Но при всём этом дева святая была упорна, как непоколебимый столп; и, имея перед очами только Жениха своего, с присущей ей радостью неизменно продолжала ухаживать за больной и, вооружённая крепким терпением, смеялась над древним змеем, видя, что от него исходит сие. Посему он, ослепив подчинённый ему разум старицы, возбудил гнев её до такой степени, что она в открытую обвинила чистейшую в срамных делах.
[157] Молва ж сия так прогремела среди сестёр, что некоторые из старших, начальствовавшие над другими, пришли к неоднократно упомянутой больной, чтобы удостовериться в истинности слухов, которые дошли до них. Но когда та по наущению древнего врага постыдно и лживо обвинила преподобную деву, они в чрезвычайном раздражении призвали к себе и саму деву, каковую принялись многословно хулить и винить в высокопарных и оскорбительных выражениях, допрашивая, как же она позволила себя так обмануть, что утратила девичество. На что она терпеливо и скромно ответила: «Истинно, сударыни мои и сёстры, по милости Иисуса Христа я девица». И ничего не возражая на все ложные обвинения, она в оправдание лишь повторяла одно и то же: «Истинно я девица, истинно я девица...»
[158] Несмотря на таковое происшествие, Екатерина отнюдь не оставила обычной своей заботы [о болящей] и, хотя не могла без великой сердечной скорби выслушивать столь безобразные обвинения, за обвинительницей своей, однако, ухаживала, как и прежде, с величайшим усердием. А после того, возвратившись в свою комнату, без промедления обратилась к обычному своему прибежищу, молитве, и произнесла сии или сим подобные слова скорее мысленно, нежели вслух: «Всемогущий Господи и прелюбезный Жених мой, ведомо Тебе, что достоинство любой девицы хрупко, и крайне опасно хоть сколько-нибудь пятнать честь невест Твоих; сего ради Ты и пожелал для виду просватать преславную Свою Родительницу. Ведомо также Тебе, что всё сие затеял отец лжи, чтобы отвратить меня от служения, за которое я взялась из любви к Тебе. Так помоги же мне, Господи Боже мой, знающий невиновность мою (ср. Вульг. Пс. 7:9), и не позволь змею древнему, поверженному Страстями Твоими, одолеть меня!» Когда сие и сему подобное говорила она, преобильно плача, в молитве ко Господу (как тайно потом признавалась мне), явился ей Спаситель мира сего, держащий в деснице Своей золотой венец, жемчугами и каменьями драгоценными украшенный, а в шуйце – терновую диадему, да молвил ей так: «Необходимо знать тебе, вседражайшая дщерь, что в ту иль иную пору ты можешь быть увенчана одним из них. Выбери же, чего желаешь больше: быть ли увенчанной терновым венком при жизни твоей, а другой, прекрасный венец Я сохраню для тебя в жизни нескончаемой; либо ныне взять сей драгоценный, а по кончине получить сохранённый для тебя терновый?» Тогда она ответила: «Что до меня, Господи, то я уже с давних пор отреклась от своей воли и выбрала следовать только Твоей воле, поэтому не мне выбирать что-либо. Однако же, коль угодно Тебе, чтобы я ответила, скажу, что в жизни сей я выбираю всегда сообразоваться с Твоими всесвятыми Страстями и всегда вкушать муки ради Тебя». И сказав сие, тотчас же обеими руками ревностно выхватила терновый венец из рук Спасителя и возложила его на голову себе с такой силой, что шипы яростно пронзили голову её со всех сторон (отчего после видения сего она почувствовала боль в голове от уколов тех шипов, как сама потом вживую устно засвидетельствовала). Тогда молвил Господь: «Всё во власти Моей, и как попустил Я соблазн сей, так и с лёгкостью могу его угасить. Ты же упорствуй в начатом служении и не уступай диаволу, который хочет помешать тебе; ну а Я дам тебе полную победу над лукавым, так что всё, что замышляется против тебя, целиком на голову его обратится, да и к вящей славе твоей». Так раба Христова осталась утешена и укреплена.
[159] А между тем Лапа, мать Екатерины, прослышала о молве, которую распространяла среди сестёр болящая Андреа. Посему, хотя и была совершенно уверена в чистоте своей дочери, всё же крайне рассердилась на названную Андрею, пришла к деве и в чрезвычайном душевном волнении раскричалась: «Разве я не говорила тебе много раз не ухаживать больше за этой вонючей старухой? Вот, смотри, какую награду она воздала тебе за уход! Ведь она безобразно обесславила тебя перед всеми сёстрами твоими. Если ты и дальше будешь ухаживать за ней или даже приблизишься к ней, никогда больше не назову тебя своей дочерью!» А всё сие было устроено по вражию наущению, дабы воспрепятствовать оному святому служению.
А Екатерина, выслушав свою мать, помолчала немного и, наконец, подойдя к ней и преклонив перед ней колени, смиренно молвила: «О милейшая матушка, разве из-за неблагодарности людской Бог прекращает оказывать грешникам милость Свою день ото дня? А разве Спаситель, распятый на кресте, из-за высказанных Ему оскорблений прекратил действовать во спасение мира? Дорогая моя, вы же знаете, что если я оставлю болящую оную, некому будет её поддержать, и она умрёт от нужды. Должны ли мы стать причиною её смерти? Её прельстил диавол, но вдруг теперь её просветит Господь, и она признает свою ошибку?» Сими и другими словами добившись материнского благословения, Екатерина пошла к больной да так радостно ухаживала за нею, будто бы та никогда не говорил о ней ничего дурного. Андреа изумилась, не заметив в ней и следа беспокойства, и не могла не признать, что кругом неправа. С той поры зародилось в ней внутреннее сокрушение, тем более глубокое, чем дольше она наблюдала её каждодневное долготерпение.
[160] Затем с ходом времени Господь, сжалившись над старицей оной и желая прославить невесту Свою, явил ей такое видение. Ибо же однажды, когда раба Христова вошла в комнату к болящей и приблизилась к постели её, та увидела, что вокруг постели её разливается некий сходящий свыше свет, и так прекрасен был он да нежен, что напрочь вытеснил из памяти её все страдания. Когда же, совершенно не понимая причины столь необычного явления, она осмотрелась по сторонам, то увидела, что лицо девы, ухаживавшей за нею, преобразилось и изменилось настолько, что показалась она не Екатериной, дочерью Лапы, а неким ангелом величественным, а свет оный покрывал её целиком, словно одеяние (ср. Пс. 103:2). На сие взирая, Андреа всё более и более сокрушалась в сердце своём, мысленно называя себя преступницей за то, что против столь изумительной девы распускал язык свой злоречивый. Сие видение, которое наяву предстало очам той болящей, продлившись немножко, исчезло, как и явилось. Старуха же оная после исчезновения света, осталась утешена и опечалена (однако же той печалью, которая, согласно Апостолу, творит справедливость (ср. 2 Кор. 7:10)), и тут же со слёзными воплями стала просить прощения у девы, признавшись, что согрешил весьма тяжко и что обвинила её совершенно ложно. Ведь оный видимый внешний свет принёс с собою свет невидимый, благодаря которому больная старица осознала весь обман сатанинский, учинённый ей. Тогда дева Господня, услышав сие, бросилась в объятия обвинительницы своей и стала всячески утешать её, заверяя, что ничуть не отступила от начального своего намерения и что ничуть и даже самую малость не обиделась, говоря: «Знаю я, сладчайшая матушка, что враг рода человеческого учинил весь соблазн сей и ум ваш странной прелестью обманул, а посему не вам, а ему я могу вменить что-нибудь. Однако же должна поблагодарить вас за то, что вы, как лучшая подруга, усердствовали о хранении мною приличий». Сими и подобными словами утешая обвинительницу свою, Екатерина, дабы не тратить напрасно время, довершила, что обычно требовалось по уходу, и тут же возвратилась в свою келью.
[161] Но Андреа, искренне сознавая свою вину за сие, пред всеми приходившими к ней со слезами и рыданиями объясняла, как много она заблуждалась, будучи диаволом обманута и обольщена, и себя называла преступницей, а деву, которую прежде оговаривала, громогласно объявляла не просто только чистою, а и святою да Святого Духа исполненною – сие, как утверждала она, для неё совершенно очевидно. Когда же они втайне её основательно расспросили, что с такой очевидностью засвидетельствовало ей о святости девы, Андреа отвечала горячо и твёрдо, что никогда не чувствовала и не знала, что такое умиление сердечное или духовное утешение, прежде чем узрела, как дева оная преобразилась перед нею и свет неописуемый осиял её. Затем, в ответ на вопрос, видела ли она сие своими телесными очами, она сказала, что да, но никакими словами не может выразить красоту этого света и ту сладость, которую тогда почувствовал в душе своей.
С той поры стала распространяться и возрастать среди людей слава о преподобной деве, и то, чем древний враг надеялся и старался очернить её, тем по содействию Святого Духа невольно её как бы возвысил. В итоге же сих событий святую деву ни невзгоды не могли сломить, ни успехи – надмить; она неустанно продолжала служение любви и совершенно искренно сознавала себя ничем; славою же её был Тот единственный, кто «есть».
Однако же ненасытный враг, который может быть побежден, но не убит, снова возвращается к своим прежним попыткам одолеть торжествующую воительницу возмущением желудка.
[162] Итак, однажды, когда раба Христова открыла оную жуткую язву, чтобы очистить её омовением, тут же от неё изошёл стол сильный и такой жуткий смрад (не только из-за естественного гниения, но и также из-за вражия поползновения), что все внутренности девы естественным образом содрогнулись, а из желудка поднялась неодолимая рвота. К сему дева Господня отнеслась с тем большим вниманием, что в те дни благодаря новым победам благодати Святого Духа достигла новых высот добродетели. И потому, обрушив на собственное тело святой гнев, она воскликнула: «Жив Всевышний, милейший Жених души моей, ибо то, что тебе так отвратно, поглотишь внутрь утробы своей!» И тут же, набрав в чашку гнойной воды от мытья той мерзкой раны, отошла в сторону и выпила целиком. Когда она проделала это, искушения отвращением полностью прекратились. Помню, когда мне в её присутствии в общих чертах рассказывали эту историю, она приглушённым голосом тайком добавила мне: «Отродясь не вкушала я и не пила ничего слаще и вкуснее!»
Нечто похожее можно найти и в записях брата Фомы, первого её духовника, а именно то, что, когда она приложила рот к той самой язве, описанной выше, то почуяла от неё аромат пресладостный и весьма приятный, как она потом тайно призналась ему.
Не знаю, читатель, как расценишь ты всё сказанное, но, тем не менее, завершая сей рассказ, я в дополнение как можно короче опишу, чему [Екатерину после этого] научил Господь.
[163] И вот, на следующую ночь после последней из тех побед, каковые невесте Христовой столь милостиво даровал Жених её, явился святой деве во время молитвы Спаситель всех Господь Иисус Христос и, показав на теле Своём оные пять священнейших ран, кои некогда получил, будучи распят ради нашего спасения, молвил: «Многими, любезнейшая моя, подвигами ты ради Меня подвизалась, и во всех с Моей помощью доселе побеждала, отчего сделалась весьма Мне мила и угодна, однако особенно ты Меня порадовала вчера, когда, не только отвергнув утехи телесные, не только презрев людские суждения и одолев искушения вражии, но и собственное естество телесное потеснив, ты по пылкой любви ко Мне так радостно приняла отвратительное питие. Сего ради говорю тебе, что, как ты в сем деянии превзошла естество своё, так и Я дам тебе питие, что превыше всякого человеческого естества и обыкновения. И положив десницу деве на шею и к ране на боку Своем приблизив её, молвил: «Пей, дщерь, из бока Моего питие, коим душа твоя так сладостно исполнится, что чудесным образом изольётся и в тело, которое ты презрела ради Меня». А она, видя, что оказалась у устья источника жизни, приложив к священнейшей ране уста тела, но куда паче – уста души, пила неизреченное и неизъяснимое питие в течение немалого времени столь же жадно, сколь и обильно. Наконец по мановению Господа она оторвалась от сего источника, упоённая и жаждущая одновременно; и ни упоение не порождало в душе тягости, ни жажда – муки.
О Господь неизреченной милости, как нежен Ты с любящими Тебя и как сладок вкушающим; что уж говорить о тех, кто пьёт полными устами? Ибо питие и проглатывается быстрее и легче, и проще усваивается в телесном составе принимающего его. Думаю, Господи, что ни я, ни другие несведущие не могут в полной мере судить о таковых предметах; они так же неведомы нам, как цвета слепому или глухому – звуки музыки. Однако же, дабы не оказаться совсем неблагодарными, мы по мере скромных возможностей наших и понять пытаемся безмерные милости (gratias), кои Ты щедро даруешь святым Своим, да недостойное величия Твоего благодарение (gratias) по мере сил Тебе воздаём.
[164] Ну а ты, читатель, ради всего святого, не пройди мимо деяния столь великой и такой исключительной добродетели, свершённого сей благой девою. Воззри, заклинаю тебя, на корень любви, которая побудила её взяться за столь противное телесным чувствам служение. Присмотрись, прошу, к пылу любви её, благодаря коему она так долго упорствовала в своём служении, несмотря даже на приступы естественного отвращения. Заметь, умоляю, твердость её несравненного постоянства, которое не удалось ни обвинением столь постыдным сломить, ни сколь угодно несносным поведением обвинительницы оной ослабить. Увидь, наконец, как дух, утвердившийся во Христе, не вознёсся от похвал, а сверх того не просто помимо [желания] плоти, но вопреки естеству всякой плоти, понудил нутро принять нечто на вид ужасное. Столь величественные поступки, я думаю, бывают реже редкого – особенно в наше время, когда свершители подобного встречаются, пожалуй, реже фениксов. Заметь, однако, что итог того был совершенно замечателен, ибо после вкушения того пития из бока Спасителя душа преподобной девы сей так исполнилась благодати обильной, что даже тело, восприяв от преизбытка её, никогда с того часа ни пищи прежним образом не принимало, ни пития не вкушало – как ниже будет пространнее и подробнее изложено. А сей довольно длинной, но от того не менее стоящей внимания главе я полагаю конец, принуждённый [к тому её чрезмерной] длиною. Свидетелей сего, поскольку я уже привёл их выше, заново перечислять не стоит. Тем не менее, я как в настоящем, так и на будущее заявляю, что всё написанное мною было либо сказано мне на исповеди, либо найдено в трудах брата Фомы, первого духовника Екатерины, либо услышано и записано со слов братьев моего Ордена и сподвижниц девы – заслуживающих доверия дам, имена коих я назвал выше, а также, при необходимости, ещё и ниже назову.
[ГЛ. V.]
[165] После того, как несравненный и вечный Жених испытал возлюбленную Свою невесту в горниле многочисленных мучений и в бранях различных научил её побеждать своего древнего врага, оставалось Ему лишь одарить её триумфальной наградою сообразно Своей щедрости. Но поскольку души смертных, которым она помогала, ещё не вполне распознали плодов её, каковые были от вечности Женихом сим предуказаны и обещаны, для свершения Божественного промысла нужно было, чтобы невеста осталась для сего на земле для этой цели, получив, тем не менее, залог вечной награды. Сего ради оный Жених и Господь, желая ещё в сей юдоли плача положить в невесте Своей и рабе начала небесной жизни и вместе с тем приобщить её земным обитателям, уделил её следующее откровение.
Ибо, когда она однажды молилась в своей комнатке, явился ей Спаситель и Господь рода человеческого, Который предсказал нечто невиданное, что собирался совершить с нею, таковыми словами: «Знай наперёд, вселюбезная дщерь, – молвил Он, – что предстоящая тебе земная жизнь будет исполнена столь невиданных даров Моих чудных, что сие породит изумление и недоверие в сердцах невежественных и плотских людей, даже множество тех, кто любит тебя, усомнятся и сочтут обманом то, что свершится по Моей чрезмерной любви. Ну а Я изолью в душу твою такое обилие благодати, что она чудесным образом перельётся и в тело твоё, от чего само тело твоё воспримет и обретёт необыкновенный образ жизнедеятельности. Сверх того, ради спасения ближних твоих сердце твоё воспылает так горячо, что, позабыв собственный пол, ты совершенно переменишь прежнее житие и не будешь, как присуще тебе, гнушаться общества мужчин и женщин; мало того, ради спасения их душ ты будешь по мере сил предпринимать всевозможные труды. От сего многие соблазнятся и будут противиться – да откроются помышления многих сердец (Лк. 2:35). Ты же ни от чего не смущайся и ничего не бойся, ибо Я всегда буду с тобою (ср. Исх. 3:12) и всегда избавлю душу твою от языка лукавого (ср. Пс. 119:2). Итак, мужественно верши то, чему научит тебя помазание, ибо чрез тебя Я исторгну многие души из пасти преисподней и посредством благодати Моей приведу их в царства небесные».
После того, как Господь сказал, и, как она признавалась мне втайне, не раз повторил сие (особенно же до слов «Не бойся и не смущайся»), преподобная дева ответила: «Ты Господь мой, я же ничтожная раба Твоя; да будет воля Твоя вовек; однако памятуй обо мне по великой милости Твоей и помогай мне!» И на том видение исчезло. Раба же Христова собирала слова сии в сердце своём (ср. Лк. 2:19) и размышляла, что за перемены ей предстоят (ср. Лк. 1:29).
[166] И стала тогда со дня на день благодать Иисуса Христа возрастать в сердце её, и дух Господень умножаться в ней, так что она сама изумлялась и от изумления как бы изнемогала, воспевая с Пророком: «Изнемогло сердце моё и плоть моя. Боже сердца моего и часть моя, Боже, во век!» (Пс. 72:26 – пер. П. Юнгерова), и ещё: «Вспоминаю о Боге и трепещу; помышляю, и изнемогает дух мой» (Пс. 76:4). Ибо недужила дева Христова любовью к Нему (ср. Вульг. Песн. 2:5), и от недуга сего не имелось лекарства, кроме плача духовного и телесного – отсюда ежедневные стенания, ежедневные слезы, но и они не вполне помогали от недуга. Тогда Господь внушил сердцу её и соделал очевидным, что угодно в очах Его (ср. 2 Пар. 25: 2) часто приходить к алтарю Божию и как можно чаще принимать из рук священника таинство Христа Господа, к Коему сердце её и плоть восторгались (ср. Пс. 83:2), дабы хотя бы в таинстве вкусить на [земном] пути Того, Кем пока ещё не дано было ей вдоволь насытиться в [небесном] отечестве. Однако стало сие источником не только большей любви, но и, как следствие, сильнейшего томления; но тем не менее благодаря силе веры оно лучше питало горнило любви, которое ежедневно и непрестанно разжигалось дуновением Святого Духа в сердце её. Отсюда пошёл и закрепился её обычай причащаться почти каждый день, хотя часто ей в этом препятствовали телесные немощи и забота о спасении душ. Так сильно было у неё желание более частого Святого Причастия, что если оно не исполнялось, тело её тяжко страдало и едва не умирало. Ибо как тело её приобщалось избытка духа, так не могло оно некоторым образом не испытывать и мук его. Но об этом мы пространнее, даст Господь, поговорим в другом месте; ныне же вернёмся к чудесной её телесной жизнедеятельности.
[167] Итак, как она сама призналась мне втайне и согласно тому, что я обнаружил в записях предшествовавшего мне духовника, после вышеописанного видения дары благодати и утешения небесные нисходили в душу её – особенно при вкушении причастия – в таком множестве, что по причине некоего преизбытка они изливались в тело, настолько умеряя потребление корневой влаги, что и пищеварение у неё изменилось, отчего ей не просто перестала быть нужна вещественная еда, но она и потреблять её теперь не могла без телесных терзаний. А если она ела насилу, то тело страдало чрезвычайно тяжко; при этом ничего не переваривалось, но приходилось всё вошедшее выпроваживать – тоже насилу – тем же путём. Не пристало бы письменно излагать то, сколь великие и какие частые муки претерпевала сия преподобная дева из-за принятия пищи. Ибо же когда она только пришла в таковое состояние, такой образ существования казался невероятным для всех, даже для её домашних, отчего то, что было совершенно исключительным даром Божьим, они называли вражьим искушением или прелестью, вызванной [чрезмерной] суровостью подвижнического жития. В сие заблуждение впал вместе с прочими и её многократно упомянутый выше духовник, который хоть и благого рвения, но не по рассуждению (ср. Рим. 10:2), засомневался, не соблазнил ли её враг, принявший вид Ангела света (ср. 2 Кор. 11:14), и предписал ей каждый день принимать пищу и не верить видениям, которые внушали ей обратное. Когда ж он сказал ей сие, то на опыте убедился, что не потребляя пищи Екатерина становилась здоровее и сильнее, а когда принимала пищу, делалась слабой и вялой; однако и это его это не переубедило, и он постоянно повторял своё повеление – чтобы ела. В то время как дочь истинного послушания изо всех сил старалась повиноваться ему, ее телесная немочь достигла такой степени, что едва ли не смерть уже грозила ей. Тогда, придя к упомянутому духовнику, молвила она: «Отче, если бы мне от чрезмерного поста грозила смерть телесная, разве не воспретили бы вы мне поститься, чтобы я избежала смерти, чтобы не стала человекоубийцей?» Он ответил: «Конечно, без всяких сомнений». Тогда она ему: «Не страшнее ли смерть от еды, чем от поста?» А когда он ответил положительно, добавила: «Ну а коль вы видите, что я изнемогаю от еды, в чём вы многократно убедились на опыте, то почему не воспретите мне есть, как воспретили бы в подобном случае поститься?» Не в силах ответить на этот вопрос и ясно видя признаки приближения смерти, он молвил: «Поступай так, как научит тебя Дух Святой, ибо вижу я, как величественны дела, кои Бог творит в тебе».
[168] Ныне же заметь, пожалуйста, читатель, по какому поводу её собственные домашние и родные, не понимая, что свыше ей были уделены необычайные дары, стали так мучить её, что ни словом сказать, ни пером описать (о чём она поначалу тайно поведала мне, когда я только удостоился знакомства с нею, а потом часто повторяла, когда того требовала тема). Ибо меряли они деяния и речи её не мерою того, что Господь изливал в душу невесты Своей, но мерою или общей для всех, или даже своею собственной; и, находясь в низине, примерялись к вершинам горным, сиречь не зная основ счёта, спешили дать конечный ответ; и словно бы ослеплённые от чрезмерного блистания света, дерзали судить о цветах. Из-за чего, безрассудно возмущаясь, они роптали на лучи звезды сей; поучали ту, чьего учения были не в силах понять; и, находясь во тьме, попрекали ясный свет (ср. Мф. 4:16 и Ин. 3:19). Они жалили её украдкой, тайно очерняя при этом ближнюю свою под видом благой ревности, да побуждали к тому же духовника и, несмотря на его нежелание, подстрекали его к порицанию девы.
[169] Сколько досталось ей из-за этого душевных мук и каких, нелегко даже в длинной речи поведать. Ведь, будучи во всём послушна и твёрдо укоренившись в презрении к себе, она не знала, как оправдаться, и не дерзала ни в чем противиться воле и слову духовника. Поэтому, когда Екатерине стало совершенно ясно, что воля Всевышнего противоположна суждению вышеназванных людей, но из того же страха Господня она отнюдь не намеревалась отказываться от послушания или вводить ближнего в соблазн, то стало непонятно, что же выбрать. Тесно было ей отовсюду (ср. Дан. 13:22); только прибегая к молитве, находила она облегчение – и проливала она пред Господом слёзы скорби и надежды, прося Господа смиренно и настойчиво, дабы Он сам изволил открыть волю Свою её противникам, а наипаче – духовнику её, которого она больше всего боялась оскорбить. Не получалось ей привести слова апостолов, сказавших первосвященникам: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29), потому что тут же ей возражали, что диавол часто преображается в Ангела света, а посему не должно ей верить всякому духу (ср. 1 Ин. 4:1), а также полагаться на собственное благоразумие, но следовать данному ей совету.
Однако слышал её Господь, как и не раз ранее, и часто разум духовника её просвещал, и совет изменял. Но, несмотря на это, ни он, ни другие [противники] обоего пола, роптавшие на оную деву, отнюдь не облеклись духом рассуждения, ибо если бы они внимательно рассмотрели, сколь многие и совершенные наставления обо всех обманах супостата дева сия святая получала от Господа, как часто она обычно боролась с оным противником, какие полные победы она неисчислимое число раз одерживала над врагом рода человеческого, а кроме того, обратили внимание на дар разумения, данный ей свыше от Господа, позволявший ей вместе с Апостолом воскликнуть: «Нам не безызвестны его козни» (ср. 2 Кор. 2:11), они непременно положили бы перст на уста свои (ср. Иов. 21:5), и не дерзнули бы, несовершенные ученики, возноситься над совершенной наставницей, и не посмели бы, убогие омуты, пытаться от скудости своей наполнить столь огромный поток. Сие и сему подобное я часто с упрёком высказывал вышеупомянутым ропотникам в то время, а здесь, ради тех, кто посвящён в суть дела, записал в несколько туманных выражениях.
[170] Возвратимся, впрочем, тому месту рассказа, от которого отвлеклись. Да будет тебе ведомо, добрый читатель, что в пору тех происшествий сия дева, исполненная Духа Божия, впервые оставалась от времени Четыредесятницы (когда как раз и случилось то, что мы сказали) до праздника Вознесения Господня без всякой телесной пищи и питья, но неизменно была притом бодра и радостна. Ничего удивительного, ведь, согласно словам бл. Апостола, «плод духа: любовь, радость, мир» (ср. Гал. 5:22), а по речению Первоистины, «не хлебом единым живет разумный человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (ср. Мф. 4:4), и ещё написано: «Праведный верою живёт» (Евр. 10: 38). Ну а в день Вознесения, как ей предсказал Господь, и как она сообщила своему духовнику, она смогла есть, а на самом деле ела обычный хлеб и овощное блюдо, а точнее сырые травы – великопостную пищу, ибо кушаньям лакомым не подобало проникать в сие тело ни чудесным, ни естественным образом. После ж сего она перешла сначала к простому посту, а затем постепенно, с некоторыми перерывами – к непрерывному, в наши времена неслыханному. Правда, когда тело постилось, дух питался чаще и обильнее, поскольку во время описываемых событий святая дева имела возможность с благоговением многократно принимать Святое Причастие, и такое обилие благодати обретала при каждом причащении, что при почти полном умерщвлении телесных чувств, а до определённой степени – и жизнедеятельности, плоть и душа её жили исключительно сверхъестественной силой Святого Духа, из чего духовный человек может заключить, что вся жизнь ей была сверх естества, вся – чудо.
[171] Я сам не раз, но многократно раз видел, как сие тельце, которое подкреплялось не телесной пищей и не питьем, а только холодной водой, доходило до крайнего измождения, так что я вместе с прочими с трепетом ожидал, что она вот-вот испустит дух. И тем не менее, едва ей удавалось хоть немного прославить имя Божие или представлялась возможность в чём-нибудь посодействовать спасению душ, она в кратчайший срок и без какого-либо телесного лекарства не только возвращалась к жизни, но и вновь обретала здоровье – причём не просто здоровье вообще, но и сообразную своему телосложению крепость и силу: вставала, ходила, без затруднений работала – даже больше здоровых своих сподвижников, – прочь отогнав всякое утомление. И откуда сие, скажите на милость, как не от того Духа, который благоволит деяниям таковым; и который чудесным образом пополнял то, чего не могла обеспечить природа; и который не только душу живил, но и тело?
К тому же в то время, когда она стала так жить без телесной пищи, её духовник, о котором часто упоминалось выше, спросил её, не возникает ли у неё порой охоты к еде. На что она ответила: «Такова сытость, которую дарует мне Господь при вкушении Его достопоклоняемых Таин, что я никоим образом не могу хотеть никакой телесной пищи». А когда он вновь спросил, не чувствует ли она в те дни, когда не причащается Таин, некоторого голода, отвечала: «Когда я не могу причаститься Таин, насыщает меня только присутствие и видение Его». «Мало того, – добавила она, – меня так утешает присутствие не только Таин, но и священника, который, как я знаю, прикасался к Тайнам, что всякое воспоминание о еде покидает меня». Итак, дева Господня насыщалась и постилась одновременно; была извне пуста, внутри полна; снаружи томима жаждою, изнутри увлажняема реками воды живой (ср. Ин. 7:38) и, наконец, во всех обстоятельствах бодра и радостна.
[172] Но змей древний и изгибающийся (ср. Ис. 27:1), не в силах снести столь великого дара Божия без исполненной яда бешеной зависти, почти всех – как духовных, так и плотских, как иноков, так и мирян – возмущал против неё из-за сего пощения. И не удивляйся, читатель, что [так повели себя] люди духовные и иноки; поверь мне, если только самолюбие в таковых не угашено окончательно, в них часто царит ещё более пагубная зависть, чем в остальных, и паче всего когда они видят, что кто-нибудь творит нечто для них невозможное, как они знают. Перелистайте жития и деяния отцов славной Фиваиды! Не было разве такого, что один из Макариев (св. Макарий Александрийский. – пам. 19 янв.) отправился туда в мирском платье к многочисленной толпе монахов, которых возглавлял Пахомий, и самим Пахомием после долгих настояний был принят в сие иноческое собрание, но, когда монахи увидели дивную и неподражаемую суровость подвига его, однажды все чуть ли не взбунтовались против Пахомия и, собравшись вместе, сказали: «Либо забери его от нас, либо знай, что все мы нынче же покинем монастырь сей!» Так говорили тогда те, кого считали людьми совершенными; что же думать о наших нынешних «духовных»? И если бы я не боялся многословия, то порассказал бы ещё немало такого, что изведал исключительно на опыте. Говорю это, впрочем, потому, что все роптали на сию преподобную деву из-за вышеописанного пощения; и некоторые говорили, что никто не больше господина своего (ср. Ин. 13:16), и если Христос – господин и Господь – ел и пил (ср. Мф. 11:19), и то же самое творила Его Родительница Преславная, да сами святые апостолы, которым Господом было сказано: «Ешьте и пейте, что у них есть» (Лк. 10:7), точно так же вкушали пищу, то кто же может превзойти их, да нет, хотя бы сравняться с ними? Другие говорили, что, согласно наставлениям и примерам всех святых, никому не должно выделяться своим образом жизни, но во всём подобает следовать обычному правилу. Третьи шептали (ср. Пс. 40:8), что всегда были и есть предосудительные крайности, и богобоязненные потому должны их сторониться. Четвёртые, как было упомянуто выше, желая защитить её благое намерение, говорили, что сие было обольщением древнего врага. Иные же, люди плотские и отъявленные недоброжелатели, говорили, что это выдумка с целью добиться славы, и что она не постится, но отлично питается украдкой.
[173] Если – в меру полученного от Господа вразумления и скромных своих возможностей – не возражу против сих ложных и неразумных суждений, которые, к тому же, никак между собой не сходятся, то сочту себя провинившимся перед Первоистиной. Посему заклинаю тебя, добрый читатель, заметить, что если бы первые, что привели в пример Спасителя и Преславную Его Родительницу вместе со святыми апостолами, сказали истину, то из этого прямо следует, что Иоанн Креститель был больше, чем Сам Господь Христос. Ибо же Сам Господь собственными устами сказал, что пришёл Иоанн – ни ест и не пьёт, а пришел Сын Человеческий, девственно рождённый – ест и пьёт (ср. Мф. 11:18-19). Из этого следовало бы также, что Антоний, два Макария, Иларион, Серапион и почти бесчисленное множество других, державших долгий, почти непрестанный пост сверх обычного правила самих апостолов, были выше тех самых святых апостолов. Если же вышеупомянутые ропотники пожелают возразить, что и Иоанн в пустыне, и означенные отцы в Египте не просто постились, но кое-что иногда ели, то что они скажут о Марии Магдалине, которая тридцать три года жила на скале без всякой телесной пищи, как недвусмысленно сообщает её житие, и что ясно указано в той пещере, где она пребывала, тогда ещё недоступной? Разве и она была больше Преславной Девы, Которая ни на скале не жила, ни такого поста не вершила? Что скажут они и о ряде святых отцов, столь многие из которых в разное время обходились без телесной пищи? Причём об одном отдельно написано, что, приняв воскресное причастие, он не вкушал никакой иной пищи (Руфин Аквилейский, Жизнь пустынных отцов: «Здесь в соседней пустыне живет один брат, по имени Иоанн. <...> Пищу принимал по Воскресным дням. Тогда приходил к нему пресвитер и приносил ему святые Тайны. Они служили ему единственным питанием...». – прим. пер.).
Пусть узнают, если ещё не поняли, что величие или малость святости не постом измеряется и определяется, но мерою любви; пусть узнают, что никому не должно судить о том, в чём несведущ; да услышат саму воплощенную Премудрость Бога Отца, говорящую о них и им подобных: «Кому уподоблю род сей? Играющим детям, которые говорят своим товарищам: «мы пели вам, а вы не плясали; мы скорбь выражали вам, а вы не рыдали» (ср. Мф. 11:16-17), добавляя, как мы выше упоминали: «пришёл Иоанн – ни ест и не пьёт» и т.д. Одного сего изречения Спасителя достаточно, чтобы заградить уста ропотникам, о которых я прежде всего упоминал.
[174] А вторым, которые гнушаются необычайного, легко ответить, что, хотя человеку и не следует привлекать к себе внимания, однако, когда Бог творит с ним нечто особенное, сие должно принимать с благодарностью. Опять же, [можно возразить], что необычайных даров Божиих следует вообще сторониться, ведь Священное Писание учит, что праведнику не следует искать ничего превышающего его (ср. Вульг. Сир. 3:22), тут же добавляет: «Тебе открыто много сверх знания» (ср. Вульг. Сир. 3:25). То есть самому тебе незачем искать ничего превышающего тебя, но если Бог открывает тебе что-то сверх тебя, ты должен принять это с благодарностью. Если же в нашем случае, как было сказано выше, сие содеял Господь по Своему особому промыслу, кто может сие необычайное явление подвести под правило?
То же мнение, облачённое, однако, покровом истинного смирения, высказала раба и дева Христова в ответ на вопрос, почему она не вкушает телесной пищи, как другие. Ибо сказала она: «Бог за грехи мои поразил меня какой-то особой болезнью или немощью, из-за которой я совершенно лишена возможности принимать пищу; я-то преохотно ела бы, да не могу. Молитесь за меня, пожалуйста, чтобы Он простил мне грехи мои, из-за которых я терплю всякое зло». Она почти в открытую сказала: «Сие творит Бог, а не я», но, чтобы не оказалось это подобием хвастовства, заявила, что всё произошло по её грехам; причём говорила она сие не вопреки собственному разумению, ибо твёрдо верила, что Бог попустил ей стать предметом сего человеческого ропота в наказание за её грехи. Ибо что бы плохое ни случилось, она всецело вменяла это грехам своим, а всё хорошее – Богу; и во всём постоянно пользовалась сим правилом истины.
Кроме того, этим ответом опровергаются третьи, говорящие, что следует избегать крайностей, потому что крайность не может быть дурной, если причина её – в Боге, да и не избежать её человеку – а что в нашем случае так и было, достаточно объяснено выше.
[175] А четвертых, кто приписывает сие обману врага, прошу мне ради всего святого ответить: если доселе она безусловно торжествовала над описанными выше вражьими обманами и искушениями, то как возможно, что она так обманулась на этот раз? Но допустим, она могла обмануться – тогда кто поддерживал в оном теле крепость его? Но если всё сие попытаются приписать врагу, то пусть скажут, кто поддерживал в душе её такую радость и такой мир, хотя она была лишена всякого чувственного удовольствия? Сей плод Святого Духа не может быть от дьявола, ибо написано, что плод Духа есть любовь, радость и мир (ср. Гал. 5: 22). Не думаю, по правде говоря, что они могут всё это приписать врагу. Но если попытаются отпираться несмотря ни на что, кто уверит нас, что, говорящие так сами не обольщены тем самым древним змием? Ибо если, по их мнению, дева, которой и чрез которую он так часто был побеждаем, чьё тело живёт и черпает силы за пределами всяческих природных сил и чей дух постоянно пребывает в мире благодаря духовной, а не плотской радости, может быть обманута и соблазнена врагом, то сколь паче те, за кем ничего из вышеперечисленного не замечено? Больше похоже на правду, что супостат в таковых речах вводит заблуждение их, не ту, которая пока не была замечена в заблуждении. В конце концов, тем отъявленным клеветникам, которые приучили язык свой говорить ложь (Иер. 9:5), лучше отвечать молчанием, чем словом, ибо со стороны благоразумных и добродетельных людей им подобает презрение, и никакого ответа они не заслуживают. Ведь не найдётся столь совершенного мужа, кого бы они не похулили! И если подобные им Господа и Отца лживо называли Вельзевулом, то что удивительного, коли сии клеветнически обвиняют одну из домашних Его? (ср. Мф. 10:25) По этой причине их следует молчаливо понуждать к молчанию: пусть это и будет ответ – какой уж Господь дал – тем, кто чернит необычный образ жития девы сей преподобной.
[176] Однако она, исполненная духа рассудительности, желая во всем подражать своему Жениху, вспомнила, что Сам Господь и Учитель на вопрос Петра о дидрахме подати, несмотря на то, что отнюдь не был обязан платить её, да и объяснил Петру, что этого с Него даже по людскому разумению требовать неразумно, тем не менее тут же добавил: «Но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя» (Мф. 17:27). О сем помышляя, преподобная дева, дабы унять по мере своих возможностей ропотников, решила раз в день садиться за стол вместе с остальными и, приложив все усилия, хотя бы попробовать принимать пищу, подобно прочим, чтобы никого не вводить в соблазн своим постом. Разумеется, из того, что она пыталась есть, было исключено не только мясо, вино, рыба, яйца да сыр, но и хлеб, однако несмотря на это. вкушение или, вернее, попытка вкусить оной пищи обратилась в такую муку для её тела, что всякий видевший сие, как бы ни был он жесток, искренне ей сочувствовал. Ведь, как было сказано выше, ни желудок её не мог ничего переварить, ни жар не поглощал корневой влаги, а по этой причине любой пище, входившей в оный желудок, подобало целиком вернуться тем же путем, каким она входила, а иначе она вызывала страшные муки и раздувание почти всего тела. И вот, хотя святая дева ничего не потребляла из овощей или из того, что требуется пережёвывать, ибо твёрдое вещество полностью изрыгала, однако ей не удавалось избежать того, чтобы что-нибудь из тонкого вещества или сока не попало ей в желудок, а сверх того она преохотно пила холодную воду, чтобы остудить гортань и горло, отчего ей каждый день приходилось с усилием испускать то, что проглотила, для чего она даже вставляла веточку укропа или другого растения в глубь пищевода к величайшему для себя мучению. И никаким иным образом она в большинстве случаев не могла вывести того, что вкушала.
И вот, приучившись к таковому образу жизни, она и вела его до конца – из-за ропотников и тех, у кого пост её вызывал соблазн.
[177] Я же, увидев однажды, какие она терпит мучения, изрыгая вышеописанным способом то, что съела, из сочувствия стал убеждать её позволить кому угодно роптать, лишь бы не подвергаться стольким страданиям из-за ропота их. На что она, улыбаясь, весело ответила: «Не лучше ли мне, отче, чтобы грехи мои были наказаны в сие конечное время, нежели подвергнуться каре бесконечной? Их ропот весьма мне полезен, потому что из-за оного я плачу моему Создателю пеню конечную, хотя должна бесконечно. Стоит ли мне бежать от божественного правосудия? Да не будет такого! Великая милость была оказана мне тем, что правосудие надо мною творится в сей жизни. Как мне на это ответить? Предпочитаю молчание, потому что не могу говорить достойно и правильно».
Исходя же из сего соображения, она называла ту мучительную процедуру правосудием, говоря своим сподвижникам: «Пойдёмте свершить правосудие над сей негоднейшей грешницей!» Таким образом она приобрела какое-то особенное преимущество как надо всеми кознями бесовскими, так и над гонениями людскими, и нас ежедневно наставляла поступать так. Посему, беседуя как-то раз со мной о дарах Божиих, она сказала: «Кто сумеет воспользоваться благодатью Божией, данной от Бога, тому постоянно будет идти на пользу всё, что с ним случается». И добавила: «Вот что я хотела бы от вас: всякий раз, когда с вами происходит что-то необычное – хорошее или плохое, – поразмыслите и скажите: «Я хочу извлечь из этого какую-нибудь пользу». Воистину, если вы будете так поступать, быстро достигнете благоденствия».
Горе мне, несчастному! Я не записал ни этих, ни каких-либо других примечательных её слов. Ну а ты, читатель, не подражай мне в таковой нерасторопности, а вспомни известную пословицу:
«Счастлив тот, кого беды чужие научат!»
Молюсь же, однако, дабы сам Источник благочестия просветил тебя лучом Своим и меня им побудил к действенному и постоянному подражанию сей деве! А на этом я полагаю конец настоящей главе, свидетелем всех описанных в коей речениям и деяниям является сама дева вместе со своим духовником, который предшествовал мне, как указано выше.
[ГЛ. VI.]
[178] С тех пор, как Господь устроил невесте Своей особенный образ жизни, Он и тело её, и, уж конечно, душу удостаивал великими и удивительными откровениями, приносившими утешение. Именно оттуда исходила сверхъестественная оная сила телесная, сиречь из обилия духовных даров благодати. Поэтому, я думаю, что, рассказав о необычайной её телесной жизнедеятельности, стоит перейти к описанию преизбытка духовного.
Итак, читатель, ты знаешь, что когда богопосвящённая дева испила пития жизни из бока Спасителя, то преисполнилась такой полнотой благодати, что почти непрестанно была занята глубоким (actuali) созерцанием, а дух её так крепко прилепился к её собственному и всеобщему Создателю, что большую часть времени она проводила вне тела и без чувств. Сие, как было упомянуто в первой части, мы наблюдали тысячу раз: когда она предавалась оному глубокому созерцанию, руки её от плеч до кистей на вид и на ощупь казались настолько оцепенелыми, что легче было сломать их, чем сдвинуть из того положения, которое они приняли. Глаза были полностью закрыты, уши не воспринимали никакого звука, сколь бы сильным он ни был, да и все телесные чувства оказывались в такие мгновения лишены присущего им действия. Однако тут нечему удивляться, если принять во внимание то, что следует далее. Ибо с той поры Господь стал являться невесте Своей не только в укромных местах, как прежде обычно бывало, но и на открытых – явственно и в полную меру, шла ль она или стояла; и так распалил огонь любви Своей в её сердце, что она, лично испытав сии божественные [откровения], признавалась духовнику, что попросту не находит никаких слов для выражения пережитого.
[179] Далее: когда она однажды с особым усердием молилась словами Пророка: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс. 50:12), особенно прося о том, чтобы Господь забрал её собственное сердце и её собственную волю, Он самолично утешил её таким видением.
Итак, виделось ей, что вечный Жених пришёл к ней, как обычно, и, отверзши ей левый бок, извлёк оттуда сердце и ушёл, после чего она осталась совсем без сердца. Притом видение сие было до того похоже на действительность и так убедительно для телесных чувств, что во время исповеди Екатерина сказала своему духовнику, что у неё нет сердца в груди. Когда же он стал насмехаться над сказанным и насмешливо укорять её, она, повторив, что прежде сказала, подтвердила сие, говоря: «Воистину, отче, насколько я могу чувствовать и судя по чувствам телесным, я, похоже, осталась совсем без сердца. Ибо явился мне Господь и, отверзши мне левый бок, извлёк сердце и ушёл». Когда же он заявил, что жить без сердца ей было бы невозможно, дева Господня уверенно возразила, что у Бога не остаётся бессильным никакое слово (ср. Лк. 1:37), а потому она твёрдо верит, что лишилась сердца. И в течение нескольких дней она повторяла одно и то же: что, мол, живёт без сердца.
[180] И вот однажды она была в капелле церкви Братьев-проповедников сиенских, где обычно собираются вышеупомянутые Сёстры Покаяния Бл. Доминика, и после [ухода] всех осталась ещё помолиться, а когда, очнувшись в конце концов от обычной своей сноподобной отстранённости, она поднялась, чтобы вернуться домой, воссиял вдруг вокруг неё свет с неба, а в свете явился ей Господь, держащий в Своих священных руках некое человеческое сердце, алое и светозарное. Когда же при виде Творца и света она пала в трепете наземь, Господь, приблизившись, снова отверз ей левый бок и, вложив туда то самое сердце, которое нёс в руках, молвил: «Вот, дражайшая дщерь, как на днях Я забрал у тебя сердце твоё, так в настоящем предаю тебе сердце Моё, да живёшь в нём вовек». И, сказав слова сии, Он закрыл и заживил отверстие, которое прежде сделал во плоти, а в знак чуда на том месте остался зарубцевавшийся шрам, как поведали мне её сподвижницы и несколько других женщин, часто видевших его, а она в ответ на мои настойчивые вопросы, не в силах отпираться, призналась и подтвердила, что это правда. И добавила, что после того часа уже никогда не могла сказать, как обычно: «Господи, вверяю Тебе сердце мое!»
[181] А когда она великим чудом и по великой же милости обрела сие сердце, от обилия пребывавшей в нём благодати достославные дела произошли вовне, а внутри свершились преизумительные откровения. Ведь она никогда не подходила к священному алтарю без многих сверхчувственных видений, и особенно когда принимала Св. Тайны. Ибо же многократно видела она младенца, сокрытого в ладонях священника; иногда – ребенка побольше; порою – пылающую огнём печь, в которую, вкушая Св. Тайны, священник как бы входил. Зачастую, вкушая сии достопоклоняемые Тайны, она чувствовала столь сильное благоухание и такую сладость, что едва не падала в обморок. Однако всегда при виде или вкушении Таинства алтаря в её душе нарождалась необычайная и неописуемая радость, так что часто сердце её прыгало от радости в груди, производя гул звонкий и звучный, который совершенно ясно слышали окружавшие её сподвижницы – о чём после нескольких таких случаев они сообщили брату Фоме, её духовнику, который, проведя тщательное расследование и обнаружив, что так оно и есть, записал сие на вечную память. И не был то звук или гул, подобный любому другому звуку, который обычно естественным образом возникает во внутренностях человека, – наоборот, своей необычностью он показывал, что происходит от чего-то вне природы, а скорее – от сверхприродной силы Творца природы. И нет ничего удивительного в том, что, коль сердце сверхъестественным образом даровано ей, то сверхъестественно оно и билось, ведь и Пророк воспевал: «Сердце моё и плоть моя восторгаются – то есть «исторгаются вовне» – к Богу живому» (ср. Пс. 83:3). Здесь сам Пророк необычно называет Бога «живым», потому что оное прыганье или оное биение сердца, вызываемое жизнью, не умерщвляет претерпевающего сие человека, как следовало бы по законам природы, но оживляет.
[182] Более того, после упомянутой чудесной замены сердца ей стало казаться, что она в некотором смысле уже не та, что была. Отчего и сказала она брату Фоме, своему духовнику: «Не кажется ли вам, отче, что я не та, кем была, но превратилась в другую личность?» И прибавила: «О, если бы вы познали, отче, что я чувствую! Твёрдо верю, что если бы кто-нибудь познал, что я чувствую изнутри, то как бы ни был твёрд, смягчился бы, и как бы ни был горд, смирился б; ибо всё сказанное мною – совершенно ничто по сравнению с тем, что я чувствую!» Однако она попыталась поведать сие, сказав: «Такая радость и такое ликование овладевает сердцем моим, что я диву даюсь, как душа ещё держится в теле». И добавила: «Так силён пыл, пребывающий в душе моей, что сей внешний огонь вещественный кажется мне по сравнению с ним скорее остужающим, чем обжигающим, скорее холодным, чем горячим». И присовокупила: «От сего пыла в сердце моём происходит некое обновление чистоты и смирения, причём в такой мере, что кажется мне, будто я возвратилась в возраст четырёх или пяти лет. Благодаря чему опять же возгорается такая любовь к ближнему, что за любого ближнего я преохотно претерпела бы смерть телесную – радостно и с великим веселием сердца».
Всё это она втайне рассказывала духовнику, а от других по мере сил скрывала. Сими же и многими другими словами и знамениями явлена была обильная благодать, каковую Господь излил на душу святой девы сверх всякого обыкновения, но если бы мы попытались разбирать их подробно, пришлось бы составить о том много книг (ср. Ин. 21:25). Но я решил выбрать из множества несколько [примеров], которые с особенной ясностью свидетельствуют о её святости.
[183] Итак, хочу довести до твоего сведения драгоценнейший читатель, что когда в душу девы сей преподобной пролился свыше обильный поток благодати, с небес ей было явлено множество замечательных видений, некоторые из которых не подобает обойти молчанием. И прежде всего однажды явился Ей Царь царей вместе с Царицей Небесной, Родительницей Его, и Марией Магдалиной; они утешали и укрепляли её в святом подвиге. И сказал ей тогда Господь: «Чего бы ты хотела от Меня?» На что она, разрыдавшись, смиренно отвечала подобно Петру: «Господи, Ты знаешь, чего я хочу; Ты знаешь, что у меня нет иной воли, кроме Твоей, и нет у меня сердца, кроме Твоего» (ср. Ин. 21:15, 17). Тогда вспомнилось ей, как Мария Магдалина всецело предалась Христу, когда плакала у ног Его, и ощутила сладость умиления и любви, каковую испытывала тогда Мария Магдалина, отчего и взглянула на неё. На что Господь, как бы удовлетворяя её желание, сказал: «Вот, сладчайшая дщерь, для вящего утешения твоего Я даю тебе Марию Магдалину в матери, и ты сможешь прибегать к ней с полным доверием, ибо Я вверяю тебя её особой заботе». Приняв сие с искренним благодарением, Екатерина в великом смирении и почтении благоговейно препоручила себя Марии Магдалине, обратившись к ней со смиренной и ревностной мольбою, дабы удостоила она её усердной заботы о спасении. И после того, как Сын Божий вверил ей Екатерину, с этого времени дева взяла Магдалину к себе (ср. Ин. 19:27) и всегда называла её своей матерью.
[184] Здесь, однако, не обошлось, по моему мнению, без загадочного [совпадения]. Ведь как Мария Магдалина провела тридцать три года на скале без телесной пищи, но в постоянном созерцании (в каковом сроке она воспроизвела полый возраст Спасителя (ср. Еф. 4:13)), так и преподобная сия дева после тех происшествий и до тридцатитрёхлетнего возраста, когда она преставилась от мира сего, столь усердно предавалась созерцанию Всевышнего, что, не нуждаясь в укреплении телесной пищей, душу свою питала обильною благодатью. И как та [святая] бывала семь раз в день восхищаема ангелами на высоты, где слышала [неизреченные] глаголы Божии, так и эта [дева] большую часть времени была от телесных чувств восхищаема силою духа, созерцавшего небесные [тайны], и вместе с ангельскими духами славила Господа, отчего и тело её часто воспаряло на воздух, ибо многие мужи и жёны вместе и порознь свидетельствуют, что воочию видели сие, о чём пространнее будет сказано ниже. Сверх того, повидав в своём восхищении великие дела Божии, она порой тихо высказывала дивные замечания и весьма возвышенные речения, некоторые из которых были записаны, как будет своей чередою изложено ниже.
[185] Ибо однажды я видел, как она была – в соответствии с вышеописанным – восхищена от чувств, и услышал я тихий шёпот. Приблизившись, я разобрал, что она на латыни и притом правильно сказала следующие слова: «Я увидела тайны Божии», а затем снова и снова: «Я увидела тайны Божии»; и больше ничего не добавляла, а только это повторяла. Когда же спустя большой промежуток времени она вновь обрела телесные чувства, то отнюдь не прекратила речи сии, но непрестанно повторяла одно и то же: «Я увидела тайны Божии». Тогда я, желая выяснить у неё причину такого многократного повторения одного и того же, спросил: «Ради всего святого, матушка моя, почему ты так настойчиво повторяешь сии слова, ни истолковывая нам (как делала обычно), что говоришь, ни прибавляя ничего?» А она молвила: «Никак нельзя мне сказать ни иначе, ни иного». На что я ей: «И в чем причина такой перемены?! Ты обычно объясняла мне, даже без вопросов с моей стороны, многое из того, что Господь являл тебе. Почему же теперь тебе точно также не ответить на заданные вопросы?» Тогда она молвила: «Объяснять вам в этих ущербных выражениях то, что я увидела, было бы почти настолько же бессовестно, как хулить Самого Господа или бесчестить Его своими словами, ибо столь велико расстояние между тем, что разумеет восхищённый, просвещённый и укрепленный Богом разум, и тем, что может быть выражено словами, что то и это может показаться противоположностями. По этой причине я пока никоим образом не могу уступить вам и описать, что я увидела – это невыразимо».
Посему весьма сообразно провидение Всемогущего Господа назначило сию деву дочерью Марии Магдалине, а ей дало её в матери, дабы, значит, постницу связать с точно такою же постницей, любящую – с любящей, созерцательницу – с созерцательницей. Но сама дева, сообщая втайне об этом, прибавила, а вернее, только то и сказала, что грешница была дана былой грешнице в дочери, дабы мать, памятуя о немощи естества и щедроте явленного ей Сыном Божиим милосердия, пожалела бы свою немощную дочь и вымолила бы для неё щедроту милосердия.
[186] А после всего этого брат Фома, её первый духовник, в записях коего я нашёл описание вышеупомянутого видения Магдалины, сообщает, что, согласно тайному признанию Екатерины, вслед за таковыми предзнаменованиями дано было видеть ей, как её сердце входит в бок Спасителя и становится единым с сердцем Христовым. Тогда она почувствовала, что душа её совершенно растаяла от пыла божественной любви, отчего она мысленно воскликнула: «Господи, пленил Ты сердце моё! Господи, пленил Ты сердце моё!» (ср. Песн. 4:9) А свершилось сие, по словам упомянутого брата Фомы, в год Господень 1370-й, в праздник Маргариты, девы и мученицы (20 июля. – прим. пер.).
Ещё в том же году, на следующий день после праздника св. Лаврентия вышеупомянутый её духовник, боясь, как бы её пронзительные стоны не потревожили совершающих служение священников, сказал ей, чтобы она, находясь близ алтаря, насколько возможно сдерживала вышеупомянутые стоны; она же, блюдя истинное послушание, расположилась подальше от алтаря и молила Господа влить в её духовника свет, силою коего он смог бы увидеть, можно ли сдержать такие чувства, вызываемые Духом Божиим. И сие, согласно письменному свидетельству самого духовника, ему так явственно было показано, что он уже более не смел увещевать её о подобном. И хотя он (чтобы не показаться самохвалом) написал о том кратко, я всё же думаю, что он познал на опыте, что такие вспышки духовного пыла невозможно сдержать изнутри.
[187] Но возвратимся к самой Екатерине. Когда она, находясь далеко от алтаря, с величайшей силою возжаждала вкусить достопоклоняемых Таин и молвила (в душе – громогласно, а вслух – тихо): «Я желала бы Тела Господа нашего Иисуса Христа», Сам Спаситель, дабы удовлетворить её желание, явился ей, как обычно, и приложил уста девы к рубцу на Своём боку, давая понять, что она может вволю насытиться Телом Его и Кровию. Немедля послушавшись, она долго пила воды жизни из всесвятого источника в груди Его. От какового питья её сердце исполнилось такой сладости, что ей казалось, будто от совершенной любви она расстанется с телесной жизнью. Когда же духовник спросил её, каково ей было тогда и что она чувствовала, Екатерина ответила, что не может поведать или высказать, что тогда чувствовала.
[188] Почти то же самое случилось в том же году, за месяц или около того, то есть в день бл. Алексия (11 августа. – прим. пер.). Ибо, когда она накануне ночью молилась и, молясь, возгорелась желанием Святого Причастия, открыто было ей, что утром она непременно примет Святое Причастие (ибо ей в оном всё чаще отказывали по причине нерассудительности как братьев, так и сестёр, управлявших в то время общиной). Итак, услышав сие откровение, она тотчас же принялась молить Господа очистить и совершенно уготовить её душу, дабы смогла она достойно принять столь страшное Таинство. Она ещё продолжала молиться и всё настойчивее просила о том, как почувствовала, что на душу её пал обильный дождь потоком, но не воды и не какой-либо иной обычной жидкости, а именно крови, смешанной с огнём. И почувствовала она, что сим-то дождём душа её так полно очищается, что оное чувство перелилось на её тело, так что и тело её восприяло и ощутило небывалое очищение, хотя и не от телесной нечистоты, но, скорее, от порчи греховной. После того с наступлением утра телесный недуг, каковым она страдала в те дни, настолько усилился, что никому в здравом уме не пришло бы в голову, что она в силах хоть шаг ступить. А она, нисколько не сомневаясь в исполнении божественного обетования, положившись на Господа, поднялась и к удивлению всех окружающих направилась к церкви.
[189] Добравшись до неё, Екатерина расположилась в некоей капелле близ алтаря, и вспомнилось ей, что согласно предписанию, данному ей руководителями, она не у любого служащего мессу могла причащаться, а потому ей оставалось лишь уповать, что к названному алтарю придёт служить её духовник. И тут же ей было явлено свыше, что сие свершится согласно её упованию, чем она немало утешилась. А её духовник, поместивший сие среди своих записей, признаётся, что тем утром не намеревался и не предполагал служить, да и не знал, что святая дева пришла. Но вдруг сердца его коснулся Господь, и он загорелся желанием отслужить мессу, и, немедля приступив к исполнению этого своего желания, он подошёл к тому алтарю, где как раз и находилась тогда святая дева, ожидавшая исполнения данного ей свыше обетования, хоть и не было у него обычая приближаться к упомянутому алтарю. Обнаружив же, что там находится его святая дочь и просит причастия, он счёл промыслом Божиим и то, что служил вне очереди, и то, что неосознанно подошел не к тому алтарю, что обычно. Итак, отслужил он мессу и в итоге уделил Святое Причастие деве. Она же подступила к алтарю с разрумянившимся и сияющим ликом, но залитая притом слезами, а затем, когда к Св. Тайны были вознесены пред нею, приняла их с таким благоговением, что повергла духовника в изумление и чрезвычайное благоговение.
После чего она так поглощена была Богом и введена во глубины винохранилищ божественных, что в течение всего дня того, даже после того, как к ней вернулись телесные чувства, не могла произнести ни единого слова.
[190] После ж того дня, когда духовник спросил Екатерину, что случилось с нею, отчего она на глазах у него так разрумянилась при принятии Св. Таин, молвила она: «Я сама, отче, не знаю, какого я цвета была, но да будет вам ведомо, что в миг, когда я приняла сие неизъяснимое Таинство из рук ваших, не увидела я ничего телесного, ничего окрашенного телесными чувствами. Но то, что увидела я, так меня привлекло, что всё прочее, сущее здесь, стало для меня подобно сору отвратному (ср. Флп. 3:8): не только мирские богатства или телесные удовольствия, но также любые утешения или услады, пускай бы и духовные. Оттого просила я да молила о том, чтобы лишиться всех таковых утешений, даже духовных, если только я Богу моему смогу угодить и в конце концов обрести Его. По этой причине я молила Господа, да заберёт у меня всю волю мою и даст мне только Свою – что по милости Своей Он и свершил. Ибо в ответ Он сказал мне: «Вот, дщерь милейшая, я предаю тебе волю Мою, коею так укрепишься, что в дальнейшем при любых событиях, откуда бы и как ни пришли они, ты нисколько не поколеблешься и не изменишься». Что и подтвердилось на деле, ибо (как узнали на опыте мы все, кто имел общение с нею), от того года она всегда была довольна всем и не испытывала никакого волнения, что бы ни случилось.
[191] Помимо того, дева, поведав своему духовнику вышеизложенное, добавила: «Знаешь ли ты, отче, как Господь поступил с душою моей в тот день? Как мать обращается с ребёнком своим маленьким, которого она нежно любит: ибо она показывает ему грудь и оставляет его в отдалении, позволяя поплакать; а немножко посмеявшись над плачем ребёнка, обнимает его и, целуя, даёт ему грудь радостно и вволю. Так, – молвила Екатерина, – Господь поступил со мной. Ибо в тот день Он показал мне Свой бок всесвященный, но издалека – и я премного плакала от желания приложить уста к священной ране. Он же, после некоторого промедления, словно бы посмеявшись над моим плачем, наконец подбежал, взял мою душу на руки и приложил уста мои к боку священнейшей раны Своей, то есть к ране на боку, и тогда душа моя от томления великого целиком вошла в бок Его и обрела там познание Божества и такую усладу, что, если бы вы узнали её, то удивились бы, как сердце моё не разрывается от мощи любви, и изумились бы, как я могу жить в теле при таком избытке пыла и умиления».
А произошло это в вышеназванный день святого Алексия.
[192] А в том же году, в восемнадцатый день августа, рука Господня коснулась её (ср. 4 Цар. 3:15), когда утром того дня она принимала Святое Причастие. Ибо после того, как священник, держа Св. Тайны в руках, велел ей сказать: «Господи, я недостойна, чтобы Ты вошёл в меня» (слова, которые надлежит произносить причастнику (ср. Мф. 8:8), здесь изменены, что либо передаёт локальную литургическую традицию, либо намекает на действие Св. Духа в этом случае. – прим. пер.), она приняла Св. Тайны, явлено было ей, что, как рыба входит в воду, а вода – в рыбу, так и душа её входит в Бога, а Бог – в неё; и почувствовала, что Бог увлёк её к Себе целиком, так что едва нашла силы вернуться к себе в келейку, где, улегшись на свою деревянную кровать, о которой упоминалось выше, долго оставался неподвижна. А позднее тело её поднялось в воздух и находилось в подвешенном состоянии без вещественной поддержки, что видели трое свидетелей, о которых будет написано ниже. Наконец она опустилась на вышеупомянутую постель и тихо молвила слова жизни, что были слаще медового сота (ср. Сир. 24:22), и притом глубоки – они растрогали всех сподвижниц её, слушавших их, до слёз. Затем она помолилась за многих, а за некоторых поименно, особенно за духовника, который в тот самый час и миг был в церкви Братьев и не помышлял в ту пору ни о чём, побуждающем к благоговению; более того, как он сам пишет, не был в тот час даже расположен к каким-либо проявлениям оного. Но вдруг, когда Екатерина стала о нём без его ведома молиться, в душе его произошло некое изменение к лучшему, и он почувствовал дивное благоговение, доселе им не испытанное, и небывалое обновление сил в сердце своём. А пока он помышлял об этом, подошла к нему вдруг одна из сподвижниц святой девы и сказала: «Как же много, отче, молилась Екатерина о вас в такой час!» Услышав сие, он сразу понял по времени, откуда произошло оное необычайное воспламенение души, что случилось в то время.
[193] А из дальнейших расспросов он узнал, что просьба девы, как о нём, так и о других, за кого она тогда молилась, была о том, чтобы Господь обещал ей даровать им жизнь вечную. И именно ради того она простёрла руку, сказав: «Пообещай мне, что так поступишь!» И когда она стояла так с простертой рукой, заметно было, что она чувствует сильную боль. Из-за чего, тяжко вздохнув, она молвила: «Хвала Христу Господу», как она имела обыкновение говорить, страдая от недугов своих. Поэтому к ней подошёл оный духовник и попросил её поведать ему, что было явлено ей в видениях. Вынужденно исполняя сие из послушания, она поведала сказанное ей свыше, прибавив: «Когда же я настойчиво просила вечной жизни для вас и для других, за которых я молилась, и сам Господь обещал мне это, тогда я – не по неверию, а в надежде получить что-нибудь как можно более запоминающееся, – спросила: «И какой знак, Господи, ты дашь мне, что совершишь всё сие?» Тогда Он молвил: «Протяни Мне руку!» Когда я послушалась, Он вынул один гвоздь, кончик или острие которого уставил в середину моей ладони, и так сильно надавил гвоздём на мою руку, что мне показалось, будто рука моя пронзена насквозь; и почувствовала я такую боль, словно бы в неё вбили железный гвоздь молотом. Итак, по милости Господа моего Иисуса Христа, я уже имею на деснице моей стигмат Его, каковой хоть и невидим для других, для меня, тем не менее, ощутим и непрестанно меня мучает».
[194] Ну а в продолжение темы, славный читатель, должен я рассказать тебе кое-что, случившееся много позже в городе Пизе – в моём присутствии и у меня на глазах. Ибо когда туда приехала Екатерина, а с нею множество [спутников], одним из которых был и я, приют она нашла в доме некоего горожанина, который жил около церкви или часовни святой девы Христины. В этой церкви я однажды в воскресенье служил мессу по просьбе Екатерины и её (выражаясь простым языком) причастил. После чего она по своему обыкновению оставалась там долгое время вне чувств телесных, ибо дух её, жаждущий своего Творца, сиречь Духа высшего, отдалялся, насколько это было возможно, от телесных чувств. Когда мы ожидали возвращения к ней телесных чувств, чтобы – как обычно бывало – получить от неё некоторое духовное утешение, вдруг у нас на глазах она, чьё хрупкое тельце поначалу лежало ниц, потихоньку поднялась и, став на колени, простерла ввысь руки и ладони, а лицо её просияло. Так она стояла долго в совершенном оцепенении и с закрытыми глазами, но наконец в какое-то мгновение она, словно бы смертельно раненая, упала у нас на глазах, и спустя краткий миг душа её возвратилась телесным чувствам.
[195] После того она немедля попросила позвать меня и, заговорив со мною наедине, молвила: «Да будет вам ведомо, отче, что теперь я ношу язвы (stigmata) Господа Иисуса на теле моём (Гал. 6:17) по милости Его. Ответив, что определил сие по движениям её тела, когда она пребывала в экстазе, я спросил, каким образом Господь совершил то. А она в ответ молвила: «Я видела Господа, пригвождённого ко кресту, и сошёл Он ко мне со светом великим, что вызвало в душе моей такой порыв навстречу Творцу, что и тельце принуждено было подняться. Затем я увидела, как из отверстий Его всесвященных ран на меня низошли пять кроваво-красных лучей, которые устремили острия свои к моим рукам, ногам и сердцу, по причине чего, осознав, что за тайна свершается, я тотчас же воскликнула: «Ах, Господи Боже мой, умоляю, не дай рубцам внешне проявиться на теле моем!» И вот, пока я ещё говорила, упомянутые лучи, прежде чем достигли меня, изменили цвет свой с кроваво-красного на прозрачный и в виде чистого света дошли до пяти частей моего тела, а именно: рук, ног и сердца». Тогда я: «Итак, ни один из лучей не направился в правый бок?» А она молвила: «Нет, налево, прямо-прямо мне в сердце. Ибо та светлая черта, изошедшая от Его правого бока, попала в меня не наискось, а прямым путём». А я ей: «Чувствуешь ли ты сейчас в этих местах ощутимую боль?» Она же, испустив тяжкий вздох, молвила: «Я ощущаю боль во всех пяти точках, но особенно в сердце, и это так мучительно, что, если Господь не совершит нового чуда, то телесная моя жизнь при такой боли, видимо, не сможет сохраниться, и через несколько дней ей придёт конец».
[196] Узнав сие и не без печали о том поразмыслив, я стал внимательно ожидать проявления признаков столь сильной боли. И вот, когда она договорила всё, что она хотела мне поведать, мы вышли из капеллы и отправились на постоялый двор, где она остановилась. Когда мы прибыли туда, святая дева, едва войдя в отведённую ей комнату, упала в обморок от ослабления сердца. Сего ради нас всех созвали, и мы, взирая на сие небывалое [бедствие], плакали от страха, как бы не оставила нас та, кого мы любили в Господе. Ибо, хотя мы часто видали, как она от безмолвного пыла восхищалась от чувств, и многократно наблюдали, как она от избытка Духа весьма изнемогала телом, однако никогда доселе она у нас на глазах в таком обмороке не бывала. Но спустя краткое время она пришла в себя и после общей трапезы снова заговорила со мной, заявив о своей уверенности в том, что, если Господь не применит некоего нового средства, она вскорости покинет свое тело.
[197] Быстро сообразив, что к чему, я собрал её сынов и дочерей и стал умолять их и слёзно упрашивать свершить единодушное моление ко Господу, дабы соблаговолил Он даровать матери и наставнице нашей ещё некоторое время и не оставил нас в бурях века сего слабыми и немощными сиротами, ибо мы ещё не укреплены свыше в святых добродетелях. А жены и мужи оные единодушно и единогласно пообещали свершить сие, и вот мы все вместе пришли к ней, рыдая и плача (ср. Отк. 18:15), и говоря: «Мы знаем, матушка, что ты стремишься ко Христу, Жениху твоему, но награда твоя и так наверняка дождётся тебя, так что лучше уж смилуйся над нами, доселе немощными, кого покидаешь среди бурь. Опять же, мы знаем, что оный вселюбезный Жених твой, Кого ты с такой нежностью горячо любишь, ни в чём тебе не откажет. Итак, смиренно просим тебя умолить Его пока оставить тебя нам, ибо если ты так скоро покинешь нас, зря мы последовали за тобою. Да притом мы боимся, как бы не были отвергнуты по грехам нашим молитвы наши, ибо, хоть и творим мы их изо всех своих скромных сил, но к стыду своему остаёмся совершенно недостойны [ответа]. Ты, ревностно жаждущая спасения нашего; ты вымоли для нас то, чего нам стяжать не по силам!» На сии и подобные сим слёзные излияния наши она отвечала, молвив: «Я сама уже давно отреклась от своей воли, и ни в сем, ни в чём ином не желаю ничего, кроме того, что Господь пожелает. И хотя я всем сердцем желаю вам спасения, знаю, однако, что Тот, кто есть спасение ваше и моё, лучше знает, как доставить его, чем любое создание, так что да будет во всём воля Его. Впрочем я с радостью буду молиться, чтобы он поступил, как лучше. Когда это было сказано, мы остались трепетать, скорбеть и плакать.
[198] Однако не презрел Всевышний слёз наших. Ибо на следующую субботу Екатерина, придя ко мне, молвила: «Похоже, Господь намерен внять молитвам вашим, и, надеюсь, скоро мы увидим исполнение ваших просьб». Так сказала она, и так случилось. Ибо в следующее воскресенье она приняла Святое Причастие из моих недостойных рук, и так же, как и в предыдущее воскресенье, словно бы огневица пронизывала тело её, пока дух пребывал в восхищении, так что в тот день во время восхищения она явно укрепилась. Когда сподвижницы её стали дивиться, что тело её при восхищении не претерпело, вопреки обыкновению, никаких мучений, а наоборот, словно бы даже несколько отдохнуло, как если бы спало естественным сном, и укрепилось, я ответил им: «Надеюсь в Боге, что, как она мне вчера обещала, слёзные наши мольбы о [сохранении] её телесной жизни уже вознеслись пред лик Господа, и та, что поспешала к Жениху своему, ради облегчения наших страданий возвращается к нам». То, что я сказал, мы вскоре увидели явно. Ибо когда дух её вернулся к телесным чувствам, она оказалась полна таких неиссякаемых сил, что никто из нас не усомнился, что были мы полностью услышаны. О Отче неизъяснимой милости! Что соделаешь Ты верными рабам и чадам Твоим возлюбленными, коль так благостно снизошёл к Своим страждущим обидчикам? И вот, я, размышляя о сем, чтобы паче убедиться, сказал ей: «Матушка, продолжают ли ещё болеть раны, нанесённые твоему телу?» А она молвила: «Услышал Господь молитвы ваши, хоть и к скорби души моей; и оные раны тела моего не только не мучают, но даже укрепляют и усиливают его; и то, что прежде было источником мучения, ныне служит укреплением, причём ощутимым».
Сие, читатель, я рассказал тебе в продолжение предыдущей темы, чтобы ведомо было тебе, какими превосходными дарами была наделена душа сей благой девы, и дабы знал ты, что даже когда грешники молятся о том, что относится к спасению душ их, услышаны они будут Тем, Кто хочет, чтобы все люди спаслись (1 Тим. 2:4), и всему желает спасения.
[199] Впрочем, если бы я хотел рассказать обо всех исступлениях ума, случавшихся с сей преподобною девой, мне скорее не хватило бы времени для написания, чем материала. Поэтому я поспешу к изложению истории одного исступления, которое, по моему суждению, превосходит всё остальное, что можно рассказать об этом – и на том мы, даст Господь, положим конец этой главе. Ибо ведь я обнаружил, что брат Фома, часто упоминаемый выше духовник её, исписал целые тетради [отчётами] о несравненных её видениях и неслыханных откровениях такого рода: то сам Спаситель в видении вводит её душу Себе в бок, где открывает ей [глубокие] тайны, вплоть до тайны Троицы; то является ей Преславная Богородица и насыщает её молоком всесвященных сосцов Своих, наполняя её невыразимой усладою; а то Мария Магдалина, общаясь с нею подолгу и весьма доверительно, приобщает её к тем исступлениям ума, что с нею случались в пустыне семь раз в день. А то сии трое названных, по-свойски с нею прогуливаясь и беседуя, уделяют различные неописуемые утешения душе её. Не было недостатка в утешительных явлениях и других святых, наипаче апостола Павла, которого она никогда не поминала без проявлений великой нежности, Иоанна Богослова, иногда – бл. Доминика, многократно – св. Фомы Аквинского, а часто и в по разным поводам – Агнессы, девы из Монтепульчано (пам. 20 апреля. – прим. пер.), житие которой я лично написал двадцать пять лет назад , и о которой сей деве было откровение, что сия сподвижница её пребывает в Царстве Небесном, о чём будет ниже, даст Господь, рассказано пространнее. Вот и мне угрызения совести не позволяют перейти к изложению дальнейшей истории, не упомянув предварительно ради пользы читателей самых примечательных событий, произошедших с нею в связи с видениями апостола Павла.
[200] Случилось же однажды, в праздник обращения оного апостола, что дева сия так далеко исступила из ума своего, и дух её столь ревностно устремился к вышним, что три дня и три ночи она оставалась совершенно неподвижной, не владея своими телесными чувствами, так что некоторые из окружающих думали, будто она мертва или скоро умрет, но более разумные считали, что она была восхищена, подобно апостолу, до третьего неба (ср. 2 Кор. 12:2). Наконец пришло время тому святому экстазу закончиться, но дух, увлечённый тем, что видал в небесах, так неохотно возвращался к телесной жизни, что дева находилась как бы в постоянной дрёме, подобно пьянице, который проснуться не может, но и не совсем спит.
Так обстояли дела, когда брат Фома, её духовник, и некий брат Донат из Флоренции, вознамерившись навестить некоего славного мужа из Ордена отшельников, жившего в пустыни, сперва зашли домой к деве и, обнаружив её в состоянии священной дремоты, словно бы упоённую Духом Божиим, чтобы разбудить её, сказали: «Мы хотим пойти к такому-то мужу, обитающему в пустыни; хочешь с нами?» А она, будучи почитательницей святых и рабов Божиих, как бы во сне, ответила: «Да». Но едва она промолвила слово, её охватили такие угрызения совести за ложь, что она от скорби вновь обрела телесные чувства, и сколько же дней и ночей, сколько провела в восхищении, непрестанно оплакивала оный грех, обвиняя себя: «О порочнейшая и негоднейшая из всех женщин! Разве это показал тебе в дни сии Всевышний по бесконечной благости своей? Таковы, что ли, истины, что ты только что познала на небесах? И для того Святой Дух научал тебя столь возвышенному учению, чтобы, вернувшись на землю, ты стала лгать? Ведь хотя ты прекрасно знала, что не хочешь идти с теми братьями, однако ответила «да» и солгала духовникам своим и отцам души твоей. О нечестие, о худшее из беззаконий!»
И вот, причитая так, она в течение вышеуказанного срока не ела и не пила, как и прежде, когда пребывала в экстазе.
[201] Примечаешь, читатель, предивные пути Промысла Божия и прехвальные устроения Его? Ибо для того, чтобы величие небывалых откровений не надмило деву сию, Он попустил ей впасть в эту утешительную ложь, ибо там не было никакого умысла на обман, и слушающий одинаково с произносившим понимал речь. Таким образом, сим унижением Он, как бы некоей крышкой для избранного сосуда, сохранил то, что дал; и тело, которое от возвышения духа уже почти изнемогало, по возвращении его как бы оживилось. Ибо хотя радость духа преизливается в тело по причине их ипостасного единения, чрезмерное возвышение духа, совершающееся при видении третьего неба, то есть в разумном видении, до того лишает тело жизненных сил, что, если Бог не придёт на помощь, сотворив новое чудо, тело не сможет долго выдержать, но окончательно погибнет. Известно ведь, что акт разумения сам по себе не требует никакого телесного орудия, кроме того, что представляет умопостигаемый предмет, поэтому, если по особой благодати всемогущий Бог сверхъестественным образом представит такой предмет разуму, то разум тут же, обретя свое совершенство во Христе, пытается соединиться с Ним, даже оставляя тело. Но как преблагой Промыслитель привлекает ввысь созданный Им самим разум чрез откровение Своего света, так и опускает его вниз, попуская какое-либо уязвление, дабы знание и божественного совершенства, и собственной немощи увлекали [душу] от крайностей к середине, где будет она парить в совершенной безопасности и так, невредимо пересекши сие море, счастливо и радостно достигнет берегов вечной жизни. Именно это, на мой взгляд, и хотел сказать апостол, когда писал коринфянам: «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня» (2 Кор. 12:7) и т. д., а ниже: «Ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12:9) и проч.
Возвращаясь же к нашему повествованию, заметим, добрый читатель, что о виденном тогда сия святая дева духовнику (вопреки обыкновению) ничего не сообщила, потому что, как она и мне впоследствии говорила, не в силах была подобрать слов, которые могли бы выразить оное, да и не подобает о том человеку рассказывать в каких-либо человеческих выражениях, о чём учит и Апостол; но пыл сердца её, усердие в молитве, убедительность увещания самым прямым образом свидетельствовали о том, что она видела тайны Божии, несообщимые никому, кроме видевших.
[202] Кроме того, в другой раз (как она поведала своему духовнику, а он изложил в своих записях), явился ей сам блаженный Апостол и увещевал её усердно и непрестанно предаваться молитве (1 Фес. 5:17). Когда она внимательно выслушала [сие увещание] и исполнила на деле, случилось так, что в канун памяти бл. Доминика, когда она находилась в церкви и молилась, ей открыто было многое о бл. Доминике и его святых чадах; и откровения сии или видения были настолько яркими и стойкими, что часто, например, когда она рассказывала о них своему духовнику, они продолжались наяву – что, как я думаю, было знаком, данным ей свыше, дабы знала она, что есть Божия воля ради пользы других сообщать о таковых откровениях [нынешнему] духовнику и духовникам [последующим].
Итак, когда в означенный день, незадолго до вечерни, она внимала оным откровениям, в церковь внезапно вошёл некий брат Варфоломей Доминичи из Сиены, ныне магистр священной теологии, а тогда – товарищ духовника, коему Екатерина во всём, как своему духовнику, доверяла, и кому исповедовалась в отсутствие своего духовника. Скорее духом, нежели телесным [слухом] почувствовав его приближение, она тотчас же встал и, выйдя ему навстречу, сказала, что хотела бы поведать ему некие тайны. Когда ж они уселись вместе в церкви, она сообщила о том откровении, каковое ей прямо в тот миг давал Господь о бл. Доминике, сказав: «Сейчас я вижу бл. Доминика яснее и отчётливее, чем вас, и мне он кажется более настоящим, чем вы», – и поведала о его необыкновенном величии, как будет сказано ниже. При этом случилось так, что брат преподобной девы, также называемый Варфоломеем, проходил мимо, и, заметив тень или звук шагов проходившего, дева чуть-чуть повернула голову и взгляд в его сторону, едва различая, что то её брат, и без малейшего промедления приняла прежнее положение, но вдруг такой плач охватил её душу и тела, что она совершенно смолкла.
[203] Вышеупомянутый брат подождал ещё некоторое время, давая ей наплакаться, и наконец попросил продолжить прерванную речь, но её настолько захватили рыдания и плач, что никакого ответа от неё добиться было невозможно. Наконец, после долгого промедления, она, всхлипывая, с трудом произнесла таковые или подобные слова: «Ох бедная я, несчастная! Кто отомстит за мои беззакония?! Кто накажет грех столь великий?!» А на его вопрос, что то был за грех, и был ли он совершен только что, ответила: «Да разве не видели вы, как сия пребеззаконная женщина в то время, как Бог показывал ей наяву великие дела Свои, отвратила голову и глаза, воззрев на проходившего мимо?!» Тогда он ей: «Ты не отводила взгляда ни на миг, ни даже на мгновение; по крайней мере я ничего такого не заметил». А она: «Если бы вы знали, какой укор я услышала сейчас от Преблаженной Девы, вы тоже оплакивали бы оный грех». И не стала она больше говорить ничего о видении, но она плакала и плакала, пока не добилась таинства исповеди, после чего, плача, удалилась в комнатушку в своём отчем доме, где (как она потом сообщила духовнику) бл. Павел, явившись ей, корил её за потерю того мгновеньица, в которое она отвлеклась, да так сурово, что она, по собственному утверждению, несомненно предпочла бы самым постыдным образом опозориться перед всеми ныне сущими в мире людьми, чем ещё хоть раз пережить тот стыд, который она испытала, когда апостол корил её. Впрочем, возможно, это явление Павла произошло в другое время, как мы недавно обнаружили в некоторых записях. Однако, каков бы ни был порядок свершения событий, несомненно установлено, что блаженный Павел самым суровым образом корил её более за кратчайший миг отвлечения, нежели за потерю времени, от какового укора она смутилась духом, что мы уже говорили. А после того она сказала духовнику: «Представьте, что будет от того обличения, что выскажет Христос на Страшном Суде, коль укор одного из Его апостолов привёл меня в такое смущение». Сказала также, что, если бы не видение некоего милого и прекрасного Агнца, которого она непрерывно видела, пока Апостол говорил с нею, сердце её совсем изнемогло бы (ср. Пс. 72:26) от великого сего смущения. По этой причине, став более осмотрительна и смиренна, она безупречно хранила вверяемые ей великие дары и к большим стремилась с вящим пылом и алканием. А два сии случая я в качестве промежуточных блюд подал тебе, о читатель, к трапезе этой главы ради того, что считаю их замечательным пособием смирения как для совершенных, так и для несовершенных.
[204] Однако, поскольку бл. Доминик чудесным образом призвал меня, недостойного, вступить в свой Орден, дабы я возвещал истину, то, дабы не оказаться неблагодарным к столь милостивому отцу, обойдя молчанием славу его, явленную сей деве, я решил вставить здесь описание упомянутого выше видения, полученного сей девою. Ибо говорит мне вышеназванный брат Варфоломей, который сейчас как раз со мной, что в упомянутый день преподобная дева во время разговора с ним заявила, что прямо сейчас видит в образном видении вышнего и вечного Отца, из уст Своих как бы порождающего совечного Себе Сына, Который, приняв затем человеческое естество, предстал ей открыто. Рассмотрев сие, она увидела, как с другой стороны блаженнейший Патриарх Доминик родился из лона оного Отца, окруженного светом и сиянием; и услышала голос, изошедший из оных уст, различив следующие слова: «Я, пресладостная дщерь, породил сих двух сынов: одного – рождением от природы, другого – усыновлением в любови и приязни». Когда же она чрезвычайно удивилась таковому сравнению и столь высокому уподоблению сего святого, то, дабы устранить недоумения, Тот, Кто произнёс вышесказанные слова, изъяснил их следующим образом.
[205] «Как сей Сын, рождённый от Меня по естеству и в вечности, приняв человеческое естество, был во всём совершенно послушен Мне даже до смерти, так и приёмный Мой сын Доминик от младенчества до конца жизни своей во всём поступал в послушании заповедям моим и ни разу ни одной из них не преступил, ибо соблюл девство тела и души незапятнанными и всегда хранил благодать крещения, коей возродился духовно. И как природный Сын сей, будучи вечным Словом силы моей, открыто говорил миру то, что было предписано Мною Ему, и свидетельствовал об истине, как Он сам говорил Пилату (ср. Ин. 18:37), так и Мой приемный сын Доминик открыто проповедовал истину слов Моих миру как среди католиков, так и среди еретиков, и не только сам, но и через других; не только при жизни, но и через своих преемников, посредством коих доныне проповедует и проповедовать будет. Ибо как Сын Мой природный послал своих учеников, так сей усыновлённый послал своих братьев, а поэтому как мой природный Сын есть Моё Слово, так и сей усыновлённый есть глашатай и носитель Слова Моего – для того и дан был ему и братии его особый дар разуметь истину Слов Моих и не отступать от неё. И как Сын Мой природный жизнь Свою и деяния целиком направил на спасение душ, [служа сему] и научением, и примером, так сын Мой приёмный Доминик неизменно прилагал всё усердие своё и труд на избавление души из тенет как пороков, так и заблуждений. И сие было его главным устремлением, ради чего он основал и выпестовал свой Орден – по ревности о душах. Сего ради и говорю тебе, что он неким образом подобен Сыну Моему природному во всех деяниях своих; и поэтому явлено ныне тебе даже подобие тела его, которое имело много подобия с телом Моего Пресвятого Сына природного и единородного».
В то время как дева излагала сие упомянутому брату Варфоломею, и произошел случай, который выше описывался подробнее. Ну а теперь давайте перейдём к последнему видению и на том положим конец этой главе.
[206] Хочу уведомить тебя, вселюбезный читатель, что благодатные дары и откровения, а также явственнейшие видения наполняли в то время душу сей преподобной девы в таком изобилии и столь [сильное производили на неё действие], что от великой любви стала она совсем изнемогать (ср. Песн. 2:5) да и занедужила. Каковой недуг её усилился до такой меры, что она уже не вставала с постели, и не было у неё никакой другой страсти, кроме лишь любви к Жениху вечному, Коего она постоянно призывала, как безумная, говоря: «Премилый и вселюбезный юноша, сын Божий..!» А иногда добавляла: «И чадо Марии Девы!» И вот, размышляя так и повторяя слова, украшенные цветами любви, она пребывала без сна и телесного пропитания. А Жених, Который послал оный святой огонь, дабы он возгорелся сильнее (ср. Лк. 12:49), являлся ей почти постоянно. Она же, вся как бы пылая пламенем любви, говорила Ему: «Почему, о вселюбящий Господи мой, ты всё ещё позволяешь сему мерзкому тельцу стоять у меня на пути к Твоим объятьям? Я-то сама в сей многобедственной жизни уже совершенно ни в чём не нахожу удовольствия; ничего не ищу, кроме Тебя, и вообще ничего, помимо Тебя, не люблю – ибо что бы я ни любила, люблю лишь из-за Тебя. Зачем же мне ради одного только тела ничтожного лишаться блаженства общения с Тобою?! Ах, милостивейший из господ, выведи мою душу из темницы сей и избавь меня от сего тела смерти! (ср. Рим. 7:24)» На сии и подобные мольбы, не без слёзных воздыханий изливаемые ею, Господь отвечал: «Я, дражайшая дочь, пребывая среди людей, не Мою стремился исполнить волю, а волю Отца Моего; и хотя, как Я засвидетельствовал Своим ученикам, немало желал Я есть с ними последнюю Пасху (ср. Лк. 22:15), но терпеливо держался до срока, Отцом назначенного (Гал. 4:2). Так и тебе подобает терпеливо ожидать срока, Мною назначенного, несмотря на крайнее желание достичь совершенного единения со Мною».
[207] Тогда она сказала: «Коль скоро сие не угодно в очах Твоих, то да будет воля Твоя, однако же изволь услышать, умоляю, единственную просьбочку мою: на тот срок, что Ты определил мне пребывать во плоти, даруй мне участие в страстях, которые Ты претерпел, вплоть до твоих последних страстей, дабы, коль скоро я пока не могу обрести единения с Тобою на небесах, могла бы пребывать в единении со страстями Твоими на земле». На что Господь милостиво согласился, и как сказал Он, так, несомненно, и сделалось. Ибо с тех пор она стала с каждым днем всё более и более ощущать и в сердце, и в целом теле страсти Господа Спасителя, о которых, пережив их однажды, втайне поведала мне. О чём я и расскажу, дабы стало понятнее, что она мне об этом обычно говорила.
Итак, она часто поучала меня о страстях Спасителя, уверенно заявляя, что с мига зачатия Он всегда носил крест в душе Своей по причине преизбыточествующей жажды спасения человека. «Общеизвестно ведь, – молвила она, – что посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус (1 Тим. 2:5) с первого мига зачатия исполнен был благодати, премудрости и любви (ср. Лк. 2:40); и не требовалось впоследствии совершенствоваться в оных Тому, Кто изначально являлся совершенным. Итак, совершеннейше любя Бога и ближнего Своего, но видя, что Бог лишен подобающей чести, а ближний – цели, Он крайне терзался, пока Страстями Своими не воздал честь послушания Богу, а ближнему не вернул возможности спасения».
«И не малою была мука от желания того (см. Лк. 22:15), – продолжала она, – как ведомо испытавшим сие – напротив, то был величайший крест. Потому-то Он и сказал ученикам за вечерею: «очень желал Я…» и т. д., что во время вечери сей даровал им залог спасения, кое собирался свершить, прежде чем снова будет вкушать вместе с ними».
[208] И привела она такое толкование словам, сказанным Спасителем в молитве, какового я, насколько помню, нигде не читал и ни от кого, кроме как от неё, не слышал. Ибо она сказал, что оные слова: «Отче.., пронеси чашу сию мимо Меня» и т. д. (Мк. 14: 36) -совершенные и сильные мужи не должны понимать, подобно страшащимся бессильной смерти, так, будто бы Спаситель просил отвести или отдалить страдания от Него. Ведь поскольку Он от самого зачатия всегда пил, а затем, при приближении часа Своего, со скорбью допил чашу желания спасения человеческого, то Он просил, чтобы поскорее исполнилось то, чего Он так долго с таким томлением жаждал, дабы таким образом чаша, которую Он пил так долго, тотчас же опустошилась – для чего нужно было просить, конечно, не устранения страстей и смерти, а наоборот: их ускорения. Что Сам Господь совершенно ясно выразил, когда сказал Иуде: «Что делаешь, делай скорее» (Ин. 13: 27). И хотя Ему крайне тяжело было пить вышеупомянутую чашу желания, Он, тем не менее, как послушнейший сын, прибавил: «Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42), изъявляя готовность терпеть отсрочку Своего желания, сколько угодно Отцу. Так что, когда Он сказал «Пронеси чашу сию…», под этой чашей, согласно сему толкованию, подразумевалась не чаша предстоящих Страстей, а чаша Страстей нынешних и былых.
[209] Тогда же я сказал, что учители, толкующие этот отрывок, обычно говорят, что Спаситель мира поступил здесь как истинный человек, чья чувственность естественным образом страшилась смерти, и, будучи главою всех избранных, как сильных, так и немощных, подал пример всем, дабы слабые не отчаивались, чувствуя, что чувственность по естеству боится смерти. Она же возразила: «Деяния Спасителя нашего, если вдуматься, так насыщенны [смыслом], что каждый себе в утешение найдёт в них, чем поживиться сообразно с тем, что нужно ему или для его спасения. И коль слабые находят в Его молитве утешение своей слабости, то видится необходимым, чтобы сильные и совершенные тоже могли в ней найти подкрепление своей силе, чего не добиться иначе, как уже высказанным толкованием. Итак, чтобы все могли быть причастны, лучше толковать [слова Спасителя] многими способами, чем только одним для одного лишь вида [человеческого нрава]».
Услышав сие, я смолк, ибо, изумившись дарованным ей премудрости и благодати (ср. Вульг. Деян. 7:10), не находил ответа.
[210] Нашёл я и другое толкование оных слов, читая брата Фому, её первого духовника, который вёл записи её слов и действий. Так, он рассказывает, что в некоем умозрении (abstractione) она узнала, что Спаситель претерпевал печаль и [проливал] кровавый пот, и молитву оную совершал за тех, кто, по предвидению Его, не причастится плода Страстей Его. Но поскольку Он любил справедливость, то присовокупил оговорку: «…Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42). Чего бы Он не стал бы присовокуплять, – отметила она, – если бы все спаслись. Ибо же невозможно, чтобы молитва Сына Божия оказалась бездейственно, что хорошо согласуется со словами Апостола к Евреям, когда он молвит: «Услышан был за Своё благоговение» (Евр. 5:7). Как в общем и толкуют Учители молитву, свершённую в саду [Гефсиманском].
[211] Помимо того она ещё говорила мне и учила, что страсти, каковые Сын Божий и человеческий претерпел в теле Своём ради нашего спасения, не мог бы вынести ни один человек, разве что если бы возможно было ему много раз умереть. Ибо как безмерна любовь, которую Он питал и питает к нам, так безмерны и страсти, которые Он ради любви перенёс по её повелению и под её принуждением. Причём [претерпел Он] не столько [мук], сколько могла бы причинить природа вещей и злоба мучителей, но гораздо больше. Ибо кто бы поверил, что шипы пронзают череп до самого мозга? Или что у живого человека можно выворачивать кости из суставов? Написано ведь: «Сосчитали все кости мои» (Пс. 21:18. – пер. П. Юнгерова). Но поскольку любовь, ради коей одной Он претерпел всё это, была величайшей (ср. Ин. 15:13), то и муки Он себе измыслил величайшие, в коих она проявилась для нас в совершенстве. Ибо сие и было одной из главных причин оных Страстей, а именно проявление совершеннейшей Его к нам любви, которую невозможно показать сообразнее. Ведь не гвозди держали Его на кресте, а любовь. И не силы человеческие победили Его, но собственная любовь победила Его. Да и как могли бы победить Его, коль от одного слова Его все пали на землю? (ср. Ин. 18:6)
[212] Сии и подобные слова, преисполненные глубочайшей мудрости и красоты, говорила о страстях Господа Спасителя благоразумнейшая дева и прибавила, что сама в собственном теле испытала частично каждую из страстей Господних, поскольку в полноте испытать их, считала она, невозможно. И добавила, что наибольшая мука, каковую Спаситель претерпел на кресте, была в груди – из-за расторжения грудных костей. В подтверждение или ознаменование сего она сказала, что прочие боли в её теле прошли, и только эта осталась. Отчего, хотя она ежедневно страдала от непрекращающихся колик и головных болей, говорила, что та боль была сильнее из-за близости к сердцу её, [а значит], представлялось ей вполне вероятным, и сердцу Господа Спасителя [было так же больно]. Поскольку ведь кости эти, как видно, по природе устроены для защиты сердца и легких, их разрушение не может произойти без причинения сердцу крайне мучительного страдания, и в другом случае, не свершись немедленно чуда, такое повреждение наверняка должно было привести к смерти.
Как бы то ни было, возвратимся к самой деве сей. После того как в её теле свершились оные страсти, длившиеся много дней, телесные силы, конечно, убыли, любовь же сердечная многократно прибавилась. Ибо же она ощутимо испытала на собственном опыте, как сильно Спаситель возлюбил её и весь род человеческий, коль претерпел Он столь жуткие страсти, отчего сердце обуяло такое умиление и любовь, что оное чудом осталось в целости, а не разорвалось полностью. Ибо так бывает, когда в сосуде находится жидкость под большим давлением или почти до крайности сжатая, что ёмкость разрывается под напором содержимого, и сдерживаемое давление, прорвав препятствие, изливается, поскольку вместилище оказалось несоразмерно вмещаемому.
[213] Чего уж там скрывать! Такова была сила любви её, что сердце девы раздралось сверху донизу (ср. Мк. 15:38) – то есть от одного конца до другого; и таким образом, когда лопнули жизненно важные вены, она скончалась именно от пыла божественной любви, а не в силу какой-либо другой естественной причины. Дивишься, читатель? Но да будет тебе ведомо, что свидетелей сему было множество и что доныне живы мужи и жёны, присутствовавшие при кончине её, из первых уст коих я и узнал о том (имена их будут приведены ниже).
А тогда я всё ещё сомневался и, подступив к ней, стал настоятельно выспрашивать, что она при сем чувствует, и умолял её сказать мне об том всю правду. Она же, разразившись слёзными рыданиями, долго медлила, прежде чем дать мне ответ. Наконец, после некоторой задержки молвила: «Разве не почувствовали бы вы сострадание, отче, к душе, которая, освободившись из мрачной темницы и увидев долгожданный свет, снова была бы заключена в прежнем мраке? Так вот, я и есть та несчастная, с кем сие приключилось по устроению провидения Божия за мои прегрешения!» Услыхав сие, я ещё горячее взалкал разведать от начала до конца истину о том чудесном событии, что она излагала, по каковой причине продолжил: «Неужто, матушка, и вправду душа твоя отделялась от тела?» А она мне на то: «Таков был огонь божественной любви и желания единения с Тем, Кого я любила, что, будь сердце каменным или железным, всё равно оно разорвалось бы и разверзлось. Ни в чём из сотворенного, насколько могу судить, не нашлось бы такой силы, чтобы сердце моё сохранить в целости от столь великого напора любви. Посему можете быть уверены, что сердце в сем тельце разорвалось сверху донизу просто силою любви и полностью разверзлось, так что мне кажется, что я всё ещё чувствую раны (stigmata) этого разрыва прямо в теле (из чего вы можете сделать ясный вывод, что душа совершенно отделилась от тела). И я видела сокровенные тайны Божии, о которых нельзя говорить никому из живых (viatori), потому ни память не сильна достаточно, ни слова человеческие не способны сообразно выразить столь высоких сущностей, а потому, что бы я ни сказала, всё будет как грязь в сравнении с золотом. Сие, однако, осталось со мною, а потому всякий раз, как слышу разговоры об этом, так сильно страдаю, сознавая, как низко опустилась я от оного преславного состояния до сего нижайшего, что скорбь свою не могу выразить иначе, как слезами и рыданиями».
[214] Когда же я услыхал сие, то, жаждая узнать подробности свершившегося, сказал: «Заклинаю, матушка моя, раз уж ты открываешь мне другие свои тайны, не скрывай от меня и этой, но изволь поведать историю столь чудесного события». «Я, – молвила она – в те дни, после многих видений, как духовных, так и телесных, после неисчислимых духовных утешений, полученных от Господа, от одной лишь любови к Нему слегла в изнеможении в постель, где не прекращала молиться Ему, прося извлечь меня из сего тела смерти, дабы я могла достичь более совершенного единения с Ним. Поскольку же я тогда ещё не могла сего обрести, умолила Его в итоге приобщить меня насколько возможно Страстям Своим», – и она поведала мне о Страстях Спасителя то, что я пространнее изложил немного выше. А потом прибавила: «Через испытанный опыт Страстей Его я явственнее и полнее осознала, как сильно возлюбил меня Создатель мой, и изнемогла я от прилива любви (ср. Песн. 2:5), притом так, что душа моя вообще ни к чему не стремилась, кроме исхода из тела. Что ж ещё сказать? Благодаря сему огонь, который Он послал в сердце моё, с каждым днём разгорался все сильнее, отчего плотское сердце не выдержало, а та любовь стала крепка, как смерть… (ср. Песн. 8:6). А когда разорвалось сердце моё, как я говорила, душа моя разрешилась от сей плоти – но, увы, лишь на краткое время!» Тогда я: «Как долго, матушка, душа твоя пробыла вне тела?» А она: «Наблюдавшие мои похороны говорят, что между моею кончиной и моим воскресением прошло четыре часа, и что уже сошлось большинство соседей, чтобы утешить мою мать и других причастных, но моя душа, думая, что уже вступила в вечность, не помышляла о времени».
[215] Я же ей на то: «Что ты увидела за это время, матушка моя? И почему возвратилась в тело душа твоя? Умоляю ничего от меня не скрывать!» А она сказала: «Да будет вам ведомо, отче, что душа моя видела и понимала всё, что есть в ином, невидимом для нас мире, а именно славу святых и муки грешников. Но, как я говорила, ни память ныне не вмещает, ни слов не достаточно, чтобы выразить всё. Однако же расскажу вам всё, что смогу. Итак, будьте уверены, что душа моя увидела Божественную сущность – сие и есть причина того, что так невмоготу мне томиться в этой темнице тела; и если бы не связывала меня любовь к Нему и любовь к ближнему, ради коей Он и отправил меня обратно в тело, я просто исчахла бы от тоски. Величайшим же утешением для меня бывает пострадать от какого-нибудь зла, ибо знаю, что через оное страдание я обрету ещё более совершенное видение Бога. По каковой причине скорби не только не тяжки для меня, но и приятны духу моему, в чём вы и другие, кто общается со мною, можете каждый день убедиться. Видела я также муки как проклятых, так и тех, кто находится в чистилище, и их невозможно в совершенстве описать никакими словами. И если бы несчастнейшие из людей увидали бы хоть одну наималейшую из мук оных, они скорее предпочли бы претерпеть десять телесных смертей, если бы это было возможно, чем оную наималейшую муку в течение дня. Особенно же, видела я, мучились те, кто согрешил в браке, не соблюдая его как должно, ибо искали они удовольствий для своей похоти». В ответ же на мой вопрос, почему этот грех, который не тяжелее других, так сурово наказуем, она ответила, что о нём грешники не испытывали таких упрёков совести, а следовательно, не имели и такого сокрушения, как о других. И добавила: «Как бы мала ни была провинность, она становится чрезвычайно пагубною, коль совершивший не постарается избавиться от неё покаянием».
[216] Затем в продолжение сказанного она молвила: «Когда душа моя взирала на всё сие, Вечный жених, Коего уповала я обрести в полноте, рек душе моей: «Видишь, как обесславлены и как наказуемы оскорбляющие Меня? Итак, вернись и поведай им о заблуждениях их, а также о суде и каре». Поскольку же душа моя чрезвычайно страшилась сего возвращения, Господь добавил: «Спасение многих душ требует, чтобы ты вернулась, и ты не будешь держаться того образа жизни, которого придерживалась до сих пор, и не будешь в дальнейшем обитать в келье; наоборот, тебе будет необходимо выйти в город свой ради спасения душ. Я же всегда буду с тобою (ср. Исх. 3:12), и поведу и возвращу тебя (ср. Вульг. Тов. 5:15), и понесешь честь имени Моего и духовные поучения пред малыми и великими, как духовного звания и иноческого, так и мирского, ибо Я дам тебе уста и мудрость, которым никто не сможет противостоять (ср. Лк. 21:15). Поставлю тебя также пред архиереями и главами церквей да перед народом христианским, ибо хочу, как и прежде, с помощью слабой женщины посрамить гордость сильных». И пока Он сие и подобное духовно или умственно вещал душе моей, оказалось, что она непостижимым образом (как – не знаю) вдруг возвратилась в тело. Едва же сама душа моя сие осознала, её сразила столь нестерпимая скорбь, что три дня и столько же ночей я провела в беспрерывном и постоянном плаче, и всякий раз, когда мне сие вспоминается, я не могу удерживаться от такого же плача. И сие не удивительно, отче, напротив, куда удивительнее то, что сердце мое не разрывается от скорби каждый день вновь и вновь, вспоминая, сколь великою славой я тогда обладала, и как ныне она от меня, увы, далека. Всё ж сие произошло со мною ради спасения ближних. Так что, пускай никто не удивляется тому, что я чрезмерно люблю тех мужей и жён, которых Всевышний поручил мне увещевать и обращать от зла к добру, ведь я купила их немалой ценою (ср. 1 Кор. 6:20), ибо ради них я была отлучена от Господа (ср. Рим. 9:3) и отстранена от славы Его на время, для меня всё еще не известное. Оттого, как сказал бл. Павел, они суть слава моя, и венец мой, и радость моя (ср. Флп. 4: 1)».
«Сие, – молвила она, – я говорю вам, чтобы удалить из сердца вашего страсть, страдающие которой ропщут на то, что я стала так по-свойски вести себя со всеми».
[217] Услышав и уразумев сие по благодати, данной мне, я, поразмыслив в сердце своём, решил, что по причине слепоты и неверия самовлюблённых людей нынешнего времени сие не подобает возвещать всем. По этой причине я наказал моим братьям и сёстрам никоим образом не распространять таковые [откровения], пока она была жива. Пришли мне на ум также некоторые, что прежде следовали её наставлениям, но услышав сие, отошли, будучи не в силах вместить слова (ср. Ин. 6: 66, 60). Но поскольку ныне она в раю и до всеобщего воскресения не возвратится, уже восхищена и течение сей хрупкой жизни завершилось, я подумал, что сие необходимо открыть, дабы не сокрылся по моему нерадению дар божественной милости и чудо, столь огромное и явное. Кроме того, чтобы ты понял, читатель, как ясно явила Божественная сила, что всё было именно так, знай, что когда приближался час вышеупомянутой кончины, окружавшие её сподвижницы и дочери её в Господе позвали духовника её брата Фому, называемого де Фонте, о котором часто упоминалось выше, дабы по обычаю стал он рядом с отходящей и молитвами вверял отходящую душу Господу. Он же, взяв с собою некоего брата, называемого братом Фомою Антони, поспешно пришёл и стал молиться. Когда о том услыхал другой брат, называемый братом Варфоломеем Монтуччи, он, взяв с собою брата-конверса Иоанна из Сиены, который как раз сейчас находится в городе, также поспешил явиться. Сии четыре брата, кои все дожили доныне и живы, стояли подле отходившей преподобной в великой скорби.
[218] Но в то время как она была при последнем издыхании, упомянутый брат-конверс Иоанн был поражен такой скорбью сердечною, что от неистового плача и воя у него в груди лопнула вена и совершенно разверзлась, так что от неудержимого кашля, как бывает в таких случаях, он из уст своих раз за разом испускал большие сгустки свернувшейся крови и, вероятно, имел основания опасаться сердечного приступа или неизлечимой болезни. Таким образом, у присутствующих к одной скорби добавляется другая. Пока же всё это происходило, брат Фома, духовник девы, с великой верой сказал брату Иоанну: «Я убеждён, что сия дева имеет великие заслуги перед Богом, поэтому возложи руку её священных останков на место, что причиняет тебе столь ужасные муки, и несомненно исцелеешь». Что тот на глазах у всех присутствующих исполнив, тут же исцелел так полно, будто никогда и не тяготила его та мука. Сие названный брат Иоанн доселе рассказывает всем желающим слушать, а когда требуется, даже подтверждает сказанное присягой.
Ещё помимо названных выше братьев при упомянутой кончине присутствовала некая сподвижница Екатерины и дочь её в Господе, которую звали Алессия и которая уже пребывает, как я твердо верю, с нею на небесах, ибо недолго прожила она после преставления девы. Покойную же саму деву видели почти все соседи, а тем более толпа знакомых обоего пола, сошедшихся, как обычно бывает в таких случаях, – и ни у кого из них не возникло сомнения в том, что она окончательно преставилась от сего света. Кроме того, свидетельницами парения или поднятия тела, о чём говорилось выше в начале этой главы, были несколько сестёр покаяния бл. Доминика, а именно Екатерина, дочь некоего Теччи из Сиены, которая долгое время была её неотлучною спутницей, а также, если мне не изменяет память, её родственница Лиза, которая доселе жива, да вышеупомянутая Алессия.
[ГЛ. VII]
[219] Очень хочу я, читатель, дабы у тебя отнюдь не было сомнений в том, что если бы я попытался рассказать только о тех чудесах, которые Господь сотворил через сию преподобную деву после того, как я удостоился знакомства с нею, из которых я большую часть восприял собственными чувствами, то мне пришлось бы написать не только одну главу, но множество томов. Однако, чтобы не утомлять читающих, я сколько только можно свёл к объёму одной главы, дабы из увиденного ты смог судить о том, каково то, что я ныне ради краткости обойду молчанием. Затем, насколько дух превосходит тело, настолько же чудеса превосходят чудеса, свершаемые с телом, а поэтому я решил в первую очередь описать то, что Господь соделал через неё для избавления душ, а уж следом то, что было целительно для тел ближних.
Хотя при написании этих сего, я, насколько то подобает, и соблюдаю временной порядок, однако всюду я соблюсти его не в силах, поскольку из-за уже упомянутого разделения мне подобает описывать чудо избавления духа, сотворённое позднее, прежде телесного чуда, совершённого раньше, так чтобы достойнейшие предшествовали менее достойным в надлежащем порядке. Помимо того, хотя я намерен придерживаться такого порядка, однако во каждом из разделов, я постараюсь в меру возможности сохранить временной порядок. Правда, некоторые из этих чудес, и особенно духовные, были так неведомы людям и сокровенны, что о них не было иного свидетельства, кроме признания о них мне или другому [духовнику], но и они не лишены ясных признаков, которые достаточны для убеждения верных и набожных людей.
[220] Итак, я хочу, дабы знал ты, преискушённый читатель, что Якопо, природный родитель сей преподобной девы после того, как обнаружил, что дочь его искренне служит Всемогущему Господу (о чём было упомянуто в первой части), неизменно относился к ней с почтением и любовью, строго наказывая всем в семье, дабы никто не смел хоть как-то мешать деве Екатерине, дочери его, творить всё, что ей угодно. Посему с каждым днём всё более и более возрастала любовь между отцом и дочерью, и она непрестанно молитвенно предстательствовала о спасении отца пред Господом, а он ликовал в Господе о добродетелях дочери своей, а также надеялся стяжать у Бога спасения себе по заступничеству её и мольбам.
Между тем завершились дни сей преходящей жизни Якопо, и он слёг в постель, отягчённый телесной болезнью. Как только дочь узнала о том, она тут же обратилась к своему обычному прибежищу – молитве - и взмолилась Жениху своему о выздоровлении отца. Ответом на молитву было то, что, мол, срок телесной жизни Якопо подошёл к концу, и не на пользу ему пойдёт продление его. Тогда она лично проведала родителя и, внимательно изучив расположение сердца его, нашла, что его душа его готова к преставлению и не сдерживает её привязанность к сей жизни, – за что она воздала огромную благодарность своему Спасителю.
[221] Но не вполне довольствуясь сим даром, она вновь собралась духом умолить Господа, дабы уделил Он родителю её и кормильцу такую благодать, чтобы тот благостно оставил сию жизнь, не обременённый провинностями, то есть дабы Источник всяческой благодати соблаговолил прибавить [к Своим дарам] ещё один, позволив [отцу] воспарить к славе, минуя муки чистилища. На что ответ был таков: «Нужно, чтобы справедливость была соблюдена хоть в чём-нибудь, и невозможно, чтобы душа, не очищенная до конца, обрела сияние столь великой славы». «Ибо, хотя родитель твой, – молвил Господь, – по сравнению с другими, состоявшими в браке, прожил добрую жизнь и сотворил много угодного Мне, а в особенности то, что он сделал для тебя, однако же при соблюдении правосудия невозможно спасти его душу иначе, как чрез огонь, ибо на душе его осела и затвердела пыль земных привычек». А она на то: «Господи прелюбезный, каким образом вынести мне, что душа того, кто по милости Твоей породил меня, и усердно вскормил, и воспитал, и так утешал меня в течение своей жизни, хоть миг будет охвачена оным жутким пламенем? Посему заклинаю и умоляю Тебя всей Твоей благостью: не попусти душе оной покинуть тело, пока она так или иначе не очистится до конца, чтобы нисколько не нуждаться в огне чистилищном». Дивное дело: Господь Бог в каком-то смысле послушался слова человеческого и пожелания, и хотя телесные силы Якопо совершенно иссякли, душа его не оставила тела, пока не окончился долго длившийся святой и благочестивый спор, в коем Господь настаивал на правосудии, а дева требовала милости. Наконец после многих [препирательств], дева заключила: «Если невозможно оказать сию милость иначе как с соблюдением какого-то правосудия, тогда пусть оное правосудие свершится на мне, поскольку я готова понести за родителя моего все наказания, кои определила благость Твоя. На что Господь, согласившись, молвил: «Вот, ради любви, которую ты безраздельно питаешь ко Мне, Я принимаю твою просьбу и освобожу душу природного твоего родителя от наказания целиком и полностью. Но ты будешь терпеть наказание, которое Я тебе назначу, до конца жизни!» Радостно приняв сие, Екатерина промолвила: «Хорошо ты говоришь (1 Цар. 9:10), Господи; да будет так, как Ты повелел».
[222] После сего она подошла к постели своего находившегося при смерти отца и утешила его, дивно порадовав [вестью] о совершенном спасении, дарованном Всевышним. И не отходила от него, пока не убедилась, что он окончательно преставился. Короче говоря, в то же мгновение, как душа его покинула тело, у девы начались колики, которые не прекращались до конца её жизни; и не было такой поры, чтобы она хоть как-то не чувствовала оных болей, о чём как она, так и её окружающие свидетельствовали мне сотни раз, да проявляла она совершенно явно признаки боли при мне и других, кто общался с нею. Притом, как ниже будет, коли даст Господь, описано, её добродетель долготерпения не шла вровень страданиям, а скорее уж несравненно превосходила их. Ну а всё сие вышенаписанное дева сама сообщила мне тайно, когда я, сострадая вышеназванным её болям, стал расспрашивать её о причинах столь тяжкой болезни.
Но не должно мне умолчать и о том, что при последнем издыхании Якопо преподобная дева выказала скромной улыбкою великую радость, сказав: «Благословен Господь, вот бы и со мною было так, как с вами!» И не могла во время погребальной службы, когда все плакали, выказать иных чувств, помимо веселия и радости. Утешала же при том мать и других, как будто эти похороны вовсе не касались её. Ибо она видела, как душа, выйдя из телесной тьмы, тотчас же без промедления вошла в вечный свет, отчего Екатерина исполнилась неизреченной радости, скорее всего, потому, что незадолго до этого и сама испытала, что значит войти в оный свет, как было сказано в предыдущей главе. Ну а боли оные приняла с радостью, зная, что они помогут ей снискать для него высшую славу.
[223] Ты видишь, читатель, как премудро действовало здесь Божественное провидение? Ведь [Господь], несомненно, мог бы очистить ту душу многими способами и соделать её пригодной для вхождения во славу, что Он и в самом деле сделал с душой разбойника, исповедавшего Его на кресте, но он не изволил свершить сего, предав телесным мукам деву, просившую о том, – не во зло, а на возрастание духовного блага оной девы. Ибо же достойно было, чтобы дева, возлюбившая с такой силою душу отца своего, нечто приобрела от этой любви, а поскольку она возлюбила спасение его души больше, чем здравие тела, то и сама спасение собственной души довершила через муку телесную. По этой причине она всегда называла те боли сладостными, и не без причины, ведь знала она, что от тех болей постоянно прибавляется сладость благодати, коей она удостоится здесь [на земле], и слава, которою будет вознаграждена в [веке] будущем, а потому только сладостными она и могла их назвать. Поведала мне втайне преподобная сия дева, что после смерти названного Якопо в течение долгого времени дух его, то есть Якопо, почти постоянно являлся ей, благодаря за благодать, которую обрёл по её предстательству, и открывая ей многие тайны, а также предостерегая ее от козней вражьих, да и охраняя её от всяких зол.
[224] Что ж, ты выслушал сие о душе праведника... Внемли же ныне, ради всего святого, что произошло с душой грешника. Был в то время, а именно в год Господень 1370-й, в городе Сиене некий гражданин по имени Андреа Наддини, преходящими и внешними вещами богатый, но зато благами вечными и внутренними напрочь обделённый. Без какой-либо поддержки страхом Божиим либо любовью, он был опутан тенетами почти всех грехов и пороков. Притом он был всецело привержен игре в кости, постоянно и чрезвычайно гнусно хулил Бога и святых. Когда в упомянутом выше году ему исполнилось сорок лет, он в декабре месяце, охваченный тяжкой телесной болезнью, слёг в постель и после безуспешных попыток врачей помочь ему был близок к смерти как тела, так и души – по нераскаянности сердечной. Проведав о том, пришёл к нему его священник и стал увещевать, чтобы прежде окончания телесной жизни покаялся в содеянном и отдал распоряжения по дому, как обычно делают. А он, никогда в своей жизни ни в церковь не ходив, ни священников не уважав, совершенно презрел увещателя и увещания. Жена же его и родственники, находившиеся при нём, движимые ревностью о спасении его, посылали за многими монашествующими и боголюбивыми особами обоего пола, дабы переубедили они упорствующий ум его. Но никто из увещателей ни угрозами вечного огня, ни посулами божественного милосердия не смог склонить его к исповеданию грехов, и сходил он во ад, ничего с собой не неся, кроме грехов. Его приходской священник, снова с болью воззрев на сие, устрашился приближающейся смерти и, в утренний час вновь явившись к нему, повторил прежние увещания и много присовокупил. Но оный несчастный, как поначалу [презрел], так и под конец отвратился от говорящего и слов его. Короче говоря, находясь в плену у окончательной нераскаянности, он вновь и вновь совершал грех против Святого Духа, который не прощается ни в сем веке, ни в будущем (ср. Мф. 12:32), а потому совершенно справедливо сходил в область нескончаемых мук.
[225] Сие стало известно брату Фоме, духовнику девы, многократно упомянутому выше. Он, сострадая погибели того человека, поспешил в дом оной девы, намереваясь понудить её как посредством послушания, так и любви к ближнему непрестанно молиться Господу, чтобы соблаговолил Он милосердно помочь несчастной душе оной, да не погибнет навеки. Но когда он прибыл к ней домой, то обнаружил, что дева пребывала вне чувств, а значит, не подобало её до поры отвлекать от сокровенных созерцаний. Посему, не имея возможности ни заговорить с ней, ни – по причине приближения ночи – ждать долее, он строго повелел некой сподвижнице её, девице, которую тоже Екатериной звали и зовут (ибо она ещё жива), чтобы, когда дева Господня придёт в чувства, она подробно описала ей плачевный случай и его просьбу. Приняв сие смиренно, она пообещала передать деве что велено, как и поступила. Преподобная дева пребывала в созерцании своём до пятого часа вечера, но как только она возвратилась к своим внешним телесным чувствам, Екатерина сообщила Екатерине всё, что велел духовник, и ради святого послушания обязал её со всем настоянием молить Господа за оную душу. Выслушав сие, она вспыхнула пламенем любви и сострадания и тотчас же принялась молить Господа и вопиять пред Ним во весь голос души своей, прося ни в коем случае не допустить гибели ближнего её, согражданина её и брата её (ср. Пс. 54:14), который тоже был искуплен ценою столь драгоценной Крови.
[226] На что Господь ответил ей: «Его беззакония уже достигли небес, ибо он ужасный богохульник». «Ибо он не только хулил устами своими, – молвил Господь, – Меня и Святых Моих, но и вверг в огонь доску, на которой было изображение Моё, Пресвятой Матери Моей и других Святых Моих. Поэтому заслуживает он гореть в вечном огне. Оставь его, дражайшая, ибо он заслуживает смерти». А она, со слезами пав к ногам милейшего своего Жениха, сказала: «Если Ты, прелюбезнейший Господи, изволишь замечать беззакония наши, кто избежит вечного проклятия? (ср. Пс. 129:3) Неужто сошёл Ты в утробу Девы и перенёс жесточайшую смертную кару, чтобы, заметив беззакония наши, наказать их? Или всё-таки ради того, чтобы их уничтожить? Что Ты мне рассказываешь о грехах пропащего человека, коли Сам на святейших Своих плечах понёс все прегрешения? Или, быть может, я пришла доказывать Тебе, что он праведен, а не просить Твоей милости? Вспомни, Господи, что Ты сказал мне, когда выразил желание вверить мне заботу о спасении душ! Для меня-то самой нет здесь иного отдохновения, кроме как видеть обращение ближних моих к Тебе, и только ради сего я терпеливо сношу Твоё отсутствие. Если ты не подашь мне сей радости, что мне, несчастной, делать? Не отринь меня, кротчайший Господи! Верни мне брата моего, поглощаемого преисподней из-за упрямства сердечного!» К чему множить слова? С пятого часа вечера и вплоть до зари она оставалась без сна и, вся в слезах, спорила с Господом о спасении оной души: Господь перечислял множества его тягчайших прегрешений, за которые правосудие требовало мести, а дева призывала в защиту Его милосердие, из коего Он воплотился и пострадал, а также данное ей Им обещание о спасении многих душ. Но наконец милосердие Господне восторжествовало над делами, а неисчерпаемый источник милосердия – над правосудием. И молвил Он деве: «Дщерь милейшая, вот, я принял лицо твое (ср. Иов. 42: 9) и немедля обращу того, за кого ты так горячо просишь».
[227] В тот же час болящему Андреа явился Господь и сказал: «Почему ты, дражайший, не желаешь исповедаться в оскорблениях, кои нанёс Мне? Исповедайся-ка во всём, ибо Я готов полностью простить тебе провинности твои». На сии слова упрямое сердце совершенно смягчилось, так что Андреа воззвал громким голосом к слугам своим: «Пошлите за священником и приведите его – хочу исповедать грехи мои, ибо вижу Иисуса Христа, Господа и Спасителя, Который увещевает меня исповедоваться в грехах моих». Окружающие же, с радостью сие услыхав, поспешно послали за священником. Когда тот пришёл, грешник совершенно исповедался с великой притом скорбью сердечной и завещание составил самым тщательным образом, да с великим сокрушением и благоговением преставился от сего света ко Господу. О Отче неизреченного милосердия, как безмерна милость Твоя, как глубоки промыслы Твои, и никак не исследовать нам пути Твои! Ты позволил тому человеку коснеть в грехах своих до последнего и, казалось, не имел о нём никакого попечения, а между тем непрестанно заботился о том, как бы его исцелить. Приходили слуги Твои и служанки к нему и ничего спасительного, казалось, не предлагали, и Ты вложил в сердце духовника сей преподобной девы мысль поручить сие ей, а сердце девичье воспламенил надеждою победить Тебя, непобедимого, смиренными слезами и словно бы связать Тебя, всемогущего. А кто пробудил в ней сие дерзновение пылкого сердца, как не Ты? Кто вложил в душу её огонь братского сострадания? Кто одарил теми слезами, призывающими Тебя к милости? Кто, повторюсь, как не Ты? Ты возвёл к невесту Свою к Себе, дабы она склонила Тебя к себе. Твои сие дела, Иисусе Христе, так прославляющий святых Своих! Дабы явить, сколь велики пред Тобою заслуги девственной сей священной невесты, ты явил ей погибель сего неизвестного ей человека (впрочем христианина и согражданина), коему Ты никак иначе помочь не желал, кроме того, что позволил ходатайствовать за него пред Тобою невесте – той, которую Ты предызбрал. Так как же не привязаться к Тебе узами любви?
Ты увидел, читатель, великое милосердие Бога нашего к одному грешнику, избавленному по заступничеству сей девы. Но воззри на ещё большее милосердие к двоим, что были уже неким образом осуждены.
[228] Случилось о ту пору в упомянутом городе Сиене, что два отъявленных злодея, схваченные судебным приставом, по причине своих огромных преступлений были приговорены к жесточайшей смерти. Итак, их посадили на телеги, привязав к кольям, а палачи ранили их тела раскалёнными клещами сиречь щипцами то в один член, то в другой, нанося сильные ожоги. Ни в темнице, ни после того, как их вывели оттуда на оную казнь, никто не мог побудить их ни к покаянию за свершённое, ни к таинству исповеди грехов какому-нибудь священнику; мало того, в то время как их по обычаю водили по городу для острастки другим, они не вверяли себя молитвам верных, а наоборот, в открытую хулили Бога и святых, и так несчастные влеклись от временных наказаний и огня к огню вечному и наказаниям нескончаемым.
Но тут оная вечная Благость, которая никому не желает погибнуть и которая дважды не наказывает за одно и то же, помыслила избавить оные души несчастные от бездны адской с помощью преподобной девы, невесты своей. Ибо по устроению Божественного промысла случилось так, что в тот день преподобная дева, взыскуя большей тишины, пришла в гости к одной из дочерей своих в Господе и сподвижнице, которая называлась Алессией и ныне царствует с нею на небесах. Дом её располагался на одной из улиц упомянутого города, по которым обычно проходили такого рода осуждённые. Когда же тем утром Алессия услышала доносившийся снаружи шум взволнованных толп, она, тут же подойдя к окну и выглянув из него, мельком увидела вдали тех несчастных, ехавших на телегах и вышесказанным образом палачами обжигаемых. И подбежав к деве, она сказала: «О матушка моя, какое жалостное зрелище ныне пред дверью дома нашего!» «Двух, – добавила она, – человек, осуждённых на казнь щипцами, провозят мимо на телегах».
[229] Услышав сие, преподобная дева, ведомая не любопытством, а состраданием, подошла к вышеупомянутому окну и, увидев оных несчастных, отпрянула чуть ли не в мгновение ока и прибегла к молитве, ибо увидела, как призналась мне втайне, вокруг каждого из них огромное скопище злых духов, которые изнутри жгли их души гораздо сильнее, чем палачи – плоть снаружи. Посему, движимая удвоенным состраданием, она с поспешностью обратилась к прибежищу молитвы, в коей не менее поспешно понудила Жениха своего милосердного спасти души погибающих оных. «Ах! – молвила она, – всемилостивый Господи, отчего Ты так презираешь творение Своё, по Твоему образу и подобию созданное и милостиво искуплённое Твоей драгоценнейшей Кровью, что в добавок к стольким мукам телесным их так жестоко и гнусно терзают нечистые духи? Ты просветил того разбойника, который был распят вместе с Тобою, – хотя он получил по заслугам, – да так обильно, что в то время, когда апостолы сомневались, он открыто исповедал Тебя на кресте и заслужил услышать оный глас: «…Ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43) – а на что это, как не на то, что Ты даешь надежду на прощение таким, как он? Ты Петра, отрекшегося от Тебя, не презрел, но взглянул на него милосердно; не побрезговал Ты Мариею грешной, но привлёк к Себе; Ты не оттолкнул ни Матфея мытаря, ни хананеянку, ни Закхея, начальника мытарей, но напротив – призвал к Себе. Итак, всем Твоим милосердием заклинаю Тебя как можно скорее прийти на помощь душам оным!»
Что уж там… Она убедила Того, кто желал быть убеждён, и открытый источник милосердия чудесным образом склонила [пощадить] оных несчастных, ибо ей была уделена благодать идти с ними в духе, и она сопровождала их неотлучно до самых городских ворот, непрерывно плача о них и молясь о том, чтобы смягчились и обратились сердца их. Бесы, видя сие, громогласно кричали на неё, говоря: «Если не отступишься, мы устроим так, чтобы их души вместе с нашими одержали тебя– станешь бесноватой!» На что она ответила им: «Чего желает Бог, того и я желаю; несмотря на эту [угрозу] я не отступлюсь от начатого!»
[230] Когда же они были у ворот города, явился несчастным премилосердный Спаситель, весь израненный, обливающийся кровью, призывая их к обращению и обещая прощение, отчего луч божественного света проник в сердца их, и они стали с великой настойчивостью просить священника и исповедовали грехи свои с немалым сокрушением. После чего они сменили богохульства на похвалы и, непрестанно обвиняя и самих себя и провозглашая себя достойными оных и ещё больших наказаний, шествовали на казнь в величайшей радости, словно бы званные на пир. И хотя палачи обжигали их, они с тем же постоянством, как прежде богохульствовали, да и с удвоенной силою воспевали хвалу Спасителю и с упованием возглашали, что через оные муки достигнут вечной славы и что великая милость оказана им посредством мук оных. Наблюдая сие, окружающие были чрезвычайно изумлены столь разительной переменой, так что даже сами палачи умилились в сердце и не смели наносить им новых ран, видя таковое благоговение. Никто, однако же, не знал, откуда произошло сие изменение десницы Всевышнего Спасителя (ср. Пс. 76:11) и кто предстательствовал пред Богом за оные столь ожесточившиеся души. Но некий благочестивый священник, который сопровождал их, надеясь отвратить от столь жёсткого упрямства, впоследствии подтвердил всё сие под присягой брату Фоме, духовнику девы сей преподобный, который, расспросив упомянутую Алессию, выяснил, что в тот час, когда преподобная дева окончила свою молитву и пришла в себя, они испустили дух. Что потом он ещё подробнее узнал втайне от самой девы: она поведала ему всё вышеописанное по порядку, что я и обнаружил в записях брата Фомы. Где ещё дополнительно сказано, что в течение нескольких дней по кончине названных злодеев сподвижницы преподобной девы слышали, как она говорила на молитве: «Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты избавил их от второй темницы». Когда ж названный брат Фома о том услыхал, он спросил её, что она имела ввиду. На сие она ответила, что души тех разбойников уже во славе райской. Ведь хотя они и попали по преставлении в чистилище, она всё же вымолила тогда полное для них избавление.
[231] Возможно, поскольку сии [чудеса] свершились незримо, они покажутся тебе, читатель, незначительными, но если ты вникнешь в речения Августина и Григория (Великого, папы. – прим. пер.), то обнаружишь, что то было большее чудо, чем если бы они были восставлены после смерти. И, говоря словами Григория: «В воскресении телесном восставлена была бы плоть, чтобы снова умереть, а в сем восставлена душа, дабы жить вечно». И ещё: «При воскрешении тела Божественное могущество не имеет препятствия, но при воскресении души благодаря данному ей закону свободной воли оно встречает препятствие своего рода, так как грешник может не пожелать обратиться; почему и говорится, что обращение грешника превосходит даже сотворение мира в проявлении Божественного могущества». Недаром повествуют о св. Мартине, что силою божественной Троицы он удостоился славы восставить трёх мертвых. Также написано о св. Николае, что он чудесным образом избавил троих невинно осужденных на смерть, и то вызвало великую молву. Что же сказать о нашей современнице, деве Екатерине, которая двоих преступнейших мужей, причём мертвых душой и обречённых на смерть вечную, почти полностью восставила своими молитвами как внезапно, так и чудесно, да избавила их от огня вечного? Разве это не больше и не чудеснее всего вышеперечисленного? Поверь мне, читатель, я лично видел собственными глазами множество дивных чудес, свершившихся чрез сию преподобную деву с разными телами, но все их считаю ничем по сравнению с этим, ибо здесь чрезвычайно мощно проявилось достоинство Всевышнего, и чрезвычайно щедро оросил Он миро благодати Своей, ведь тут людей, приверженных всякому нечестию, упорствовавших в своём нечестии прежде и потом почти до самого конца включительно, когда больше уже никто не пытался привести их спасению и не надеялся на то, Он милостиво обратил к Себе, смягчил их, силою искреннего покаяния привёл к окончательному и славному спасению.
[232] Также она вымолила себе у Господа в дар другое необычное обращение одного человека, который доселе среди нас, и я не думаю, что об этом следует умолчать.
В вышеупомянутом городе Сиене жил некий Франческо де Толомеи, что жив и до сих пор. Со своею женой, которая звалась Рабе, он породил несколько детей обоего пола, первородный из коих звался Якопо и вёл чрезвычайно нечестивую жизнь. Ибо, пышущий спесью века сего и исполненный ядом жестокости, он ещё в юности собственными руками убил двоих человек, и все знавшие его ужасались чудовищности его преступлений. У него не было никакого попечения о Боге, никакого страха пред Ним, и, будучи необуздан, он день ото дня двигался от плохого к худшему. И была у него сестра по имени Джиночча, полностью приверженная сему миру, которая, хоть и оставаясь девицей телесно (скорее из стыда пред людьми, чем от страха Божия), вершила дела всяческой суеты, чрезмерно наряжая и украшая своё тело. Их родительница, вышепоименованная Рабе, уязвленная страхом Божиим и страшась погибели своих детей, пошла к преподобной деве и смиренно молила её уделить немножко времени душеспасительному разговору с двумя её дочерьми, но особенно с Джиноччей. На сие Екатерина, ревнительница всех душ, преохотно согласилась и с величайшим усердием исполнила, а по её молитвам и благодаря её увещеваниям Христос так изобразился (ср. Гал. 4:19) в сердце Джиноччи, что, презрев все мирские суеты и полостью остригши на голове волосы, коими прежде чванилась, она с величайшим благоговением приняла хабит Сестёр покаяния бл. Доминика и всё время, что ей осталось ещё прожить, она, по её совершенно ясному мне признанию, провела в размышлениях и святых молитвах, свершая притом крайне суровые покаянные подвиги, за чрезмерность коих я лично иногда её упрекал. Во всём ей подражавшая родная её сестра Франческа одновременно с нею приняла хабит Покаяния, и чрезвычайно приятно было видеть, как сии две сестры, которые ещё недавно были так страстно привязаны к суете сего мира, мир сей и собственную плоть так согласно и так всецело презрели.
[233] Ну а в самом начале того обращения, вышеупомянутый Якопо, которого в то время не было в городе, услыхав сие, в ярости вернулся в город с одним из своих младших братьев, изрыгая страшные угрозы из надменного нутра своего, обещал сорвать с сестры хабит, в который она облеклась, и вывезти её за город, в место, где сам обитал, чтобы она не слышала никого, кто склоняет её к такому. На что малый брат, движимый высочайшим вдохновением небесным, возразил ему: «Право же, Якопо, коли ты приедешь в Сиену, ты тоже обратишься и исповедуешься в своих грехах». Он же крайне грубо выругал мальчика, заверив, что скорее убьёт любого подвернувшегося монаха или священника, чем когда-нибудь захочет исповедаться кому-либо. Мальчик повторил истинное пророчество, а он усугубил ругань и угрозы, и тут они добрались до города. И вошёл объятый яростью Якопо в отеческий дом, и заявил, что сотворит нечто ужасное, если его сестра не снимет оный хабит и не поедет с ним (и не укрылось то от святой девы). Родительница же его Рабе уговорила сына, чтобы он подождал хотя бы до следующего дня. Итак, с наступлением утра она посылает за братом Фомой, духовником девы, который, взяв с собою как бы по велению Божию брата Варфоломея Доминичи, явился в дом, где был Якопо, и поговорил с ним, но, по-видимому, ничего не смог добиться. Ну а святая дева, узнав обо всём этом не от человека, но от Господа, молилась в тот час об обращении Якопо. Короче говоря, когда она молилась, Господь коснулся сердца Якопо, и когда с ним заговорил вышеупомянутый бр. Варфоломей, которого брат Фома по велению Божию (как я уже говорил) взял в спутники, он уступил ему во всём том, в чём отказывал брату Фоме. Ибо он не только согласился на то, чтобы его сестра служила Господу, но и сам, смирившись, исповедал грехи свои с немалой сердечной скорбью и, употребляя выражение преподобной девы, изблевал весь яд, имевшийся в душе, даже некоторые грехи, которые никогда никому не хотел исповедовать. И, сделавшись из волка агнцем, и котёнком изо льва, он за короткое время приводит в изумление всех, кто его знал. Изумляется родительница его Рабе, сорадуются сёстры, и вся семья славит Бога. Братия же Варфоломей и Фома ликуют о Господе и поспешно бегут возвестить преподобной деве о свершившемся.
[235] Кроме того, для большей ясности расскажу о чрезвычайно удивительном событии; и хотя я был единственным его свидетелем (но ей Богу не лгу!), событие сие имело последствия общественного значения. В вышеупомянутом городе Сиене был некий муж, весьма известный среди светских людей, полный плотских помышлений (ср. Рим. 8:6), не подчинённых Богу, а звали его то ли Нанни, то ли Ванни. Помимо ущерба, чинимого своей родине, он вёл борьбу и поднимал усобицы против разных людей, всегда тайно устраивая им козни, а сам будто бы оставаясь в стороне. Но поскольку при некоторых из этих усобиц случались и человекоубийства, то виновные в преступлениях береглись этого Нанни куда тщательнее, чем других, потому что знали его хитроумие. И часто назначали посредников, чтобы склонить его к миру, но он всегда и всем лживо отвечал, что ему до того дела нет и что, если мир не удаётся заключить, то это не из-за него – но именно он один препятствовал миру, желая вволю отомстить.
Прослышав о том, преподобная дева захотела поговорить с ним, чтобы по возможности угасить столь великое зло, но он избегал её, точно змея – заклинателя. Наконец, некий святой муж, а именно бр. Вильгельм Английский из ордена Братьев-отшельников св. Августина, так поговорил с ним, что он пообещал ему прийти к деве и выслушать её, но следовать её увещаниям не пожелал обещать.
Итак, он сдержал свое обещание и пришел к деве домой в тот же час, что и я туда явился, но я не застал её, поскольку она ушла прежде, чтобы позаботиться о спасении неких душ. И пока я ждал, пришёл гонец, который сказал, что Нанни здесь и желает поговорить с девой. Я воспринял сие с радостью, ибо знал, как дева этого добивалась. Поспешно спустившись к нему, я известил его о её отсутствии и посоветовал запастись терпением и подождать её немного, а затем проводил его в келью служительницы покаяния Иисус-Христова, чтобы ему было не так скучно ждать. Он, однако, через короткое время затомился и сказал: «Я обещал брату Вильгельму, что приеду сюда и выслушаю эту даму, но раз её нет, а я очень занят и не могу задержаться, то любезно прошу передать ей мои извинения, поскольку мне нужно ещё много куда успеть».
[236] Ну а я, видя, к чему всё идёт, и огорчившись отсутствием девы, заговорил с ним на тему уже упоминавшегося мира. А он молвил: «Смотрите-ка, я не должен лгать вам, священникам и инокам или тем благочестивым отцам, о святости коих я весьма наслышан, так что скажу правду, но учтите: я отнюдь не собираюсь поступать в сем по вашей воле. Правда в том, что именно я так и эдак препятствую миру, но втайне от других; и если бы я один согласился [на мир], всё бы утихло. Но я-то вовсе не намерен соглашаться, и нечего мне тут проповедовать, потому как я никогда не соглашусь! Довольно с вас того, что я сейчас открыл то, что скрывал от других – не докучайте мне больше!» Пока же я пытался возражать, а он отказывался слушать, по Господню устроению явилась святая дева, возвратившись с подобного сему занятия. Как мы увидели её, Нанни огорчился, а я обрадовался. Ну а она, поприветствовав земного человека с небесной любовью, села рядом с нами и спросила его о причине прихода. Он же в подробностях повторил всё, что сказал прежде мне, включая окончательный отказ. Дева же преподобная стала объяснять ему, в каком он находится пагубном состоянии, и всячески – как угрозами, так и уговорами – убеждать, но он, уподобившись глухому аспиду, намертво закрыл уши своего сердца. Премудрая дева, уразумев сие, взмолилась в глубине души и воззвала о божественной помощи. Понимая, что происходит, я обратился к нему и, надеясь на помощь свыше, стал так и сяк его уговаривать. Короче говоря, спустя минутку он сказал: «Ладно уж, не хочу оказаться слишком невежливым, отказывая вам во всём, да и откланяться уже хотелось бы. Я веду четыре усобицы – с этой одной можете делать что пожелаете». Договорив сие, он встал, намереваясь удалиться, но, встав, воскликнул: «Боже мой, какое утешение я чувствую в душе от сказанных мною слов примирения!» И добавил: «Ах, Господи Боже, что за сила влечёт и держит меня? Не могу уйти и ни в чём не могу отказать! О, кто схватил меня? О, кто меня держит?» Сие сказав, он расплакался. «Признаю поражение, – молвил он, – даже дышать не в силах». И, преклонив колени, со слезами сказал: «Я сделаю, святейшая дева, всё, что вы повелите, не только в этом деле, но и в любых других. Вижу, что дьявол держит меня в цепях, но попытаюсь сделать всё, что вы посоветуете. Посоветуйте душе моей, как избавится от рук дьявола!»
[237] В тот миг преподобная дева, которая при молитве вошла было в обычное для неё исступление ума, вернулась ко внешним чувствам и, воздав благодарение Господу, молвила: «Брат мой возлюбленный, ты по милости Спасителя уже осознал своё пагубное состояние? Я говорила с тобою, и ты презрел меня; я говорила с Господом, и Он не презрел молитву мою. Итак сотвори покаяние в грехах своих, дабы не постигла тебя внезапно беда!»
Короче говоря, с великим сокрушением исповедал он мне все грехи свои, со всеми врагами своими при посредничестве девы заключил мир, и со Всевышним, Которого долгое время оскорблял, примирился согласно моему совету. Но через несколько дней после исповеди он был схвачен городским приставом и помещён под стражу; причём раздавались голоса, что его следует обезглавить. Прослышав о том, я в унынии пришёл к деве и молвил: «Вот, пока он служил диаволу, никаких невзгод не знал, когда же ко Господу обратился, ополчились против него небо и земля. Боюсь, матушка моя, ибо молод саженец – как бы буря сия не сломила его совсем и не ввергла в отчаяние. Молись, заклинаю тебя, за него ко Господу и того, кого спасла своими молитвами, постарайся защитить от невзгод». Тут молвит она: «Почему вы так печалитесь о том, о ком вам следовало бы скорее порадоваться? Ныне вы убедились, что Господь отвёл от него кару вечную, вместо коей постигла его кара временная. Прежде мир, по речению Спасителя, любил своё, но когда он вышел из мира, мир возненавидел его (ср. Ин. 15:19); прежде Господь готовил ему вечную кару, ныне же вечную милостиво заменил на временную. Об отчаянии его не беспокойтесь, ибо Тот, Кто спас его от ада, избавит его и от нынешней беды».
[238] И как она сказала, так и случилось, ибо спустя немного дней его освободили из той темницы, хотя он и потерпел немалый урон в земном [благополучии], чему святая дева радовалась, говоря: «Господь удалил из него яд, которым он был заражен». И в итоге, томимый невзгодами, а в благочестии своем возрастающий, он свой прекраснейший дворец, находившийся в миле за городом, передал оной преподобной деве в дар с подписанием публичного договора, чтобы она там построила женский монастырь. Каковой она, по особому разрешению и распоряжению блаженной памяти Григория, одиннадцатого Папы сего имени, заложила и построила, дав ему имя Святой Марии Царицы Ангелов в моём, а также дщерей её и сынов присутствии. А уполномоченным вышеупомянутого Верховного понтифика был брат Иоанн, аббат монастыря св. Анфима в епархии, кажется, Кьюзи, что относится к Ордену св. Вильгельма. Сию перемену десницы Своей Всевышний совершил через сию преподобную деву, чему сам являюсь свидетелем, ибо много лет был духовником названного Нанни и знаю, что он в значительной мере исправлял свою жизнь, по крайней мере, в ту пору, что я был с ним.
[239] Ну а коль бы я попытался поведать обо всех случаях обращения злых, усовершения и возрастания добрых и к добру расположенных, укрепления слабых, утешения безутешных и страждущих, предостережения в духовных опасностях, что Господь чудесным образом содеял чрез сию досточтимую деву и невесту Свою, пришлось бы написать множество книг, да огромных притом. Ибо кому достанет сил рассказать, сколько преступников она вырвал из пасти ада? Скольких упрямцев привела к самопознанию? Скольких приверженцев века сего побудила его презреть? Скольких искушениями различными искушаемых освободила из тенет дьявольских как молитвами своими, так и наставлениями? Скольких, с другой стороны, призванных свыше повела она стезёй добродетелей? А скольким приступившим к святому подвизанию помогла сохранить дары большие? (ср. 1 Кор. 12:31) Скольких, опять же, избавив их от бездны греховной, в муках и молитвах, как бы на руках своих, по пути истины пронеся, подвела к конечной цели – жизни вечной? Ибо, говоря словами Иеронима, восхвалявшего святейшую Павлу: «Если бы все члены тела моего обратились в языки, то и их было бы недостаточно, чтобы сказать о плодах душ, которые произвело это девственное растение, посаженное Отцом Небесным» (ср. Св. Иероним Стридонский. Сказание о добродетелях блаженной Павлы). Я лично не раз видел, как более тысячи людей обоего пола стекались, как бы по зову незримой трубы, с гор и из других областей Сиенской округи, чтобы увидеть и услышать её – и они не то что по её слову, но от вида её тут же проникались сознанием своих проступков и, рыдая и оплакивая свои грехи, бежали на исповедь к священникам, одним из которых был и я, и исповедовались с таким сокрушением, что никто не мог усомниться в том, что великое обилие благодати излилось свыше в сердца их. И сие случалось не раз и не два, а весьма часто.
[240] По сей причине блаженной памяти владыка Григорий, вышеупомянутый Папа одиннадцатый, ликуя и радуясь о таковом урожае душ, даровал мне и двум моим товарищам Апостольскую грамоту, позволявшую нам всех приходивших к Екатерине и желавших исповедаться, разрешать [от епитимии] в той же мере, что и епархиальные прелаты. Кроме того, как ведомо Истине, которая не обманывает и не обманывается, к нам пришли многие преступники и обременённые тяжкими пороками люди, которые или никогда не исповедовались вообще, или таинства покаяния никогда не совершали должным образом. Часто я и мои товарищи оставались голодными до самого вечера, не успевая выслушать всех, желавших исповедаться. И, признавая своё несовершенство, а девы сей преподобной преуспеяние, [скажу], что наплыв желающих исповедаться бывал так велик, что я много раз тяготился непосильными трудами и уставал. Она же непрестанно молилась и, как при разделе добычи, радовалась (ср. Ис. 9:3) о Господе премного, веля прочим сынам и дщерям своим помогать нам тянуть сеть, которую она закидывала для лова (ср. Лк. 5:4). Не получится описать пером [всю] полноту радости души её, да и [просто] признаки радости тоже, ведь она нас так внутренне осчастливила, что мы лишились даже воспоминаний о какой-либо печали. Вот что следовало рассказать о чудесах, которые всемогущий Господь сотворил чрез сию преподобную деву для спасения душ, и пускай [эта история] покажется читателю утомительной, но она слишком кратка для меня и [для описания] дел, совершённых с его помощью, большая часть которых была опущена. Ныне же подобает перейти к [чудесам], совершённым ради исцеления тел. И поскольку духовная темя изрядно растянулась, то, чтобы настоящая глава не оказалась слишком длинной, пусть она на этом и закончится.
[ГЛ. VIII.]
[241] Рассказываю я тебе, любезнейший читатель, нечто по нашим временам поразительное, но тем не менее весьма легкое Тому, для Кого не найдётся ничего невозможного (ср. Лк. 1: 37). Ибо ведь Лапа, сей преподобной девы родительница, о которой часто упоминалось выше, хотя (как было сказано в начале) и была женщиной великой простоты и невинности, в описываемое время не особенно стремилась к благам невидимым и слабовато их себе представляла, по каковой причине уход из сей жизни казался ей чем-то чрезвычайно ужасным, что проявится в событиях, о которых предстоит рассказать ниже.
Ибо случилось так, что по смерти мужа занедужила она телесно, и недуг её явно день ото дня усиливался, ввиду чего богопосвящённая дева обратилась к обычному своему прибежищу –молитве - и упрашивала Господа непрестанными молениями, дабы изволил Он той, что родила её и воспитала, даровать исцеление. На что ей, наконец, был ответ свыше, что для её спасения желательно преставиться от тела сейчас, прежде чем она увидит приближающиеся невзгоды. Сие услышав и уразумев, дева пошла к родительнице своей Лапе и увещевала её нежными уговорами без печали сообразоваться волей Господней, коль Он решил призвать её к Себе. Чему та, слишком погрязшая в любви к зримому, ужаснулась и, [стараясь таковой участи] избежать, умоляла дочь настоятельно просить Господа о её телесном исцелении, а о смерти её не говорить вовсе.
[242] Наблюдая сие, невеста Христова скорбела и, находясь в душевном борении, ещё ревностнее молила Господа (ср. Лк. 22:44) не дать Лапе преставиться от сего света прежде, чем она узнает, что душа её пришла в согласие с Божественной волей. А поскольку Бог, так сказать, послушался слов сего целомудренного человека, то, хотя недуг Лапы мог временами усиливаться, смерть всё никак не приходила. И служила дева Господня посредницею между самим Господом и своею собственной матерью, Его умоляя, её увещая: Ему молилась, дабы Лапу против воли из сего мира не изводил; ей настойчиво предлагала с сим изводом согласиться. Однако та, что Всевышнего молитвами своими в каком-то смысле связала, оказалась не в силах переубедить немощную душу своими увещеваниями. Посему Господь такое слово обратил к невесте Своей: «Скажи родительнице своей, что сейчас-то она не желает изойти из тела, но придёт время, когда она с великой охотою взыщет смерти, а не сможет её обрести». Каковое слово настолько явственно подтвердилось при мне и многих других, со мною бывших свидетелях, что от его истинности никак было не отвертеться. Ибо до самой старости Лапы на её долю выпадало столько горестей как по людям, так и по вещам любимым, что она всем готовым послушать говаривала: «Неужто Бог вложил мне душу поперёк тела, что она из него никак не выйдет?! Столько сыновей и дочерей, внуков больших и малых уже скончалось, и только мне самой не удаётся помереть; чай, придётся всеми скорбями отмаяться да отмучиться».
[243] Что ж, продолжим рассказ. Когда Лапа очерствела сердцем настолько, что не исповедовалась и не помышляла о врачевании души, изволил Господь, отказав Своей невесте, явить ей нечто ещё более дивное, чем то, что случалось при удовлетворении её просьб. Ибо надолго отсрочив смерть в желании показать, сколь велики были пред Ним заслуги преподобной девы, Он позднее послал Лапе временную смерть без исповеди. Когда же святая дочь её прослышала о том, возведя к небу очи свои, со слезами сказала: «Ах, Господи Боже мой, не давал ли Ты мне обещания, что никто из дома сего не погибнет? И не договорился ли по милости Своей со мною, что не изведёшь мать мою без её воли из мира сего? Но вот я вижу, что она отошла без таинств церковных! Всем Твоим милосердием Тебя заклинаю: не дай мне так разочароваться; а я с места живой не сдвинусь, пока Ты не вернёшь мне мать к жизни!» При этом случае присутствовали и эти слова слыхали три сиенки, имена которых приводятся ниже; причём они отчётливо и ясно видели, как оная Лапа испускала последний вздох, а после того, осмотрев и ощупав её тело, убедились, что в нём нет ни искорки жизни. Они бы приступили к прочим, обычным в таких случаях действиям, если бы не дожидались, пока дева закончит молиться.
И вот, подобно тому как Спаситель прикоснулся к одру, и остановились несшие погребальные носилки (ср. Лк. 7:14), так и пока сия дева молилась, присутствовавшие под действием того же Спасителя ничуть не переменили [положения мёртвого тела]. Буду краток: после продолжительной молитвы дева громкими вопияниями духа своего проникла глубины небес и муку сердца своего представила очам Всевышнего вместе с горячими и смиренными слезами, пролитыми тогда в обилии, отчего невозможно было оставить ту молитву втуне, и потому Господь всякого утешения и милости услышал её, и на глазах у присутствующих (вышеупомянутых и ниже поименованных) тело Лапы внезапно всё содрогнулось и,вновь вполне обретя дух, смогло полноценно жить и действовать. И дожила она до восьмидесяти девяти лет во многих скорбях сердечных, причиняемых наплывами нужд и невзгод, которые она претерпела, дабы сбылось пророчество, по велению Господню ей дочерью изречённое.
[244] А свидетельницами сего чуда были Катарина Джетти и Анджелина Ваннини, ныне Сёстры покаяния бл. Доминика, а также Лиза, родственница девы, невестка упомянутой Лапы – все они доселе живы и пребывают в Сиене. Они видели, как Лапа после многих дней тяжкой болезни испустила дух, видели её бездыханное тело, видели, как молилась дева, и некоторые слова её уловили и расслышали, а именно, когда она говорила: «Господи, это не то, что Ты мне обещал…», и, наконец, спустя недолгое время, видели, как бездыханное тело содрогнулось, вернулось к жизни и после этого смогло полноценно действовать.
О последующем же периоде её жизни нас наберётся тысяча или более того свидетелей. Из всего этого ты можешь сделать вывод, добрый читатель, сколь многочисленны были заслуги пред Всемогущим Господом у сей преподобной девы, которая столь чудесно [избавила] душу родителя от мук чистилищных, а тело родительницы, уже умершей, возвратила к естественной жизни. Однако не думай, что сие чудо совершено было чрез неё только ради спасения телесной жизни: обрати внимание на прочие последствия. А чтобы глубже уверовать в описанное чудо, знайте, что слова Господни, речённые деве, я слышал от неё самой, когда тайно её расспрашивал; остальное же нашёл в записях её первого духовника – часто поминаемого выше брата Фомы, который сообщает, что это чудо произошло в год Господень 1360-й, в октябре, в присутствии вышеназванных свидетелей.
Кроме ж сего, я намерен сообщить об одном событии, которое, правда, случилась не раньше других, но лучше прочих мне известно, причём настолько, что помимо того, с кем чудо случилось, никто о нём не знает больше меня.
[245] Примерно за семнадцать лет до ныне текущего девяностого года, случилось так, что я, следуя обету послушания, остался в сиенской обители моего ордена, исполняя обязанности чтеца. И пока я кое-как служил Богу, случилось, что бубонная чума, которая в наше время так часто опустошала весь мир, чрезвычайно тяжко обрушилась на оный город Сиену, и люди обоих полов и всех возрастов были разимы стрелами смерти, причём яд заразы доводил некоторых от здорового состояния до смерти за сутки, других – за два дня, обычно – за три, всех притом повергая в ужас и трепет. В связи с чем из ревности о спасении душ, на каковой и основан сей Орден, в коем я дал обеты, мне пришлось даже подвергнуть опасности свою телесную жизнь, чтобы помочь душам ближних. И вот, день и ночь непрерывно ходя с этой целью по домам болящих, я имел обыкновение то и дело сворачивать в обитель Св. Марии Милосердия, расположенную в том же городе, чтобы дать отдых душе и телу; потому, пожалуй, что настоятелем и управляющим названной обители был в ту пору некий Матфей, доселе живой, человек чрезвычайно похвальной жизни и пользующийся незамутнённой славой, а помимо того привязанный к оной преподобной деве духом братской любви – с кем ради дарованных ему свыше добродетелей я общаться чрезвычайно любил и люблю в настоящее время. Сию обитель я обычно навещал раз в день, как по названной причине, так и ради помощи некоторым нуждавшимся беднякам.
[246] Итак, однажды утром, когда я после мессы вышел из моего монастыря, чтобы навестить больных, то, проходя мимо названной обители Милосердия, зашёл узнать, как обстоят дела у насельников в столь страшную чумную пору. Но войдя, я обнаружил, что вышеназванного управляющего Матфея братия и клирики оной обители несли на руках из церкви в комнату, служившую ему жилищем, словно мертвого: ибо он почти совсем лишился своего обычного румянца и был не в силах ни двинуться, ни слова молвить, так что ничего не смог ответить на мой вопрос о самочувствии. Тогда я, обратившись к тем, кто его нёс и сопровождал, с изумлением спросил, что случилось с моим Матфеем и что сейчас творится. А они молвили: «Этим вечером, в седьмом часу, когда он присматривал за неким больным, бубонная чума поразила его в пах, и за краткий срок он дошёл до такого телесного изнеможения». Услышав это, я последовал за ними в печали до самой постели, возлегши на которую, он перевёл дух, позвал меня и исповедал свои грехи, как делал часто раньше. И вот, произнеся слова отпущения, я спросил его о самочувствии. «В паху, – молвил он, – меня мучает такая боль, что будто вот-вот оторвётся бедро. Сверх того, у меня так болит голова, что чуть ли не кажется, будто она раскалывается на четыре части». После этих слов я прощупал у него пульс на вене и с очевидностью обнаружил, что он страдает от сильнейшей лихорадки. Поэтому я велел присутствовавшим как можно скорее передать образец его мочи весьма искусному и любившему его врачу, которого звали и зовут магистр Сенсо, к кому и я после небольшой задержки отправился. А врач, увидев образец, тотчас сказал, что мой друг страдает чумной болезнью, и, засвидетельствовав, что все признаки явно сводятся к близости смерти, молвил мне: «Сия жидкость указывает на кипение крови в печени, что обычно бывает в самом разгаре чумной болезни, а потому я весьма боюсь, как бы вскоре обитель Милосердия не лишилась такого доброго управителя». Тогда я ему: «Как вы думаете, можно ли оказать ему какую-нибудь помощь средствами врачебного искусства?» А он: «Попробуем завтра вечером, вдруг удастся очистить ему кровь соком из стебля кассии, но у меня мало надежды на это средство – уж очень тяжёлый случай».
[247] После сих слов врача я отошёл в печали и по дороге к обители больного всё время мысленно взывал к Господу, прося оставить ещё в сем мире столь образцового мужа ради спасения других. А между тем святая дева, прослышав о страданиях своего [знакомого] Матфея, к коему была нежнейше привязана ради добродетелей его, тут же разгоревшись пылом любви к ближнему, словно бы негодуя на оный недуг, поспешила к болящему. И ещё прежде чем приблизилась к нему, начала кричать издалека: «Вставайте, господин Матфей, вставайте; недосуг почивать на мягком ложе!» При сем призыве девы вмиг, без задержки лихорадка и нарыв в паху совершенно у Матфея прошли, и всякая боль отступила, как будто ему никогда и не досаждала такая мука; и природа повиновалась божественному повелению, возвещённому ей устами девы, и с призывом её возвратилось к Матфею полное телесное спокойство, так что он с улыбкой поднялся с одра и, испытав на себе силу Божию, обитающую в Деве, ушёл, ликуя. После чего дева, избегая людского прославления, удалилась, но когда она выходила из дома, туда по случайности вошёл я, грустный, не зная, что случилось, и думая, что вышеупомянутого Матфея терзают приступы чумной лихорадки. А когда я увидел деву, меня охватила сердечная скорбь, и я сказал чуть ли не в ярости: «Неужто ты, матушка моя, позволишь умереть сему столь дорогому для нас и ценному человеку?» Она же, хотя и знала, что уже сделала, по причине подлинного смирения, как бы ужасаясь манеры моей речи, молвила: «Что это вы такое сказали сейчас?! Разве я Бог, избавляющий смертного от смерти?» (ср. Быт. 30:2) Тогда я, терзаемый яростью скорби, возразил: «Говори это кому хочешь, только не мне, знающему твои тайны; ведомо мне, что ты всего, чего искренно просишь у Господа, добиваешься». Тогда она, склонив голову, коротко улыбнулась, а в потом, взглянув на меня со счастливым лицом, сказала: «Будьте спокойны, ибо на этот раз он не умрет».
[248] Услышав сие, я тотчас отложил печаль мою, ибо знал, что она была наделена силою свыше (ср. Лк. 24:49). Итак, оставив её, я невозмутимо иду к больному.
Я застал его сидящим в постели, когда он с великой радостью рассказывал о чуде, свершённом девой. Когда же я сказал ему о полученном от святой девы обещании, что от этой болезни он не скончается, Матфей ответил: «А разве неведомо тебе, что она сделала, посетив меня лично?» В ответ на моё признание, что мне сие неведомо и что она мне тоже ничего не сообщила, он, совершенно здоровый и весёлый, встав с постели, поведал мне вышеописанное. Мало того, для вящего умножения чуда приготовлена была трапеза, и мы сели за неё, а Матфей с нами; а еду принесли не для больных, а для здоровых и крепких, сиречь бобы и к ним сырой лук. С нами ел и тот, кто ещё совсем недавно не мог вкусить даже тонкого кушанья; повеселел и заулыбался тот, кто ещё то самое утро едва мог слово вымолвить. Мы все дивились и радовались, славя Господа, Который через невесту Своею уделил нам столь чудесную благодать, и в изумлении беседовали между собой о высоких достоинствах девы. Вместе со мною свидетелем сего чуда был брат Николай Андре Сиенский из Ордена проповедников, который доселе жив. Впрочем, и все обитавшие в той обители, как послушники, так и священники, да и прочие числом более двадцати, всё, что мы ныне описываем, отчётливо слышали и ясно видели. Но ради всего святого, читатель, берегись, чтобы не подвело тебя теперь лукавство необрезанного сердца и ушей (ср. Деян. 7:51).
[249] Возможно, те, чьих сердец Бог не коснулся, скажут: «Что особенного в том, чтобы исцелиться от болезни, сколь бы тяжёлой она ни была? Это каждый день случается естественным образом». А я таковым отвечу встречным вопросом: «Что удивительного в исцелении Господом тёщи Симоновой, которая была одержима сильной горячкой, как свидетельствует евангелист?» (Лк. 4:38- 39) Люди то и дело исцеляются от горячек, сколь угодно тяжёлых, и всё это происходит естественным образом, так почему же евангелист рассказывает нам о том, как о чуде? Но смотри, о неверующий, ничего не воспринимающий сверх чувств, смотри на то, что хотел отметить евангелист, сказав. «Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оставила её. Она тотчас встала и служила им» (Лк. 4:39). Признаком чуда было то, что горячка по повелению Господа прошла без промедления и без естественной помощи, и хотя женщину страшно лихорадило и она лежала без сил, вдруг без чьей-либо поддержки встала. Так и в представленном примере ты ясно видишь (если не поражён духовною слепотой), как подошла сия святая дева, в сердце коей обитал Господь, и оный Господь, некогда исцеливший тёщу Симонову, подошёл, причём не близко, но став поодаль; и запретил горячке вместе с опухолью в паху; и без какого-либо вещественного средства они немедленно оставили болящего Матфея. Который, тут же встав, ел с нами бобы и лук безо всякого для себя вреда, будто никогда и не страдал таковым недугом. Так что отверзи очи духовные и не будь неверующим, но верующим (Ин. 20:27).
[250] Кроме того, раз уж мы упомянули обитель Милосердия, стоит поведать об одном удивительном событии, которое произошло там же по соседству. Хотя чудо сие свершилось чрез святую деву непосредственно перед только что описанным, я лично узнал о нём лишь тогда, когда беседовал с вышеназванным Матфеем в упомянутой обители Милосердия. Итак, сообщили мне брат Фома, чаще всех упоминаемый выше, а также тот самый Матфей, управитель названной обители Милосердия, да и почти все, знавшие свершения оной девы, что там по соседству жила некая женщина боголюбивая, которая, если мне не изменяет память, носила хабит Сестёр покаяния бл. Доминика. Услыхав о добродетелях девы, а может быть, и воочию в них убедившись, она познакомилась с нею и охотно выслушивала наставления её и присматривалась к примерам, да и почитала её благоговейно. Случилось же так, что однажды, когда та женщина находилась на некоем балконе своего дома, балкон этот под чрезмерной тяжестью поддерживаемого веса вдруг упал, и упомянутая женщина при обрушении балкона получила тяжелейшие раны и переломы как плоти, так и костей – до такой степени, что, когда соседи собрались, чтобы вытащить её из-под брусьев и камней, всем показалось, что она мертва или вот-вот умрёт. Наконец, когда с помощью Божией её уложили ещё живою в постель, и она, понемногу отдышавшись, почувствовала боль своих ран, то с громкими воплями и плачем сообщила окружающим о своих несчастьях. Поэтому вызвали врачей и по мере возможности лечили её, но она всё же не могла двинуться в постели сама, и её непрестанно терзали боли в различных членах.
[251] Услыхав о том, боголюбивая дева, сердечно сострадая и сестре своей, и её родным, лично навестила её и святыми увещеваниями призвала к терпению. Но когда она увидела, как безмерно та страдает, то коснулась больных мест, как бы потирая и поглаживая, что больная охотно приняла, зная, что ничего, кроме блага, от этого прикосновения быть не может. Но как только рука девы коснулась больного места, боль совсем ушла, что заметив, больная попросила её так же огладить и другое больное место. На что дева согласилась тем охотнее, что весьма она стремилась её утешить, но когда свершила сие, боль исчезла полностью. Короче говоря, по просьбе больной преподобная дева потёрла своею рукой все больные места, и боль целиком покинула тело. По свершении же сего та, которая ещё недавно сама не могла ни членами тела двинуть, ни самим телом, вдруг повернулась с одного бока на другой и явственно всем показала признаки выздоровления. Однако она молчала до ухода святой девы, чтобы не потревожить её смирения, но потом всем, и врачам, и соседям сказала: «Екатерина, дочь донны Лапы, исцелила меня своим прикосновением!». Дивились все и прославляли Творца, милостиво даровавшего такую силу деве Екатерине (ср. Мф. 9:8), ибо им было прекрасно известно, что сие исцеление могло свершиться только Божественной силою.
Я узнал об этом чуде из рассказов других, потому что это произошло до того, как я познакомился со святою девой, да даже и до того, как побывал в городе Сиене. Ныне же во славу Божию и девы перейдём к тому, что я сам узнал и увидел.
[252] Во время чумы, о которой мы упоминали выше, некий отшельник – святой по делам и Санти (Sanctus, т.е. «святой». – прим. пер.) по имени, – который долгое время вёл нищую и достохвальную жизнь в упомянутом городе Сиене, уязвлен был стрелою заразы. Прознав о том, дева попросила немедленно перенести его из келейки или скита, где он жил за городом, в вышеупомянутую обитель Милосердия и, лично со сподвижницами посетив его, распорядилась обо всём необходимом для ухода за ним. И наконец, приблизившись к нему, она тихо сказала ему на ухо: «Как бы тебе ни казалась болезнь тяжела, не бойся, ибо на этот раз ты не умрёшь». Нам, однако, умолявшим её помолиться о его исцелении, она ничего не пожелала сообщить; более того, казалось, будто она вместе с нами сомневается, что он выживет, из-за чего мы тем паче печалились, сострадая названному Санти по причине глубокой привязанности к нему. Наконец, поскольку болезнь с каждым часом несколько усиливалась, мы отчаялись в спасении тела и занимались лишь спасением души. В итоге, поскольку телесные силы как бы совсем иссякли, мы с грустью стали ожидать последнего прохода. Но пришла дева Господня и прямо в тот миг, склонившись к уху больного, сказала: «Не бойся, ибо ты не умрешь» (ср. Суд. 6:23). И хотя он, казалось, уже лишился чувств, отлично её понял и больше верил словам её, чем смерти, близость которой чувствовал. И так стало, что слова девы преодолели ход естества, и у всех на глазах Божественная сила самым явственным образом, несмотря на все человеческие ожидания, восставила почти уже мёртвое тело.
[253] Ну а пока мы ожидали последнего издыхания и подготавливали всё необходимое для похорон, проходил срок, в течение которого страдавшие от этой болезни обычно умирали, и оный [не наступавший] уход задержал нас на несколько дней. Но когда пришла, наконец, дева и сказала на ухо больному: «Я повелеваю тебе именем Господа нашего Иисуса Христа: не уходи!», дух его тотчас же возвратился в тело, и Санти, восстановив силы, сел в постели и попросил поесть. В итоге он в краткие сроки совершенно поправился, а потом жил много лет и присутствовал при преставлении самой святой девы от тела, прожив после этого много лет. Сей святой по делам и по имени, которого все называли братом Санти, после описанного исцеления поведал нам слова, которые преподобная дева говорила ему на ухо, и как он ощутил её властную мощь, удержавшую его дух, готовый изойти. И он заверял всех, что никакая не естественная сила спасла его тогда, а именно Божественная власть, и прибавил, что считает это не меньшим чудом, чем если бы он воскрес из мёртвых. А святость его жизни и природное благоразумие требовали отнестись ко всему [,им сказанному ,] с доверием, ибо в течение тридцати шести лет или около того он безупречно вёл отшельническую жизнь в названном городе Сиене, и у всех знавших его был в немалом почтении ради его добродетелей.
[254] Помимо рассказанного, не должен я обойти молчанием и тех чудес, что святая дева содеяла для меня. Когда, согласно сказанному выше, в вышеназванный город пришла чума, я решил ни единого больного не избегать, но ради спасения душ подвергнуть смертельной опасности тело, ибо известно, что эта болезнь заразна и отравляет и воздух, и окружающих людей. Но, приняв во внимание, что Христос может гораздо больше, чем Гален, а благодать больше, чем природа, и заметив также, что пока другие бегут, души умирающих остаются без совета и помощи, я, побуждаемый к сему той любовью, что заставляет душу ближнего моего любить паче собственного тела, а также преподобною девой, твердо решил всех, кого могу, посетить, укрепить и наставить, что по благодати, данной мне, с помощью Господа и исполнил. Правда, поскольку я был почти один в таком огромном городе, у меня едва оставалось время на то чтобы поесть или поспать, ведь едва я собирался немножко перевести дух, наплыв гонцов от больных вынуждал меня выйти из дому. Но однажды ночью во время обычного отдыха, когда я попытался было встать с постели, чтобы совершить утреню, почувствовал немалую боль в паху и рукою нащупал вспухший нарыв. Как мне хотелось, чтобы поскорей настал день, и я смог бы пойти к святой деве, прежде чем станет гораздо хуже! Между тем появилась горячка и головная боль, как обычно бывает при этой болезни, и я страдал сверх меры, однако пытался завершить утреню. Когда ж настал день, я, позвав товарища, как можно быстрее отправился к деве, но на этот раз напрасно: её не было, потому что она пошла навестить какого-то больного. Я твёрдо решил дождаться её, однако, никак не в силах удержаться на ногах, был вынужден прилечь на некоей поставленной там кровати и попросил домашних незамедлительно послать за нею, что и было сделано.
[255] И вот, придя и застав меня в таком тяжком состоянии, выслушав, что меня мучает, она тут же пред кроватью преклонила колени и, накрыв мне лоб рукою, стала, как обычно, молиться в душе. А при молитве, как я заметил, она была восхищена от чувств, что я много раз наблюдал в другое время. Я ожидал увидеть нечто особенное на пользу моей душе и телу. И вот, после того, как она простояла так почти полчаса или около того, я почувствовал, как тело моё целиком содрогнулось во всех частях своих, и подумал, что сейчас у меня начнутся приступы рвоты, каковые я наблюдал у многих умиравших от той же болезни. Но ничего такого не случилось, а впрочем, мне показалось, будто бы некая внешняя сила вытягивает нечто изо всех конечностей тела – и я почувствовал себя лучше, а постепенно мне становилось всё лучше и лучше. Короче говоря, прежде чем святая дева пришла в телесные чувства, я целиком исцелился, хотя осталась некоторая слабость, то ли как признак выздоровления от болезни, то ли по слабости веры моей. Дева же Господня, по полноте обретённой от Жениха благодати узнав, что я исцелён, возвратилась к телесным чувствам и распорядилась приготовить мне еды, какую обычно дают больным. Когда сие было сделано, она, священными своими руками меня накормив, велела мне немного опочить. Что я, послушавшись её, и сделал. Поднявшись же, я оказался до того крепок, будто ничем и не страдал. Увидев сие, она молвила: «Ступайте на труд по спасению душ и возблагодарите Всевышнего, спасшего вас ныне от опасности». Итак, я приступил к обычным занятиям, величая Господа, давшего такую власть сему целомудренному человеку (ср. Мф. 9:8).
[256] Затем подобное же чудо святая дева совершила во время чумы для брата Варфоломея Доминичи из Сиены, тогдашнего и нынешнего товарища моего, который прямо теперь управляет римской провинцией [Ордена], но [чудо то] было тем больше, что оный брат чумной той болезнью страдал тяжелее и дольше, что для краткости я подробно описывать не буду, потому что перехожу к другим [чудесам], куда более замечательным, и, насколько могу судить, большим, хотя [и тут] я весьма многое ради той же краткости опущу. Однако я хочу, чтобы ты знал, возлюбленный читатель, что не только во время чумы дева Господня творила сии чудесные исцеления и не только в своём городе Сиене, но и в иных местах и в другое время; как, например, один случай, о коем я прямо сейчас расскажу, может послужить тебе примером многих других, если будешь внимателен.
[257] Случилось в те времена, после окончания вышеупомянутой чумы, что многие люди обоих полов, как иночествующие, так и прочие, но особенно некоторые монахини города Пизы, услыхав добрую молву о преподобной деве, воспламенились великим желанием увидеть её и послушать учение её, которое, как говаривали, было чудесным, да и на самом деле таково. А поскольку весьма многим из тех, кто желал того, не было позволено, да и не подобало приехать к ней, они чрезвычайно часто умоляли её, как в письмах, так и через посланцев, чтобы соблаговолила посетить Пизу, заверяя письменно, дабы сильней заохотить её, что её присутствие там наверняка произведёт великий урожай душ, и великая слава Господу от этого воспоследует. И хотя преподобная дева всегда избегала поездок, тем не менее, осыпаемая столь многими и столь частыми мольбами, вынуждена была обратиться к Жениху своему и по своему обыкновению смиренно испросить у Него разъяснений в сомнении сем. Ведь если одни из её домашних советовали ехать, то другие решительно отговаривали. И случилось так, что через несколько дней, как она мне втайне поведала, явился ей обычным образом Господь и повелел не медлить с исполнением пожелания Его слуг и служительниц, живших в названном городе. Будучи истинно послушлива, она со смирением приняла приказ и после того, как сообщила мне о нём, отправилась с моего разрешения в путь и прибыла в город Пизу, куда я последовал за ней с несколькими братиями моего Ордена, чтобы принимать исповеди; ведь многие из приходивших к ней, услышав пламенные её слова, сокрушались сердцем; и таковым она велела – дабы не похитил их из руки её древний враг (ср. Ин. 10:28) – безотлагательно идти к исповедующему священнику и немедля приступать к таинству исповеди. А поскольку из-за отсутствия исповедников её желание то и дело встречало задержки и затруднения, она предпочитала брать с собой нескольких исповедников, которые могли уделить таковое лекарство покаяния. По этой же причине блаженной памяти владыка Григорий, одиннадцатый папа с таковым именем, даровал мне и двум моим товарищам свою буллу, согласно которой мы наравне с епископами или епархиальными [прелатами] имели полное право разрешать тех, кто приходил к исповеди благодаря служению сей преподобной девы.
[258] Итак, после того, как мы прибыли в Пизу и Екатерину приняли в доме некоего горожанина по имени Джерардо Буоноконти, сей хозяин, Джерардо, привёл однажды с собою некоего юношу лет двадцати или около того, которого представил преподобной деве, умоляя её помолиться о его исцелении. Ибо, как он рассказал, [этот юноша] в течение восемнадцати месяцев страдал ежедневными приступами лихорадки, так что не проходило и дня, когда бы у него не случалось приступа; и хотя прямо в тот время лихорадка не проявлялась, прежде она была столь затяжной, что некогда пышущий здоровьем юноша совершенно лишился жизненных сил, и никакое лекарство не могло его исцелить, что было явственно заметно по его изможденному и бледному лицу. А дева, сразу проникнувшись к юноше сердечным состраданием, тут же спросила его, сколько времени прошло с тех пор, как он омывал грехи свои в таинстве исповеди. Когда он ответил, что прошло уже несколько лет, дева прибавила, молвив: «Потому Господь пожелал, чтобы ты претерпел сие наказание, что ты так долго не очищал свою душу исповедью святой. Так что срочно, сын мой возлюбленнейший, приступи к исповеди и изблюй гниль греховную, заразившую душу и тело». Сказав сие, он попросила позвать брата Фому, своего первого духовника, и передала ему упомянутого больного, чтобы, выслушав его исповедь, он отпустил ему грехи. Когда по исполнении сего больной вернулся к ней, она, положив ему руку на плечи, сказала: «Ступай, сыне, с миром Господа Иисуса Христа, ибо я не хочу, чтобы ты более страдал сей лихорадкой». Сказала, и так сделалось; ибо с того часа больше не возвращались приступы лихорадки, и следа её не осталось. Ибо в деве была сокрыта сила Того, Кто сказал, – и сделалось; повелел – и сотворилось (ср. Пс. 32:9 и 148:5). А через несколько дней больной тот, уже выздоровев, возвратился к деве и, поблагодарив, заявил перед всеми нами, что с того часа не чувствует никаких признаков болезни.
[259] Я и сам свидетель этого события, так что мог бы сказать подобно Иоанну: «…Видевший засвидетельствовал..,» и т.д. (Ин. 19:35) А вместе со мною свидетелями были хозяин, принимавший упомянутую деву, и мать его, и также всё его домашнее семейство; вышеупомянутый брат Фома, духовник девы, исповедавший и больного; брат Варфоломей Доминичи, тогдашний и нынешний товарищ мой; да и все женщины, пришедшие с преподобною девой из города Сиены. Но сам исцелённый рассказал о сем чуде почти всему городу Пизанскому; мало того, спустя несколько лет, когда я проезжал через названный город Пизу, он пришел ко мне и, снова возблагодарив Бога и деву, поведал о чуде, как было рассказано выше.
[260] Впрочем, нечто подобное случалось и прежде в городе Сиене, но тем чудеснее, что болезнь была опаснее. Ибо же некая сестра покаяния бл. Доминика, именуемая Джеммой, была весьма близка преподобной деве. Однажды у неё заболело горло от болезни, которую врачи называют ангиной; ну а поскольку она в начале, пока горло было ещё проходимо, пренебрегла лекарствами, болезнь усилилась до такой степени, что те средства, которые прежде пошли бы пользу, больше не годились для лечения. Поэтому те области горла, что у неё сузились, с каждым днём постепенно ещё более сужались, что грозило в скором будущем окончательным удушением. Осознав это, она собралась с последними силами и пошла к деве, жившей в то время неподалёку. Встретившись же с нею, промолвила, как могла: «Матушка моя, я умру, коли ты не окажешь мне помощи». Тогда, увидев, как тяжела болезнь, Екатерина пожалела сестру, едва способную дышать, и тотчас же с полнотой упования приложила руку к её горлу и, сотворив над ним крестное знамение, без всякого промедления изгнала и рассеяла совершенно ту хворь; и вот, та, что пришла в скорби и трепете, возвратилась в радости и полном здравии. Однако, чтобы не оказаться неблагодарной, сходила к брату Фоме и поведала ему о чуде, каковое он и предал письменам, а я, заимствовав из его записей, кратко описал на этой странице.
[261] Но поскольку разговор зашёл о знамениях, совершённых над телами друзей и родных, то вспомнилось мне несколько замечательных знамений, свидетелем которых я являюсь сам, а со мною – многие из тех, кто ещё доныне жив, как будет сказано ниже.
В то время, как блаженной памяти владыка Григорий, одиннадцатый Папа, переехал из Авиньона в Вечный Город (в 1376 г. – прим. пер.), случилось так, что святая дева со своими спутниками, в числе коих был я, опережая названного понтифика, прибыла в Геную и задержалась там на некоторое время, пока вышеупомянутый Верховного понтифик с римским двором не прибыл в туда же, отдохнул там несколько дней и, продолжая начатое путешествие, направился оттуда в Город, каковая задержка растянулась на месяц с лишним. А были среди нас двое чрезвычайно набожных юношей родом из Сиены, некогда состоявшие с сей благой девой в переписке и до сих пор живущие в теле, благочестиво и добродетельно. Одного из сих двух зовут Нерий Ландуччи деи Пальярини, который ведёт уединенную и почти что отшельническую жизнь, презирая мир и всю его тщету. Другой – Стефан Корради деи Макони, который по велению той же девы после её преставления от сего мира к Отцу вступил в Картезианский Орден, в коем споспешением благодати Божией так усовершился, что посещениями, предупреждениями и примерами своими руководит и управляет значительной частью этого Ордена в Италии. Он был приором последовательно в нескольких монастырях, а прямо теперь является приором обители вышеупомянутого Картезианского ордена в Милане и всеми почитается мужем весьма деятельным и славным. Сии двое и сами по себе, и вместе со мною, а так же с другими мужами и женами оказались свидетелями всех или большей части вышеописанных чудес, о коих всюду сообщается в сей второй части. Но в вышеописанное время Господь сотворил в названном городе Генуе достопамятное знамение чрез преподобную деву, невесту Свою [именно] для обеих оных особ.
[262] Случилось же в то время, как мы были там, что названный Нерий заболел страшной болезнью, отчего не только он, но и все мы невероятно страдали; ибо же день и ночь непрестанно терзаемый болью во внутренностях, из-за которых он постоянно испускал громкие вопли и не мог улежать на одной кровати, но, ползая на руках и коленях (потому что не мог подняться), он обыскивал всю комнату, где было несколько кроватей, как бы убегая от боли, чем до слёз удручал нас и себя. Сие как от меня, так и от других, стало известно деве, которая проявила сострадание, что, однако, вопреки обыкновению не подвигло её на молитву об усмирении оной муки, и она не дала нам заверений (как она обычно делала) об исцелений больного; более того, она поручила мне позвать врачей и лечить больного врачебными средствами. Что я с величайшей старательностью и сделал, позвав двух врачей, коим больной повиновался беспрекословно, но ему ничуть не полегчало, а наоборот, стало ещё тяжелее (ср. Мк. 5:26). Впрочем, всё это, как я думаю, свершилось для того, чтобы Господь проявился в невесте ещё чудеснее, ибо врачи, не добившиеся, несмотря на долгие старания, никакого успеха, в итоге сказали мне, что утратили всякую надежду на спасение болящего.
[263] Когда я сообщил сие братиям и товарищам, бывшим со мною за трапезой, вышеназванный Стефан встал из-за стола и пошёл, пылая духом и скорбя душою, в комнату девы и простёрся со слезами у ног её, смиренно и настойчиво прося, чтобы не допустила она, чтобы собрат его и общник в пути, который он предпринял ради Бога и любви к Нему, лишился жизни телесной, а труп его остался на чужбине. На что благостная дева, сострадая, ответила с материнской любовью, молвив: «По что, сын мой, ты смущаешься и скорбишь? Коли Бог изволит вознаградить брата твоего Нерия за его труды, не скорбеть ты должен, а радоваться». На что он: «Нежнейшая матушка, ради всего святого, услышь голос мой и помоги ему, ибо я не сомневаюсь, что если ты пожелаешь, то сможешь!» А она, не в силах сдержать материнского своего волнения, молвила: «Я увещала тебя сообразоваться с Божией волей, но как вижу, сколь ты несчастен, то завтра, когда я пойду к мессе на Святое Причастие, напомни мне о том, и обещаю тебе, что я вознесу сию молитву ко Господу, ну а ты будешь молить Бога, да услышит Он меня». Тогда Стефан, сим обещанием довольный и обрадованный, на следующее утро в надлежащее время, когда преподобная дева шла к мессе, смиренно преклонив перед нею колени, молвил: «Молю, матушка моя, не дай мне обмануться в уповании». Она же причастилась на той самой мессе и спустя какое-то время, после исступления ума вернувшись, как обычно, в свои телесные чувства, тотчас же обратилась к ожидавшему Стефану, с улыбкой сказав: «Ты обрёл милость, о которой просил». А он: «Неужто, матушка моя, Нерий исцелится?» А она: «Наверняка исцелится, ведь Господь его нам возвратил». Тогда он скорым шагом пошёл к болящему и утешил его в Господе». А вскоре пришли врачи и, многократно изучив его симптомы, несмотря на прежнее своё полное отчаяние в его спасении, заговорили между собой, что, возможно, его ещё можно вылечить. Но он и сам по слову девы постепенно поправлялся вплоть до совершенного выздоровления.
[264] И вот, по таковом сего завершении названный Стефан, как от трудов телесных, так и от духовных страданий, каковые он перенёс, услужая названному Нерию, довольно тяжело заболел горячкой, сопровождаемой рвотой и чрезвычайно сильной головной болью, из-за чего слёг в постель, и так как он был всеми весьма любим, все за ним сострадательно ухаживали. Когда преподобную деву известили об этом, она прониклась глубочайшим состраданием. И вот, лично придя к нему, она спросила о природе недуга и, ощутив при прикосновении, что его крайне мучает горячка, тотчас же в пылу духа молвила: «Повелеваю тебе в силу святого послушания более сей горячкою не болеть!» Дивное дело: природа повиновалась голосу девы, как если бы он прозвучал с неба – от Создателя всего сущего. Ибо же Стефан сам, без какого бы то ни было естественного средства, ещё прежде чем святая дева отошла от его ложа, совершенно избавился от изнурительной горячки – и тут же с нами снова был наш здоровый Стефан, чему мы все радовались, вознося благодарение Господу, Который сотворил сии два знамения в течение нескольких дней чрез невесту Свою прямо у нас на глазах.
[265] Ну а к этим двум знамениям прибавляю третье, свидетелем которого не являюсь, потому что не присутствовал при нём, но та, с кем совершилось чудо, доселе жива и открыто свидетельствует о нём – из её-то рассказа я и узнал то, что сейчас описываю. Впрочем, и другие, бывшие тогда в обществе святой девы и живые до сих пор, без колебаний подтвердят её заявления. Итак, нижеследующее рассказала одна из Сестёр покаяния бл. Доминика, уроженка Сиены, хотя и не живущая ныне в сем городе, по имени Джованна ди Капо. Ибо же в то время, когда блаженной памяти владыка Григорий XI, упомянутый выше, обитал в Вечном Городе, по его приказанию во Флоренцию прибыла преподобная дева, чтобы обеспечить мир между Отцом отцов и бунтовавшими тогда детьми его, что она и сделала, что полнее будет рассмотрено в какой-нибудь отдельной главе. Змий же адский, пособник и виновник раздоров, а всякого единства враг, возбудил в означенном городе столько возмущений, даже против невесты Иисус Христовой, трудившейся на благо примирения, что это было бы слишком долго описывать здесь, и тем самым мы бы чересчур отклонились от темы; но ради её хулителей об этом будет, коли Господь позволит, позднее написана (как сказано) одна глава.
Итак, когда по повелению Апостолика преподобная дева была во Флоренции, а древний враг возбуждал против неё многие и серьезные возмущения, её верные и преданные последователи посоветовали её удалиться на время за границы означенного города и дать отбушевать ярости. Но она, вроде бы совершенно благоразумно и смиренно согласившись с их советом, сказала, однако, что по причине божественного повеления не покинет пределов означенного города окончательно, пока не будет там провозглашено примирение и согласие между Верховным понтификом и оным народом; что впоследствии и подтвердилось действительными событиями.
[266] Итак, она готовилась временно покинуть город и отправиться в какую-нибудь обитель, принадлежащую её сообществу, но оказалась, что названная Джованна тяжко заболела: ибо у неё из-за опухоли целиком раздулась нога, и к боли в ноге добавилась изрядная горячка; и таким образом, сугубо страдая, она никак не могла отправиться в путь. Когда дева о том проведала, она, не желая оставлять Джованну одну, чтобы она не пострадала как-нибудь от нечестивых, обратилась к своему обычному прибежищу – молитве, призвав на помощь Жениха своего, дабы по милости Своей изволил помочь в этом случае. И не потерпел всемилостивый Господь, чтобы Невеста его долго мучилась таковым затруднением. Ибо пока она молилась, больная та сладко заснула, а пробудившись ото сна, обнаружила, что совершенно исцелена – будто никогда и не страдала ни от какой болячки. И немедля встав, она приготовился к путешествию, да тем же утром вместе с девой и прочими спутниками пошла так проворно, как никогда не ходила во дни юности своей. Чему прочие, видевшие её больной, изумились и вместе с нею прославили всемогущего Бога, Который чрез Свою невесту творил дивные дела с телами сопровождавших ее.
[267] Ну а к сему знамению я добавляю другое, каковое Господь сотворил чрез неё в некоем городе графства Прованс, называемом Тулон, когда мы возвращались из Авиньона при переезде в Город названного папы Григория XI. Ибо, когда мы с нею прибыли в названный город Тулон и разместились в гостинице, где она, как обычно, тут же удалилась в комнату, тогда, несмотря на наше молчание, камни (так сказать) закричали, что святая дева прибыла в оный город; и стали сходиться к упомянутой гостинице сперва женщины, потом мужчины и спрашивать, где та святая госпожа, что возвратилась от Римского двора. А поскольку хозяин о нас проговорился, и мы не могли более скрывать Екатерину, пришлось разрешить входить к ней хотя бы женщинам. В итоге чего некая женщина принесла некоего младенца, до того раздутого и опухшего, преимущественно в области живота, что видевшим его он казался каким-то чудовищем. И умоляли женщины те деву Господню, чтобы изволила она взять оного младенца на руки. И хотя она, избегая людской похвалы, сначала отказывалась, однако, поддавшись состраданию, видя их веру, наконец, согласилась. Причём как только она взяла ребёнка на целомудренные руки свои, он тут же стал громко испускать газы из своего тельца, и на глазах у всех опухлость та целиком сошла, и дитя вполне выздоровело.
И хотя сие знамение свершилось не в моем присутствии и не у меня на виду, вести о нём, однако, были настолько надёжны и так широко разошлись, что епископ из того же города послал за мной и, рассказав о вышеупомянутом чуде, заявил, что младенец тот был племянником его викария; и попросил меня добиться для него беседы со святой девой, что и было устроено.
Впрочем, Господь Иисус чрез Свою невесту сотворил над человеческими телами много иных знамений, о которых не написано в этой книге. Однако сие немногое, о добрый читатель, я записал, дабы ты с полным основанием пришёл к уверенности, что в сей деве обитал Иисус, Сын Божий и Сын Девы, Который некогда первым творил все дела сии. Затем, хотя избавление одержимых злыми духами по праву должно быть причислено к исцелениям тела, однако, поскольку настоящая глава слишком длинна, и сия святая дева имела к тому особый дар, я решил положить здесь конец сей главе, а об оных [изгнаниях бесов] поведать в следующей.
[ГЛ. IX.]
[268] Как ты, достолюбезный читатель, можешь заключить из вышеизложенного, вечный Жених не преставал зримо показывать во внешних деяниях ту силу, которую Он обильно уделял Своей невесте внутренне, ибо ни огня невозможно спрятать за пазухой, ни древо, посаженное при протоках вод ни за что не увянет, пока не принесёт плода своего в назначенное время (ср. Пс. 1:3). Поэтому сила Господа Иисуса, нет, сам Господь Иисус, сокрытый в сердце девы, каждый день всё более проявлял Себя разными способами: не только в том, как она стяжала для всех грешников Божественную благодать с небес, о чём говорилось в седьмой главе; не в том лишь, как она исцеляла бренные тела больных или умерших, что показано тебе в восьмой главе, но также в том, как она запрещала адским духам и изгоняла их из одержимых тел, дабы пред именем Господа Иисуса, обитавшего в ней, преклонилось всё небесное, земное и преисподнее (ср. Флп. 2:10). Чтобы чётче сие осознать, внемли следующему.
[269] Был в городе Сиене некий муж, прозываемый по имени-отечеству сер Микеле ди сер Мональди («ser», сокр. от лат. «senior» – уважительное титулование в Италии XIII-XIV вв. – прим. пер.), преизрядно опытный нотариус или писарь, которого я сам видел раз сто и из чьих уст я узнал всё, что пишу. Когда он был уже в преклонном возрасте и имел жену, а от неё двух дочерей, решил он с согласия жены предаться служению Божию да и дочерей своих девиц посвятить Христу Господу. Посему пришёл он в некий девичий монастырь, освящённый при основании под именем бл. Иоанна Крестителя, расположенный в названном городе, и вверил себя и [всё, что у него было] своё Богу и бл. Иоанну, а дочерей своих девиц ввёл в общество прочих дев, живших там в затворе. Поселившись же вместе с супругой снаружи, он ради любви к Богу занимался мирскими делами оного монастыря. И прожил он там некоторое время, как тут случилось, по правому, но сокровенному суду Божию, что одною из дочерей упомянутого сера Микеле, называемою Лаврентией, в возрасте восьми лет или около того завладел бес, и стала она одержимою. Древний враг часто и жестоко мучил её, отчего весь монастырь девичий жутко смущался. В итоге сёстры, не желая больше держать упомянутую девочку у себя, заставили вышеупомянутого сера Микеле вывести её из монастыря. Когда её выводили, злой оный дух, мучитель девочки, вдруг складно заговорил её устами по-латински, хотя она латыни совершенно не знала. Он отвечал на самые глубокие и трудные вопросы; выдавал грехи и тайные помышления многих, да и целым рядом других знамений куда как явственно показывал, что он – отверженный дух, который по Божию попущению, по причине, людям тогда неизвестной, мучает невинную девочку.
[270] И вот, опечаленные этим и обеспокоенные родители не жалели сил, всюду разыскивая способов изгнать злого оного духа из девочки. Сего ради они водили её к мощам разных святых, чтобы по их заступничеству и их силою злой дух был обращён в бегство. Особенно же они уповали на мощи блаженного брата Амвросия из Ордена братьев-проповедников, который уже с сотню лет и более сиял и ныне сияет многими чудесами, а также обладал и ныне обладает особенной силою в изгнании духов нечистых, так что шапку его и наплечник, который до сих пор целиком сохранились, обычно использует для изгнания злых духов из одержимых тел, чему я сам однажды был очным свидетелем. Посему, приведя Лаврентию в церковь Проповедников и возложив её на гробницу упомянутого брата, бл. Амвросия (Сиенского, пам. 8 окт.) да надев на девочку названную одежду, они призвали силу Всевышнего на помощь невинной бедняжке. Но в тот раз они не были услышаны, потому что поистине (как я думаю) не согрешила ни девочка, чтобы так мучиться, ни родители её (ибо я знал, что они вели похвальную жизнь), но, если не ошибаюсь, Господь попустил сие для возвещения славы святой девы (ср. Ин. 9:3). По этой причине даже Амвросий, находящийся среди блаженных, уступил сие чудо пребывавшей пока на земле (viatrici) Екатерине, дабы явилась её добродетель верным, прежде чем и она преставится от тела. Короче говоря, некто из знавших деву убедил родителей представить Лаврентию деве Екатерине. Но когда они с горячностью попытались исполнить [совет], и святая дева сие узнала, она отвечала посыльному: «Да меня саму, увы, ежедневно страшно мучают нечистые духи – куда уж мне ещё чужих?!» И сказав сие, она, не имея возможности выйти в дверь, не будучи замечена вошедшими, взобралась на какую-то крышу и тайком ускользнула из того дома, что никак не удалось отыскать её, так что в тот раз они не достигли своей цели. Однако же, чем более они наблюдали её смирение и попытки избежать людского одобрения, тем глубже проникались уверенностью в силе её святости и с большим пылом умоляли её о помощи.
[271] Но не имея возможности подступиться к ней, поскольку она запретила всем своим сподвижницам говорить на эту тему, они прибегли к брату, духовнику её, о котором чаще всех упоминалось выше, ибо знали, что дева ему во всём обязана повиноваться; и, рассказывав о своём несчастье, умоляли его принудить её чрез послушание помочь им в беде. Он же, сердечно им сострадая, знал, тем не менее, что никакой властью над чудесными силами не обладает, и, не будучи в неведении о смирении девы, придумал такую уловку. Пришёл он как-то вечером домой к деве, случайно отсутствовавшей в то время, и взял с собой бесноватую девочку; завёл её в молельню святой, а затем сказал её сподвижнице, которая находилась в доме: «Скажи Екатерине, когда возвратится, что я в силу послушания велю ей дать переночевать здесь этой девочке, и держать её при себе до утра».
Но когда дева, вскоре вернувшись, застала девочку в своей комнате, то тут же распознала, что ею владеют бесы, и, заподозрив, что это та самая, от которой она убегала, сказала своей сподвижнице: «Кто привёл сюда эту девочку?» Когда же та сообщила Екатерине о повелении духовника, она, увидев, что теснима со всех сторон, обратилась к своему обычному прибежищу – молитве, а девочку тоже понудила преклонить колени и молиться с нею. Всю ночь она провела без сна в битве с этим врагом и в молении.
Короче говоря, прежде чем рассвело, бес тот, несмотря на сопротивление, всё же был божественной силою понуждён отойти, а девочка осталась без каких-либо телесных повреждений. Сие заметила сподвижница девы, которую звали Алессия; и когда рассвело, сообщила брату Фоме вышеупомянутому, что девочка от дьявольских утеснений избавлена. По этой причине он с родителями Лаврентии пришел в обиталище девы, и когда обнаружилось, что девочка совершенно исцелена, вышеупомянутые родители воздали слёзное благодарение всемогущему Бога и оной деве. Закончив с этим, они хотели увести дочь домой, но дева Господня, зная по откровению Господа, что будет с девочкой, сказала им: «Позвольте девочке побыть здесь с нами ещё несколько дней, ибо сие пойдёт на пользу её здоровью», на что они преохотно согласились и, оставив дочь, удалились с немалой радостью.
[272] Ну а преподобная дева, уделив тем временем той самой девочке спасительных наставлений, а также побудив её, как словом, так и примером, к частой и усердной молитве, запретила ей выходить куда-либо из того дома, пока не вернутся её родители и она не уедет насовсем. Что та исполнила в точности, а затем день ото дня всё более проявляла склонности к лучшему. Но так как упомянутый дом принадлежал не деве, а вышеназванной Алессии, хотя и находился недалеко от её собственного дома, то случилось в те дни, что дева Господня вместе с Алессией, перебралась в свой дом и осталась там на день, оставив вышеупомянутую Лаврентию с некоей служанкой в доме Алессии. Когда после заката солнца уже смеркалось и наступила ночь, святая дева внезапно позвала свою сподвижницу Алессию и велела ей надеть плащ, так как хотела пойти с нею в дом, где находилась девочка. Когда Алессия сказала ей, что женщинам не подобает ходить по городу в такой час, дева ответила, молвив: «Пойдем, ибо адский волк снова набросился на нашу овечку, уже было вырвавшуюся из его пасти». Сказала и поспешила из дому в сопровождении Алессии.
А когда они прибыли в тот дом, то обнаружили, что у Лаврентии совершенно изменилось лицо: раскраснелось и приобрело какое-то свирепое выражение. Тогда дева молвила: «Ах ты ж адов змий! Да как ты смеешь вновь нападать на девчушку невинную? Уповаю на Господа Иисуса Христа, Спасителя и Жениха моего, что на этот раз ты будешь изгнан так, что более не вернёшься!» И, сказав это, она повлекла девочку за собою в молитвенный уголок и, пробыв там недолго, вывела её наружу, совершенно исцелённую, и велела проводить её отдохнуть. С наступлением же утра она послала за родителями и сказала им: «Теперь спокойно забирайте вашу дочку с собой, потому что больше она ничего не претерпит». Что и подтверждается и по сей день. Ибо возвратилась она тогда в монастырь свой, где и доныне продолжает служить Богу в полном здравии, хотя прошло уже шестнадцать лет с лишним.
[273] Всё сие я слышал от уже названного брата Фомы, затем от вышеупомянутой Алессии и, наконец, от названного сера Микеле, нотариуса, отца названной девушки, который до самого конца жизни почитал святую деву, как Ангела Божия, и едва мог без слёз рассказывать об описанном выше чуде. Затем, загоревшись сильным желанием полнее исследовать подробности свершения чуда, я втайне спросил преподобную деву: «Скорее всего оный бес получил на то позволение, коль явно не поддавался ни силе мощей, ни всяким попыткам изгнания?» Она же ответила, что негодный тот дух был чрезвычайно могуч, так что до четвертого часа ночи пришлось ей бороться с ним: она от имени Спасителя повелевала ему изойти, а он наглейше отказывался. Однако после долгой борьбы негодный тот дух, видя, что изойти придётся, сказал: «Коль изыду отсюда, войду в тебя!» На что дева тут же ответила: «Если так повелит Господь, без Чьего соизволения, как я знаю, ты ничего не можешь сделать, то упаси Боже, чтобы я возражала против того или хоть в чём-нибудь не согласилась или разошлась с Его святой волей!» Тогда гордый дух, пораженный стрелою истинного смирения, почти совсем потерял силу, которую получил над девочкой, но все ещё вызывал движения и вздутия в её горле. Екатерина же, приложив руку к горлу её и с полнотою веры запечатлев на нём крестное знамение, окончательно прекратила его мучительства. Итак, читатель, вот тебе чудо с подробностями, а также свидетели, которые его наблюдали воочию и от которых я сам о нём узнал.
[274] Но я намерен рассказать и о другом событии, в коем яснее проявилась вся полнота той силы, каковую благая дева получила от Господа для изгнания бесов. И хотя я лично не присутствовал при сем знамении, потому что Екатерина тогда послала меня тогда к наместнику Христову, сиречь к владыке Папе Григорию XI, в связи с некоторыми делами Святой Церкви, однако ниженаписанное мне было изложено братом Санти, отшельником, о чудесном исцелении которого упоминалось выше, а также Алессией, упомянутой в предыдущей главе, равно как и другими, кто был тогда с нею.
Итак, они сообщают, что в то время как святая дева была со знатной и почтенной дамой, донной Бьянкиной, вдовою Джан-Анджелино де Салимбени, в некоем замке, что именуется в просторечии Рокка, где я тоже прежде провёл с нею несколько недель, случилось, что некоей дамой из того же замка овладел злобный враг и совершенно жутко мучил её, так что о сей одержимости стало известно всему замку. Когда о сем сообщили вышеупомянутой донне Бьянкине, она, сострадая подданной, загорелась было желанием попросить деву помочь оной несчастной, но, зная её смирение и то, как она огорчается, когда ей о таком говорят, она посоветовалась с подругами и распорядилась привести к себе одержимую женщину в присутствии девы, чтобы хоть при виде её несчастья душа Екатерины склонилась к состраданию и она в итоге вынуждена была её избавить. А случилось так, что как раз когда оную [бесноватую]привели, святая дева была занята устроением мира между какими-то ведшими усобицу сторонами и собиралась отъехать в некое иное место, не очень далекое, где это перемирие предстояло заключить. Увидев же, как к ней ведут упомянутую одержимую, и не сумев избежать встречи с нею, Екатерина, немедленно обратившись к упомянутой донне и выказывая сердечную скорбь, сказала: «Храни вас всемогущий Боже, сударыня, что вы наделали?! Разве вы не знаете, что меня часто мучают бесы? Так зачем же вы велели привести ко мне другую одержимую?» Тем не менее, отвратившись к той бесноватой, молвила: «А чтобы ты, враже, не воспрепятствовал благоустроению сего перемирия, возложи голову на лоно его и жди меня, пока не вернусь!»
[275] На слово сие женщина та одержимая тотчас же без возражений возложила голову свою на лоно брата Санти, отшельника вышеупомянутого, который там как раз оказался (он же и поведал мне потом об этом, как уже было сказано) и на которого святая дева указала одержимой женщине. И отправилась дева Господа заниматься устроением оного перемирия. Между тем бес устами одержимой закричал: «Зачем вы меня здесь задерживаете?! Пожалуйста, позвольте мне выйти, ибо я чрезвычайно страдаю!» Окружающие ответили: «Чего же не выходишь – дверь-то открыта?!» На что негодный оный дух им ответил: «Не могу, ведь что та проклятая меня здесь связала!» На расспросы же их, кто она такая, он ни за что не хотел называть её – вероятно потому, что не мог; лишь говорил: «Та неприятельница моя…»
Тогда упомянутый брат Санти спросил: «Большая она неприятельница тебе?» А он: «Больше всех в целом мире!» Тогда окружающие, сие услыхав, в попытке унять его крик сказали: «Молчи-ка, вот, Екатерина уже пришла!» Он же в первый раз ответил: «Ещё не пришла, но находится в таком-то месте», совершенно верно указав, где она была. Когда же спросили, что она там делает, он ответил: «Нечто в высшей степени для меня неприятное, как у неё заведено». Сказав это, он закричал ещё сильнее: «О, зачем я здесь задержан?!» И притом он даже головы не мог повернуть женщине, замершей в том положении, где повелела ей стоять дева Господня. Затем уж, спустя какое-то время, он сказал: «Та проклятая женщина только что отправилась назад». А на вопросы окружающих: «Где она?», ответил: «Её больше нет в том месте; она в таком-то». А чуть позднее сказал: «Сейчас она в том-то месте..», и таким образом он по порядку указывал местности по пути её. В конце концов он сказал: «А теперь она входит в двери этого дома», что действительно и произошло. Когда же она вошла в комнату, бес громко воскликнула: «Ах, зачем ты меня здесь задерживаешь?!» На что дева ему: «Встань, несчастный, и выйди немедля; отпусти сие творение Господа Иисуса Христа и не смей более мучить её своим одержанием!»
[276] Когда сие было сказано, злобный тот дух, прочие части тела напрочь покинув, в горле стал совершать страшные движения и вызвать вздутия. Дева же преподобная, приложив целомудренную руку к горлу её и запечатлев на нём крестное знамение, окончательно изгнала негодного духа и совершенно исцелила женщину на глазах всех присутствующих. Правда, поскольку она оставалась измучена и изнурена от недавней одержимости, Екатерина на некоторое время подставила ей для опоры свои руки и грудь, но в итоге приказала дать ей что-нибудь поесть, дабы она, подкрепившись, пришла в себя – что и было сделано. Она же, сразу по исцелении окружённая такой заботой, открыв после пробуждения глаза и увидев себя среди множества людей в доме или замке своей госпожи, спросила у присутствовавших там знакомых: «Кто привел меня сюда? Или когда я пришла сюда?» Тем же, кто говорил, что её мучил злой дух, она отвечала: «Ничего о том не помню, но отчётливо чувствую во всё теле такую разбитость, будто меня целиком исколотили твёрдым поленом». Затем, смиренно поблагодарив свою избавительницу, она своим ходом возвратилась домой, откуда незадолго до того её приволокли.
Очными же свидетелями сего знамения, помимо названной донны Бьянкины, которая всё ещё пребывает на сем свете, был вышеупомянутый брат Санти, Алессия и Франческа, сподвижницы святой девы, а также Лиза, невестка девы, доселе живая, и более тридцати человек обоего пола, имена которых я не разузнал, а потому здесь не привожу. Много и других знамений изгнания бесов совершил Господь Иисус чрез сию преподобную деву, Свою невесту, которые не описаны в этой главе, однако сие, читатель, написано, дабы ты мог оценить, сколь великий дар изгнания духов получила свыше дева, о коей идёт речь, – она словно бы споспешением благодати Христовой в решительнейшей битве одержала окончательную победу над их мерзостями. А сей главе на этом конец.
[ГЛ. X.]
[278] Возможно, тебе, читатель, покажутся невероятными [те чудеса], о которых я собираюсь прямо сейчас поведать, однако оная Истина, Которая не обманывает и не обманывается, знает: я на опыте изведал их так [явно] и столь [много], что у меня в них больше уверенности, чем в действиях человеческих, да и в моих собственных. Ибо пророческий дух в преподобной сей деве проявлялся с таким совершенством и постоянством, что, казалось, никак не возможно было скрыть его от тех, кто был близок ей, или от тех, кто с нею общался, или прибегал к ней за помощью во спасение души своей. Мы, находясь в общении с нею, тоже не могли совершить в её отсутствие ничего сколько-нибудь важного – доброго или дурного, – что ускользнуло бы от её внимания, в чём весьма часто, а вернее постоянно, убеждались на опыте. А что ещё удивительнее, она помышления нашего сердца часто сообщала нам так точно, как будто они возникали у неё, а не у нас. Сам убедился и признаюсь перед всей Христовой Церковью воинствующей, что, когда она зачастую укоряла меня за некие мысли, которые тогда действительно крутились у меня в голове, а я (в чём не стыжусь признаться ради вящей её славы) пытался лживо за них оправдаться, она возражала мне: «Почему вы отрицаете то, что я вижу яснее, чем вы сами, кто так мыслит?» А затем прибавляла многополезные наставления о том предмете и даже подкрепляла оные своим примером. Это (как я сказал) случалось со мной куда как часто, чему свидетель Тот, от Кого ничего не утаено. Однако теперь перейдём к более подробным описаниям отдельных случаев. Ну а чтобы не извращать порядка, начнём с предметов духовных.
[279] Был в городе Сиене некий рыцарь знатного происхождения и опытный в брани, коего все величали доном Никколо де Сарачини. Он провёл значительную часть жизни, служа в разных краях наёмником, а вернувшись наконец в родные пенаты, посвятил себя обогащению своего дома земными благами и, сожительствуя с наложницами, думал, что проживёт ещё долго. Тогда вечная оная и всемогущая Благость, Которая никому не желает погибнуть (ср. 2 Цар. 14:14; Иез. 33:11), вложила в сердце жены того рыцаря, а также неких иных особ, связанных с ним родством, желание побудить его исповедаться за грехи своего прошлого и покаяться в том, что совершил в усобицах и сражениях, которыми так долго занимался. Но он, полностью поглощённый и опутанный сими видимыми благами, насмехался над душеспасительными уговорами и, отмахиваясь от увещавших его к добру, пренебрегал своим спасением.
Как раз тогда святая дева в том же городе Сиене славилась многими чудотворениями, но паче всего – достодивными обращениями грешников, даже упорствующих; и каждодневный опыт показывал, что всякий, сколь бы ни был ожесточён, поговорив с нею, либо совсем обратится (что случилось со многими), либо, по крайней мере, воздержится в дальнейшем от многих привычных грехов. Сие зная, те особы, которые уговаривали упомянутого рыцаря позаботиться о спасении и ясно видели, что не достигают ни малейшего успеха, стали убеждать его бы раз попытаться поговорить с девой Екатериной. На что он с ещё большим пренебрежением возражал: «Что мне до этой бабёнки? Что хорошего это принесёт мне через сто лет?» Тогда жена его, будучи знакомой преподобной девы, пошла к ней и, поведав о жестокосердии мужа, умоляла её помолиться за него Господу.
[280] Короче говоря, после этого святая дева явилась рыцарю однажды ночью во сне и предупредила его, что если он хочет избежать вечного проклятия, то должен прислушаться к уговорам своей жены. Проснувшись, он сказал жене: «Надо же, нынче ночью во сне я увидел ту самую Екатерину, о которой ты мне столько говорила! Непременно хочу поговорить с ней и увидеть, такова ли, как мне явилась!» Услышав сие, добрая супруга возрадовалась, пошла к деве, поблагодарила и условилась о часе, когда муж придёт поговорить. Что уж там... Пришёл, поговорил и полностью обратился к Господу, пообещав исповедовать свои грехи брату Фоме, духовнику девы, что он и сделал в меру данной ему благодати.
По свершении сего этот же рыцарь (а я к тому времени с ним познакомился) однажды утром встретил меня, когда я возвращался из города и поспешал в обитель, и спросил, где можно срочно найти преподобную деву. На что я ему: «Думаю, она в нашей церкви». А он молвил: «Умоляю вас, отведите меня к ней и дайте мне возможность поговорить с ней кой о чём, для меня необходимом!» Тогда я охотно согласился, проводил его в церковь и подозвал одну из сподвижниц девы, сказав ей, чтобы передала просьбу упомянутого рыцаря самой преподобной деве. Когда это было сделано, Екатерина тотчас поднялась с молитвы и, встретив рыцаря, радушно приняла его. Рыцарь же, выказав ей глубочайшее почтение, сказал: «Сударыня, я выполнил ваше повеление, ибо я исповедал грехи свои брату Фоме, как вы повелели мне, а он наложил на меня спасительную епитимию, каковую я намереваюсь совершить согласно его указаниям». На что дева сказала ему: «Вы превосходно поступили ради спасения своей души, однако поступайте в дальнейшем так, чтобы никакие старые деяния не повторились, и в грядущем воинствуйте Господу Иисусу Христу, как доселе – миру сему». И прибавила: «Всё ли вы, сударь, добросовестно рассказали о содеянном вами?» Он ответил, что всё, о чём вспомнил, рассказал точно. Она снова повторила: «Удостоверьтесь, что рассказали всё!»
[281] Когда же он ответил, что точно рассказал духовнику обо всём, что вспомнил, она, попрощавшись с ним, позволила ему ненадолго отойти, но вскоре попросила одну из своих сподвижниц позвать его и сказала ему: «Ради всего святого, проверьте совесть свою, не пропустили ли вы какого-нибудь из прежних грехов!» И, поскольку он уверенно заявил, что рассказал всё, она отвела его в сторону и напомнила ему об одном тяжком грехе, который он в полной тайне совершил, когда был в области Апулии. Что услыхав, рыцарь тот изумился и, признав, что это правда, сказал, что и вправду забыл. Затем попросил позвать священника и исповедал грех в таинстве. Но поскольку он видел чудо, то не мог промолчать, но возвещал о нём во всеуслышание и как бы проповедовал, говоря наподобие самарянки: «Пойдите, посмотрите на деву, которая сказала мне обо всех грехах, что я совершил в дальних краях: не святая ли она, не пророчица ль?» (ср. Ин. 4:29) – «Да, несомненно да! – добавлял он, – Ибо о грехе, который она мне напомнила, ни единый человек никогда не знал, кроме меня одного». С того часа следовал он за девой, слушаясь её, как ученики следуют за учителем своим, чему я сам свидетель. А насколько своевременным было то обращение, показала его смерть, последовавшая вскоре за тем, ибо в том же году он после внезапной телесной болезни окончил течение сей временной жизни, преставившись ко Господу в добром расположении.
Итак, читатель, ты видел, как Господь свершил и явил чрез сию преподобную деву, во-первых, чудесное видение; [затем] – пророческое откровение о грехе; и, наконец, спасение человека. Но внемли дальнейшему рассказу и постигнешь, как небеса подали ей пророческое ведение и оказали чудесную помощь.
[282] В течение многих лет, прежде чем удостоиться близкого знакомства с девой сей, я жил в замке, называемом Монтепульчано, руководя девичьим монастырём, находящимся под опекой моего ордена, где и провёл около четырех лет. Поскольку же я пребывал там в обществе только одного брата из моего Ордена (ведь мужская обитель в том городке не была построена), то охотно виделся с братьями, приходившими ко мне из соседних монастырей, особенно со знакомыми мне. Поэтому-то премного упомянутый выше брат Фома, духовник девы, вместе с братом Георгием Надди, ныне магистром священного богословия, задумали прийти ко мне из сиенской обители, дабы несколько утешиться духовным общением, а чтобы они могли поскорее вернуться к деве, о которой упомянутый брат Фома имел постоянное попечение, они позаимствовали лошадей у горожан, с коими были во взаимном знакомстве.
Итак, заканчивая путешествие и находясь уже примерно в шести милях от вышеназванного замка, они захотели дать роздых и себе, и своим лошадям, а потому устроились там на недолгий привал, что, впрочем, было неосмотрительно; ведь в тех местах водились некие разбойники, которые, хотя и не занимались грабежом прилюдно и постоянно, но когда примечали каких-нибудь неосмотрительных или одиноких путников, охотно уводили их в уединенные места, лишая иногда пожитков, а иногда даже телесной жизни, чтобы скрыть свои преступления от общественного правосудия. На одном постоялом дворе они приметили, что упомянутые братия путешествуют без сопровождения, и тут же часть из них числом человек десять или двенадцать ушли и, пока ничего не подозревавшие братия отдыхали, знакомыми обходными путями прошли вперёд и поджидали их на пути в каком-то темном проходе. Когда же упомянутые братия доехали до того места, разбойники внезапно накинулись на них с устрашающим, как полагается, видом, вооружённые мечами и копьями; быстро и грубо стащили с лошадей и раздетых, почти что голых, свирепо поволокли в совершенно тёмную местность, заросшую лесом. Поскольку же они между собою долго тишком совещались, упомянутые братия с ясностью осознали, что те хотят убить их, а тела зарыть в тех совершенно безвестных местах, чтобы злодеяние это не стало достоянием гласности.
[283] Когда упомянутый брат Фома с особенной ясностью распознал явные признаки таковой опасности, он понял, что не помогут ни просьбы, ни мольбы с посулами, ведь ими не добиться ничего, кроме того, что их будут каждый день переводить во всё более безвестные места. Лишенный человеческой поддержки, он мысленно обратился к Господу. Поскольку же он знал, что дочь его и ученица весьма приятна и угодна Богу, то говорил мысленно так: «О милейшая дочь Екатерина, боголюбивая дева, поспеши нам на помощь в сей столь страшной опасности!» Едва он окончил эту мысленную речь, как один из тех разбойников, что был ближе всех к нему (Фома даже подумал, что его отрядили убить его), вдруг разразился словами: «Зачем нам убивать этих добрых иноков, которые ничем нас не обидели?! Поистине, это великий грех! Отпустим же их во имя Господа, ведь они хорошие люди и ничего об этом не расскажут». С этими словами все остальные так горячо согласились, что не только отпустили их живыми да невредимыми, но даже вернули им целиком одежду, а затем также лошадей и всё, что забрали, за исключением небольшой суммы денег – и так пустили их на волю. А они, пришедши в тот день ко мне, поведали от начала до конца всё, что написано выше.
[284] Но обрати внимание, читатель, что упомянутый брат Фома, вернувшись в город Сиену, выяснил, как он указал в своих записях, а я лично услышал из его уст, что в тот самый час, нет, в то самое мгновение, когда он мысленно призвал деву на помощь, она сказала своей сподвижнице, бывшей тогда с нею: «Отец мой зовёт меня, и я знаю, что великая нужда постигла его». Сказав сие, она встала и пошла в уголок, где обычно молилась. Не сомневаюсь, что, ещё произнося эти слова, она мысленно молилась о его спасении, и силою её молитвы произошла столь чудесная перемена в сердцах тех разбойников; и она не отступала от молитвы, пока вышеупомянутым братиям не вернули почти все вещи и не освободили. Ты понимаешь, читатель, каким совершенным пророческим духом обладала душа этой девы?! Ведь она на расстоянии двадцати четырёх миль мгновенно почувствовала зов, причём даже беззвучный, и пришла на помощь в опасности так скоро и так успешно! А видишь, как полезно иметь общение с теми, кто одарён ангельской прозорливостью? Ведь они как бы заглядывают вдаль и, укреплённые божественною силой, приходят на помощь в трудную минуту тем, кто сталкивается со всякими бедами. Из сего можешь заключить, сколько теперь всего видит и может сия преподобная дева на небесах, коль прежде, на земле, она была так прозорлива и могуча.
[285] Помимо уже рассказанного сообщу об одном событии, свидетелем которого я сам являюсь, а вместе со мною его свидетелем был (и есть) брат Пётр Веллетрийский, член моего Ордена, который сейчас исполняет должность пенитенциария в Латеранской церкви. А событие это ясно показывает любому разумному человеку, что сия преподобная дева чудесным образом сияла духом пророчества.
Это случилось в то время, когда по злонравию многих италийцев почти все города и земли, которые, как известно, с полным правом относятся к Римской епархии, восстали против тогдашнего Римского понтифика Григория XI, что было в год Господень 1375-й. Преподобная дева находилась городе Пизе (где и я был тогда), а в те дни, когда пришла новость о восстании города Перуджи, она жила в некоем приюте, который был недавно открыт в каких-то домишках, что и доныне стоят на площади вокруг церкви и обители пизанской общины моего Ордена, упомянутого выше. Итак, прослышав о новости, я чрезвычайно огорчился душою, помышляя, что нет уже в христианах ни страха Божия, ни благоговения перед святой Церковью Божией, а следовательно, никого не заботит опасность подвергнуться отлучению или нарушение не просто чужих прав, но прав Невесты Христовой. Мучаясь внутренне сердечной скорбью, печальный и понурый, я в сопровождении вышеназванного Петра Веллетрийского пришёл в упомянутый приют, где остановилась преподобная дева, и со слезами сердечными и телесными возвестил ей упомянутую новость. Услыхав же сие, она поначалу искренне мне сочувствовала и соболезновала о гибели душ и столь великом смущении для Церкви Божией.
[286] Однако видя, что я слишком предаюсь слезам, она наконец, дабы я обуздал свой плач, проговорила: «Не спешите поднимать плач, ибо слишком много придется плакать. Ведь то, что вы ныне видите, это молоко и мед по сравнению с тем, что последует». Что услыхав, я продолжил лить слёзы – не утешения, а горшей скорби и изумления, и спросил её, сказав: «Можем ли мы, матушка моя, увидать ещё большие беды, чем те, что видим теперь, когда христиане потеряли всякое благоговение и почтение к Святой Церкви и приговоров её ничуть не боятся, поступками своими словно бы полностью её публично отвергая? Дальше ничего не остаётся, как только полностью отречься от веры Христовой!» Тогда она: «Отче, так пока поступают миряне, но скоро вы увидите, насколько хуже себя поведут клирики!» И я, ещё сильнее изумившись, спросил: «О горе мне! Неужто даже клирики взбунтуются против Римского понтифика?» А она: «Вы ясно поймёте, когда он попытается исправить их дурные нравы: ибо тогда они поднимут общее возмущение во всей Святой Церкви Божией, которая, подобно еретической заразе, разорвет её и утеснит». На что я, как будто уже обезумев от изумления, возразил: «И у нас будет ересь, о матушка моя, и новые еретики?!» А она: «Это будет не собственно ересь, а почти ересь и некое разделение Церкви и всего христианства. Итак приготовьтесь к терпению, поскольку вам надлежит увидеть сие».
[287] На это я промолчал и, всмотревшись в говорившую, понял, что она готова была ещё много добавить, но, дабы не прибавлять мне горестей, сдержалась. Признаюсь также, что тогда я не понял её по скудости разума моего, поскольку думал, что всё сие должно было произойти во времена тогдашнего Верховного Понтифика, вышеупомянутого владыки Григория XI. По кончине же его я было почти забыл вышеприведённое пророчество, однако при его преемнике владыке Урбане VI, когда я увидел начало нынешнего раскола в Церкви («Великий западный раскол» 1378 – 1417 гг. – прим. пер.), то воочию убедился, что всё предсказанное ею мне подтверждается, и, упрекая себя самого в скудоумии, ждал встречи с нею, чтобы ещё раз посоветоваться. Каковую возможность мне Господь и даровал, когда уже после начала раскола святая дева по приказу вышеназванного владыки Урбана прибыла в Город. Тогда я напомнил ей слова, сказанные мне ею несколько лет назад в Пизе, к каковым она, сама их отлично помня, теперь прибавила: «Как я тогда говорила вам, что то были молоко и мед, так ныне говорю вам, что то, что вы наблюдаете в настоящее время, – это детская игра по сравнению с тем, чему предстоит произойти, особенно в окружающих государствах», назвав мне Сицилийское королевство наряду с Римским государством и соседними областями. Что впоследствии и подтвердилось на деле. Призываю небо и землю в свидетели: ведь королева Иоанна (Иоанна I, 1325/1326 – 1382 гг., королева Неапольская с 1343 г. – прим. пер.) тогда всё ещё была жива, но сколько потом последовало бедствий как для неё, так и для преемника её на королевском престоле, а также для тех, кто пришел из отдаленных мест; а сколько было опустошений, то не укрылось ни от кого из знающих эту страну.
Итак, читатель, теперь ты понимаешь, если только не совсем безрассуден, каково было обилие пророческого духа в преподобной деве, коль почти ничего сколько-нибудь примечательного или выдающегося в будущем не было скрыто от неё.
[289] Но чтобы ты не сказал, как Ахав о Михее, что, мол, она пророчествовал нам не доброе, а худое (ср. 3 Цар. 22:8), то после горького, что я сообщил, предложу сладкое, чтобы из чистейшей сокровищницы девы вынести пред твой взор новое и старое (ср. Мф. 13:52).
Да будет же тебе ведомо, что после того, как она предсказала мне в Городе то, что я только что написал, объяла меня любознательность и, чтобы узнать о дальнейшем, я спросил её: «Матушка достославная, ради всего святого, скажи, что последует за этими бедами во Святой Церкви?» А она: «Когда окончатся сии скорби и бедствия, Бог незаметным для людей образом очистит Церковь Святую Свою и пробудит дух избранных Своих, после чего последует такое преобразование Святой Церкви Божией и обновление святых пастырей, что от одной мысли о том возрадовался дух мой о Господе; и, как я часто говорила вам прежде, Невеста, которая ныне почти целиком обезображена и оборвана до лохмотьев, будет тогда всех прекраснее, и украсится драгоценными самоцветами, и увенчается венцом всяческих добродетелей; и все верные народы возрадуются, будучи почтены столь святыми пастырями, да даже и неверующие народы, привлекаемые благоуханием Иисуса Христа, возвратятся в овчарню Католичества и обратятся к истинному Пастырю и Епископа душ своих. Итак, благодарите Господа, ибо после сей бури Он даст Своей Церкви чрезвычайно великий покой!» И сказав сие, смолкла.
Ну а я, зная, что Всемогущий Бог более склонен потчевать нас сладким, чем горьким, всемерно надеюсь, что, как произошли предсказанные сей преподобною девой беды, так непременно последуют и блага. Из чего ясно станет всему народу Израильскому от Дана до Вирсавии, что дева Екатерина Сиенская удостоена быть правдивой и верной пророчицей Господней (ср. 1 Цар. 3:20).
[290] Но поскольку недостаточно заявить об истине, не защитив её от клеветников, то считаю целесообразным, рассказывая о её истинных пророчествах, обличить ядовитое невежество тех, кто, сам не понимая, что говорит, осмеливается хулить её истинные пророческие речи и измышляют клеветнический поклёп на её святость. А чтобы расцветить свои лживые обвинения, они единогласно утверждают, будто она предсказала, что скоро начнётся святой и всеобщий поход верных в заморские края (т.е. крестовый поход) и что она отправится туда со своими последователями, а поскольку прошло много лет с тех пор, как она преставилась от сего света, да и многие из её последователей обоего пола последовали за нею (во что стоит верить) в небесные обители, и все они, без сомнения, не отправятся в оный поход, то из этого хотят сделать вывод, что её слова не следует оценивать как пророческие речи, а, скорее, не обращать на них внимания, как на бабью болтовню. Притом некоторые из них, что подлее прочих, пытаются доказывать, что не только слова, но и дела оной преподобной девы ничего не стоят, и их ни в коем случае не следует ставить в один ряд с деяниями святых. По таковой причине я вынужден вступить в единоборство с оной чудовищной клеветою, прежде всего пояснив ложность того, на чём основываются такие хулители, а затем, коль Господь даст, распутав по мере своих силёнок кое-что в толковании пророчеств, дабы таким образом сугубо изобличить «слово порочное» (Cic., De Opt. Gen., 144a) и «лживый язык» (ср. Прит. 21:6).
[291] Конечно, я признаю, что сия преподобная дева на самом деле всегда стремилась отправиться в святой проход и много приложила усилий для исполнения своего желания; это и было едва ли не главной причиной её поездки к упомянутому владыке Григорию XI в Авиньон: побудить его объявить святой поход, что он и исполнил, как могу засвидетельствовать я, который видел и слышал, и был с нею во всевозможных обстоятельствах (ср. 1 Ин. 1:3). Вот, припоминаю, что, когда она однажды долго убеждала в этом упомянутого понтифика, а я, пользуясь своим присутствием, слушал (поскольку был переводчиком между понтификом, говорившим на латыни, и девой, которая изъяснялась на простом тосканском наречии), названный понтифик ответил ей: «Надо бы нам сначала помирить христиан, а уж потом объявлять святой проход». На что она так возразила: «Святый Отче, вы не найдёте лучшего пути умиротворения Христовых последователей, чем объявить святой проход. Ибо все эти воители, что являются топливом междоусобиц среди верных, охотно отправятся послужить Богу своим ремеслом. Ведь мало таких нечестивцев, что не возымели бы охоты на служение Богу тем делом, какое им по душе; и тех, кто не пожелал бы с охотою искупить свои грехи в этом деле. Когда ж удалится топливо, придётся удалиться и огню. Итак, Святый Отче, вы одним махом сотворите изрядно хорошего. Вы принесёте мир христианам, желающим покоя, а воителей тех, запутавшихся во грехах своих, приобретёте [Христу], даже потеряв. И если они одержат какую-нибудь победу, вы ещё далее продвинетесь вместе с другими князьями христианского мира, а если они умрут там, вы приобретёте те души, которые прежде были, можно сказать, потеряны. Следовательно, из этого вытекают три добрых последствия, а именно: мир для христиан, покаянный подвиг для оных ратоборцев и спасение множества сарацин!»
Сие я теперь пересказываю для того, благосклонный читатель, чтобы ты уразумел, с каким рвением и с какими усилиями сия святая дева добивалась святого похода.
[293] Итак, после сей оговорки, я в опровержение лгунов [заявляю], что не помню, чтобы когда-либо слышал от неё – наедине или прилюдно – определённого предсказания сроков какого-либо грядущего события; более того, я обнаружил, что в этом она особенно осмотрительна, потому что, даже когда я порой спрашивал о сроках некоторых из её предречений, мне никогда не удавалось добиться от неё точного времени, ибо она всё предоставляла Божественному провидению. Правда, однако, и то, что она часто говорила о святом походе, всячески по мере сил вдохновляла и побуждала к нему, и говорила о своей в Господе надежде на то, что Он призрит на народ Свой оком милосердия и спасёт таким образом многих – как верных, так и неверных. Но то, что она заявляла, будто поход должен состояться в такое-то время, или что она говорила, якобы вместе со своими отправится туда [за море], никто с чистой совестью подтвердить не может. Хотя, похоже, некоторые поняли из её слов, что этот поход должен быть скоро объявлен, и что-то там ещё, но [эти толкования] произошли от невнимательности слушателей, а не от [неясности] языка говорившей; и поскольку уже прошло столько времени, а никакого объявления [о походе] всё нет, они изрядно соблазнились о том.
Ну а теперь, когда ложные основания, на которых зиждутся вышеназванные хулы или хуления, низвергнуты, ты, добрый читатель, если внимал всему вышенаписанному, то ясно видишь, что сия преподобная дева повторяет за своим Женихом те слова, которые Спаситель, согласно рассказу евангелиста Матфея, сказал ученикам Иоанна Крестителя, перечислив чудеса, которые сотворил у них на глазах, под конец добавив: «И блажен, кто не соблазнился о Мне» (Мф. 11:6). Почему же Он упомянул соблазн вместе с чудесами, если не потому, что людям порочным свойственно под давлением собственных пороков соблазняться о благости Бога и чудесных деяний Его? Так же они, вместо того, чтобы назидаться от слов и дел сей благой девы, не разумея их, соблазняются.
[293] Но предположим, она сказала, что святой поход должен начаться вскоре; могут ли они сами с чистой совестью сказать, что это неправда? Когда евангелист Иоанн приводит в Апокалипсисе сказанные ему Господом слова: «Се, гряду скоро» (Отк. 3:11), некоторые понимают под этим второе пришествие, а между тем Он сказал тут чистую правду. Услышь, ради всего святого, как Августин толкует псалом «Не ревнуй злодеям» (Пс. 36). «Что медленно, – молвит он, – для тебя, то для Бога «скоро»; соединись с Богом, и для тебя будет «скоро»» (Augustinus Hipponensis, Enarrationes in Psalmos, XXXVI.3 // PL 36). И ещё в другом пророческом писании сказано: «Хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится» (Авв. 2:3).
Итак, Господь может дать отсрочку в меру слабости твоей, но отнюдь не может отменить. Обрати ещё внимание, с каким пылом пророки обещали пришествие Спасителя, даже подчёркивая его близость, так что один из них, а именно Исаия, сказал: «Близко время его, и не замедлят дни его» (Ис. 14:1), а ведь после сего [пророчества] прошло много сотен лет, прежде чем увидели его исполнение.
Так почему же они ропщут на деву Екатерину из-за десяти-двенадцати лет, если видят, что пророки и Ветхого, и Нового завета предсказывали столь глубокие тайны за сотни лет, и тем не менее писали, что сие будет скоро? Если они считают её ложной [пророчицей] из-за двенадцати лет, то тех [пророков] из-за сотен лет [отсрочки] тем более должны назвать ложными.
[294] А ещё, прошу, задумайся, как бы они заговорили, если бы сия дева сказала какому-нибудь королю или понтифику, страдающему телесной болезнью, что он должен умереть из-за этой болезни, как Исаия возвестил царю Езекии (см. Ис. 38), а он затем выздоровел бы? Точно так же, если бы она возвестила какому-либо городу, что он должен подвергнуться полному истреблению, как Иона, согласно Писаниям, проповедовал в Ниневии (Ион. 3:4), и этого бы затем не произошло, как этого не произошло тогда с Ниневией? О, да они в открытую обрушились бы на неё со злобными насмешками! И тем не менее оные святые пророки ничуть не обманулись в вышеупомянутых предсказаниях, и их не вдохновляло ничего, кроме оной Истины, Которая не может ошибаться. Как же может так быть, чтобы они в согласии с истиной предсказывали нечто в будущем, что затем явно не сбывается? Наставники священной науки объясняют это, говоря, что для истинности пророчества достаточно, чтобы слово пророческое согласовывалось с направленностью действующих сил, что ясно видно в случае вышеупомянутого царя Езекии, который несомненно страдал смертельной болезнью, и по всем природным законам тело его постепенно умирало, хотя, может быть, сам он надеялся излечиться естественными средствами. И вот, пророк возвестил ему это, потому что, очевидно, по естеству не было способа избежать смерти. Но он и не отвергал этим, что Божественная мощь может чудом исцелить его, что и случилось после его плача и горячей молитвы. Истинно, значит, сказал Исаия, что он под действием естественных причин непременно умрёт, и этому не противоречит то, что ему предстояло избавиться от смерти другим путем. Подобно же и пророк Иона, который сказал, что Ниневия будет разрушена, и установил срок в сорок дней, выразил в этой проповеди тяжесть грехов ниневитян и указал, какой приговор или наказание они заслужили за свершение грехов оных. И всё же Святой Дух не хотел высказать этим, что приговор будет прежним, если они оставят свои грехи.
Из чего ты можете ясно заключить, что слова пророков (а особенно тех, чья близость Богу очевидна из других святых деяний) должно всегда принимать с великим благоговением и толковать с благоразумной осторожностью, что, думаю, необходимо и в нашем случае. Ибо кто знает, вдруг святая дева предвидела, что святой поход свершится, пускай и через много лет да и после её преставления от мира сего, однако по её предстательству и молитвам, которые, без сомнения, ныне более действенны на небесах, чем тогда были на земле? Опять же, кто знает, вдруг она, хоть и не смогла присутствовать телесно, в должное время была в духе направлена Богом ободрять и укреплять участников похода? Или – вымаливать отдохновение и утешение для тех, кто прилагает труды к его осуществлению? Не является сие чем-то небывалым и необычным для Вечноблагого, Кто, несмотря на то, что всё может Сам, однако, дабы приобщить к Себе творения, кои избрал для Себя, с их помощью руководит и правит нами и посредством творений ведёт нас к беспредельной цели. Сих доводов против упомянутых выше хулителей тебе, читатель, пока должно быть достаточно, так что перейдём к другим историям, связанным той же темой.
[295] Как мы уже сказали выше, когда шла речь о чудесах, насколько дух по достоинству превосходит тело, настолько чудеса духовного исцеления превосходят знамения, совершённые ради здоровья тела. Сего ради, развивая тему пророчеств, видимо, следует уделять больше внимания тем, что касаются исцеления душ; и поэтому я поведаю об одном случае, ибо тот, кому и о ком было дано пророчество, и так что ни день рассказывает это всем желающим послушать.
В то время, как я удостоился знакомства с благою сей девой, жил в городе Сиене некий юноша, происхождения благородного, однако поведения в ту пору далёкого от благородных приличий, а звали его и зовут Франческо де Малавольти. В юном возрасте лишившись родителей, он от слишком большой свободы стал жертвою множества довольно значительных пороков. И хотя, заключив брак с некой юницей, он столкнулся с необходимостью воздерживаться от привычных глупостей, тем не менее, отказаться от своего скверного навыка был не в состоянии. Видя это, некий сотоварищ его, что следовал за преподобною девой, сжалившись над душою его, убедил его послушать наставлений девы и стал иногда приводить [к ней]. Сие часто оказывало глубокое действие на оного Франческо, и он на какое-то время оставлял порочные привычки, хотя и не совсем от них отказался. И в самом деле, я весьма часто видел, как он входил и выходил с нами, и находил пажить (ср. Ин. 10:9) спасительного учения вкупе с полезными примеры девы сей благой, и, по крайней мере, какое-то время радовался им, но после этого возвращался к своим прежним дурным привычкам и к игре в кости, к каковой был болезненно привязан.
[296] Посему преподобная дева, которая о его спасении часто молила Бога, видя, как часто он возвращается к прежнему, однажды в пылу духовном сказала ему следующее: «Ты часто приходишь ко мне, а затем, как бешеная птица, улетаешь к различным порокам своим; но давай, лети куда хочешь, ведь однажды, по милости Господа, я привяжу тебя за шею так, что больше уж не улетишь». Сии слова запомнил и сам Франческо, и все присутствовавшие, но затем, прежде чем слова подтвердились на деле, преподобная преставилась от мира, а он вновь обратился к обычным своим прегрешениям, ведь ему уже не было где (как казалось) искать прежнего целительного средства.
Но преподобная дева, оказавшись на небесах, делала много – даже больше, чем тогда, когда наставляла его на земле. Ибо после преставления девы в одно и то же время умерли жена и тёща Франческо, а также некоторые другие, представлявшие препятствие его спасению, а сам он, окончательно взявшись за ум и напрочь отринув мир, с немалым благоговением вступил в общину Братьев с горы Оливето, где по благодати Божией и предстательству сей девы подвизается, всегда готовый признать, что достиг сего по её заступническим молитвам и что сие было предсказано ему пророческим речением чрез неё, – о чём он каждый день свидетельствует всем, кто желает послушать, и громогласно возвещает, да и мне многократно то повторял, благодаря Бога и святую деву.
[297] Наконец, чтобы связать духовную тему с духовной особой, я расскажу о чуде, которое было явлено Господом в моём присутствии, хотя (как будет видно ниже) куда лучше о нём осведомлён дом Варфоломей Равеннский, муж, вне всяких сомнений, исполненный набожности и благочестия, а также неоднократно испытанного благоразумия, тогдашний и нынешний приор картезианцев острова Горгона, что находится примерно в 30 милях от порта Пизанского.
Благодаря чудесному учению и удивительным деяниям преподобной девы он проникся к ней глубочайшим расположением и утвердился в своём святом подвиге, а потому многократно, часто и настоятельно умолял её, чтобы она хоть раз прибыла на упомянутый остров и позволила ему привести к ней свою братию послушать слова святого назидания; и меня уговаривал по возможности содействовать исполнению его просьбы к ней с ней. Вняла святая дева его просьбе, и отправились с нею туда около двадцати человек обоего пола. Когда же мы прибыли, упомянутый настоятель в ту ночь разместил святую деву с её сподвижницами на расстоянии мили от монастыря, а нас оставил с собою в монастыре; утром же, намереваясь исполнить свой замысел, он привёл к ней всю братию и попросил слова назидания для чад своих. Хотя поначалу она отказывалась и отнекивалась, ссылаясь как на слабость разума и невежество, так и на пол свой, добавляя, что скорее ей подобало бы слушать учение рабов Божьих, чем говорить что-либо в их присутствии, однако, побеждённая настоятельнейшими мольбами отца и чад его, наконец отверзла уста свои и говорила (ср. Мф. 5:2) так, как Дух давал ей провещевать (ср. Деян. 2:4), касаясь многочисленных и различных искушений и обманов, которые враг обычно чинит мужам-отшельникам, и способов избежать его ловушек и одержать полную победу – да так хорошо и складно, что как я, так остальные слушатели были повергнуты в изумление. Когда же она закончила свою речь, названный приор повернулся ко мне в немалом удивлении и сказал: «Брат Раймонд, дражайший, да будет вам ведомо, что согласно обычаю нашего Ордена один лишь я принимал исповеди всех этих [иноков] и знаю, в чём каждый из них терпит неудачу, а в чём преуспевает. А теперь говорю вам, что если бы святая дева слышала те исповеди, которые слышал я, то она не могла бы лучше и больше сказать к потребе каждого из них, не опуская ничего из того, что им нужно, и не отвлекаясь на то, что им не нужно. Из чего я ясно вижу, что она исполнена духа пророчества, и Дух Святой говорит в ней (ср. Мф. 10:20).
[298] Наконец, помимо всего вышесказанного, я знаю – и знаю наверняка, – что и обо мне лично, хоть и без моего ведома, она прорекла многое, что с очевидностью наблюдается в настоящем. О чём я не буду особенно распространяться, потому что и язык, и стиль мой предстали бы пред лицом слушателей или читателей в своём чрезмерном убожестве; по каковой причине я предоставляю другим сынам и дочерям [Екатерины] право поведать о том.
Предсказала она также некие суровые кары для тех, кто преследует Святую Церковь, о чём я промолчу из-за злобства нынешних людей, чтобы не дать пищи ядоносным хулителям её славной памяти. Так что этой главе я полагаю конец, чтобы перейти к иным вопросам.
[ГЛ. XI.]
[299] Поскольку по первому правилу справедливости тому, кто совершенно послушен Богу, с необходимостью послушно всё, постановил я, любезный читатель, поместить в этой главе некоторые примеры, которые ясно покажут тебе, что сия дева была в высшей степени Творцу послушна, из-за чего творения слушались веления её.
В ту пору, когда преподобная сия дева жила в Сиене, но прежде, чем я удостоился знакомства с нею, случилось так, что некая молодая вдова по имени Алессия с таким пылом прилепилась к святой деве, что без неё чуть ли не отказывалась жить. По каковой причине она благоговейно приняла хабит, какой носила дева, и, оставив собственный дом, наняла по соседству от оной девы, чтобы иметь больше возможности услаждаться общением с нею. После этого дева Господня стала избегать суеты отцовского дома и часто оставалась в доме Алессии по нескольку дней, а иногда недели и месяцы.
Случился же в один год недостаток пшеницы в городе Сиене, да такой, что горожане покупали в основном засохшую пшеницу, хранившуюся в землянках и пропахшую плесенью, потому что в то время никакой другой пшеницы нельзя было найти ни за какие деньги; вот и Алессии пришлось купить такой пшеницы, чтобы не остаться совсем без хлеба. Правда, поскольку приближалось время жатвы, прежде чем кувшин этой заплесневелой муки истощился, на рынок привезли новую и чистую пшеницу. Прослышав о том, Алессия решила выбросить эту зловонную муку и печь хлеб из нового зерна, что она купила. Но поскольку в то время у неё дома жила святая дева, то она открыла ей свои помыслы, сказав: «Из этой муки, матушка моя, получается такой вонючий и горький хлеб, что, коль скоро Господь явил нам свою милость, я решила выбросить то немногое, что осталось». На что дева ответила ей: «Неужели ты хочешь выбросить то, что Бог произвёл в пищу людям? И если ты не хочешь есть этого хлеба, то отдай его хотя бы нищим, у которых и того нет». Когда Алессия возразила, что ей совесть не позволит даже нищим давать такой плесневый и смрадный хлеб, но лучше она вдоволь попотчует их хлебом из хорошей пшеницы, дева прибавила, молвив: «Приготовь воды и принеси муку, которую ты решила выбросить, ибо я сама попытаюсь испечь из неё хлеб для нищих Иисус Христовых». Сказала, и всё было сделано.
[300] Так вот, дева сначала замесила тесто, а затем налепила хлебов из малого количества той заплесневелой муки, причём так быстро и так много, что Алессию и её служанку оторопь взяла при виде этого; ибо даже из четырёхкратного, а то пятикратного количества муки невозможно было бы испечь столько хлебов, сколько преподобная дева подавала целомудренными своими руками Алессии, чтобы та разложила их на противнях; причём от этих хлебов не чувствовалось никакого зловония в отличие от других, которые прежде пекли из той же муки. После того хлебы, слепленные девой, отправили в пекарню, вернули [готовые] в дом Алессии и по повелению девы возложили на стол. А когда сотрапезники попробовали их, то не заметили отнюдь никакой ни горечи, ни плесневой вони; мало того, признались, что никогда не едали такого вкусного хлеба.
Сие стало известно брату Фоме, духовнику девы, который пришёл с несколькими учёными братьями и благочестивыми людьми, которые, изучив дело, были поражены, видя, что оные хлебы так прибавились в количестве и так чудесно улучшились качеством. Но к этим двум дивным свершениям прибавляется третье, ибо хотя по велению девы хлеб оный со всей щедростью раздавали нищим и преобильно оделяли им братию, да и никакого другого хлеба в доме не ели, в ларе неизменно оставалось его большое количество. Короче говоря, с одним только хлебным веществом Господь сотворил чрез невесту Свою три немалых знамения, ибо, во-первых, плесень и зловоние от оной муки удалил; во-вторых, прирастил тесто, из неё замешанное; в-третьих, умножил хлебы в ларе так, что при описанной выше раздаче все перечисленные люди едва смогли их съесть за несколько недель. Приметив сие, они и те, чьих сердец коснулся Бог, сохранили немного этого хлеба как святыню, так что доселе живы некоторые мужи и жёны, которые имеют в наличии частицы его, хотя минуло уже двадцать лет или около того, как сие чудо свершилось.
[301] Но и я, когда впервые при её жизни прослышал о том, проникся любопытством и, жаждая как можно точнее узнать, как это произошло, стал расспрашивать её наедине, почему да как. На что она молвила: «Ревность овладела мною, дабы дарованное Господом не оказалось в пренебрежении, и сострадание к нищим жгло меня; посему я с пылом подошла к мучному ларю, и тут же явилась милейшая моя Владычица Мария в сопровождении множества святых и ангелов и велела мне сделать то, что я и собиралась; и такое проявила Она снисхождение и любовь, что всесвященными руками Своими начала лепить хлебы те, а силою оных священных рук хлебушки и умножились. Ибо же Владычица сама давала мне вылепленные Ею хлебы, а я подносила их Алессии и служанке». Тогда я молвил: «Тогда ничего удивительного, матушка моя, что хлебы сии были так вкусны для меня и для других евших, раз слепили их точёные ручки оной Пресвятой Царицы, ведь в ларце Её всесвященного тела высшим искусством Троицы был вылеплен (так сказать) Хлеб, который сходит с небес и жизнь даёт всем верующим (ср. Ин. 6:33)».
Заметь же, читатель, ещё раз и обрати внимание на то, сколько заслуг было у сей девы, которой Царица Небесная изволила помочь в приготовлении хлеба для чад своих. Родительница Слова Божия тем самым дала нам уразуметь, что чрез ту самую деву, руками которой Она дала нам хлеб телесный такого качества, намерена уделить нам и духовный хлеб спасительного слова. Посему все мы, как бы понуждаемые духом Божиим, называли сию [деву] Матушкой, и небезосновательно: ведь она поистине была матерью, которая непрестанно рождала нас не без стонов и тревог из чрева души своей, доколе не изобразился (formaretur, – в Вульгате, как и в греческом тексте глагол указывает на формирование подобное образованию ребёнка или… лепке хлеба из теста. – прим. пер.) в нас Христос (ср. Гал. 4:19), и непрестанно питала нас хлебом разумного и здравого учения.
[302] Далее, с того места, где зашла речь о умножении хлебов, я в продолжение темы перейду, не соблюдая временной последовательности, к тем [чудесам], которые свершились под конец её жизни.
Итак, доселе живы (и их можно найти в Городе) две сестры Покаяния бл. Доминика, одна из которых зовётся Лиза, что была женою брата святой девы, а следовательно, её «сорорина» (слово, встречающееся только в этом тексте, возм. диалектное. – прим. пер.), то бишь невестка, о которой весьма часто упоминается выше; другая же – Джованна по фамилии Капо, обе родом из Сиены. Они были с девой, когда она приехала по велению блаженной памяти владыки Урбана VI, папы, в Город, где поселилась в квартале Колонна с немалым числом сынов и дочерей, которых во Христе породила и в святых нравах воспитала. Они следовали за нею из Тосканских пределов чуть ли не вопреки её желанию: одни – с целью паломничества и поклонения святым, другие – из-за духовных милостей, которые намеревались выпросить у Верховного понтифика, но все – ради того, чтобы насытиться сладостью общения с нею, каковое чудесным образом доставляло усладу всем вкушавшим его. К этому прибавилось ещё то обстоятельство, что Верховный понтифик повелел пригласить в Город нескольких слуг Божиих по просьбе Екатерины, а она из любви к гостеприимству всех их с радостным сердцем приняла в доме, где сама обитала. А так как она ничем земным не владела, и не было ни золота, ни серебра в поясах её (ср. Мф. 10:9), мало того, вместе с ближайшими друзьями получала пропитание от простого нищенства, тем не менее приняла бы сотню гостей как одного, потому что сердце её уповало на Господа и она не сомневалась, что Он позаботится о всех прибывающих по Божественным щедротам Своим. По этой причине в доме её в то время жило самое малое шестнадцать мужчин и восемь женщин, а когда прибывало, то иногда превышало в целом тридцать, а иногда доходило до сорока человек, по крайней мере, приблизительно. И такое было дано распоряжение девой сей преподобной, чтобы каждая из упомянутых женщин по одной неделе исполняла обязанности стряпухи и хозяйки, чтобы другие могли посвящать своё время Богу и тем делам или паломничествам, ради которых они прибыли в Святой город.
[303] И вот, когда действовало сие распоряжение, очередь исполнять заниматься хозяйством выпала вышеозначенной Джованне ди Капо. Поскольку же хлеб, которым кормились все в доме, можно было получить не иначе, как ежедневно прося милостыни, Екатерина распорядилась, чтобы каждая недельная хозяйка, когда у нее кончается хлеб, извещал деву накануне, чтобы она успела послать кого-нибудь либо сама пойти просить милостыню. Но сии слова Джованна волею Божией как-то раз случайно забыла; и когда вечером закончился хлеб, ни деве о том не сообщила заранее, ни сама не добыла его где-нибудь ещё. Поэтому, когда люди сошлись к обеду, в ларе обнаружилось так мало хлеба, что его едва хватило бы на четверых из них. Тут упомянутая Джованна, осознав, что провинилась нерадением, тотчас же в печали и стыде пошла к деве и рассказала ей о своей провинности и недостатке хлеба. На что дева ей: «Помилуй тебя всемогущий Боже! Сестра, почему ты довела нас до такой крайности вопреки данному мной распоряжению? Вот, община наша голодна, ибо час поздний; где мы так срочно найдем вдоволь хлеба?» Когда же Джованна принялась причитать, что виновна и достойна наказания и согрешила по забывчивости, молвила дева: «Скажешь слугам Божиим, чтобы шли к столу». А на её возражение, что хлеба совсем мало и что каждому не хватит даже понемножку, дева ответила: «Скажешь, чтобы начинали понемножку с этого, пока Господь не позаботится о них». И сказав сие, пошла молиться.
[304] Джованна выполнила приказ и разделила малость хлеба между многими. Они же, будучи голодны и изнурены каждодневным строгим постом (ибо большинство из них постились), жадно поглощали убогое угощение, думая, что тут обед и закончится... Короче говоря, ели они, ели, а малое количество этого хлеба всё никак не истощалось. Каждый уже слепил из него себе комок, каждый вволю наелся, а хлеб на столе всё ещё оставался. И неудивительно, ведь сие сотворил Тот, кто пятью хлебами насытил пять тысяч человек. Все дивились и переглядывались с изумлением и спрашивали, что делает дева. И сказали им, что молится она ревностно. Тогда те шестнадцать человек, придя к единодушному заключению, сказали: «Это по той молитве дарован был хлеб с небес (ср. Ин. 6:32), ибо же вот, все мы сыты, а от малости хлеба, данного нам, не убыло, но ещё и прибавилось». Когда же обед закончился, на столе осталось столько хлеба, что его хватило на всех сестёр, бывших тогда в доме, которые после них обильно пообедали, да и щедрую милостыню из того подали нищим по велению девы.
О точно таком же знамении, случившемся в том же году, рассказывают вышеупомянутые Лиза и Джованна, засвидетельствовав и ныне свидетельствуя, что Господь свершил его чрез оную деву в том же доме в какую-то из недель Четыредесятницы, когда на хозяйстве была некая Франческа, одна из Сестёр Покаяния бл. Доминика, неотлучно находившаяся при деве и, свято верю, ныне пребывающая с нею на небесах.
[305] Правда, я не в силах промолчать об одном случае, произошедшем со мною уже после её преставления на небеса, и тут у меня столько же свидетелей, сколько было в то время братьев в сиенской обители. Я был в оной обители почти пять лет назад, поскольку по совету врачей мне нужно было посещать горячие источники, находившиеся там рядом; тогда по настоянию сынов и дочерей Екатерины я начал писать это житие. И вспомнил я, что её священная глава, которую я перенёс туда из Города и по мере своих убогих возможностей украсил, всё ещё не была выставлена на общее обозрение, да и не было никаких торжеств в связи с её прибытием, хотя даже погребальные носилки мирских людей при перенесении с места на место как правило и народ, и духовенство встречает зажжёнными свечами и торжественными молитвами. И вот я подумал (а может быть, и не совсем от меня была та мысль), что надо бы в какой-нибудь день устроить с братией торжественную встречу вышеупомянутой главе, как бы прибывающей издалека, с песнопениями – обычными, впрочем, потому что гимны, посвящённые ей самой, петь не подобает, пока Римский понтифик не внесёт её в святцы. Что однажды утром и свершилось на радость братии и народа, а особенно – её духовных сынов и дочерей. По этому случаю я пригласил всех её ближайших воспитанников на обед, распорядившись также, чтобы для монастырской братии отдельно подготовили постное.
[306] Итак, по окончании богослужения, когда уже пора было садиться за стол, брат-келарь пошёл к приору и сокрушённо посетовал, что хлеба в кладовой не хватит даже половине братии к первому блюду, не говоря уже о том, что нечего дать приглашённым гостям, которых было около двадцати. Услышав такое, приор первым делом захотел увидеть это сам, а убедившись, что всё так и есть, тотчас же послал того же брата с братом Фомою, первым духовником девы, по домам особо близких друзей Ордена, чтобы доставить от них достаточно хлеба. Те сильно задержались в дороге, и приор распорядился подать вдосталь хлеба гостям, что были со мною, дабы им не пришлось дольше ждать; так что хлеба в погребе осталось совсем мало. Но поскольку упомянутые братья, посланные им, всё ещё задерживались, он повелел братии сесть за стол и начать с той малости хлеба. Короче говоря, то ли в кладовой, то ли на столе, то ли где-то ещё те хлебы по заступничеству преподобной девы чудесным образом так умножились, что всем собравшимся хватило тех немногих хлебов, как к первому блюду, так и ко второму, да ещё и остатки снесли в кладовую, хотя хватить должно было от силы на пятерых, а присутствовало там пятьдесят братьев или около того. Ну а к тому часу, когда собравшиеся поели, вернулись упомянутые братья с хлебом, и было сказано им, чтобы они отложили его их на другой раз, потому что Господь уже вполне позаботился о слугах Своих.
Итак, когда после обеда я сидел с гостями и вёл долгую речь о добродетелях сей девы, посреди нашего разговора явился приор с несколькими братьями и поведал во всеуслышание о вышеописанном чуде. Выслушав сие, я обратился к приглашённым чадам её и прибавил к его словам: «Преподобная дева в день торжества своего не пожелала оставить нас без того чуда, которое на земле было весьма ей свойственно; ибо при жизни она вновь и вновь совершала его, бывая с нами. И сего ради, желая показать, что сегодня она приняла служение наше и доселе с нами пребывает, вновь повторила чудо, за что Всемогущему Богу и ей воздадим благодарение!» После ж того мне пришло мне на ум, возможно, по Божию вдохновению, что, поскольку блаженнейший Доминик дважды при жизни повторил чудо с хлебами, то сия дева, как его несравненная и совершенная дочь, явила подобие отца во всех деяниях его.
[307] Помимо же всего вышеописанного, Господь ещё много чего дивного творил через Свою невесту с неодушевленными предметами: то с цветами, кои святую и цветущую деву весьма радовали; то с пропавшей или сломанной домашней утварью; то с теми, то с другими безделками, что я ради краткости опускаю.
Но об одном событии умолчать не могу, потому что я не один узнал о нём, но наряду со мною было ещё около двадцати надёжных свидетелей обоего пола; впрочем, слух о том прошёл по всему городу Пизе. Как упоминалось выше в главе о духе пророчества, в 1375 году от Рождества Христова преподобная дева посещала город Пизу, а едва прибыла в названный город, принята была вместе со спутниками на постой в доме некоего пизанского гражданина, которого звали Герардо деи Б[уонконти]. В то время как они находились там, однажды от чрезмерного исступления ума тельце её объяли немощи, которые, как нам казалось, доведут её до последнего издыхания. По этой причине я, боясь, как бы она не была отнята у нас слишком скоро, обдумывал, как бы нам её тело подкормить или подкрепить, ведь к мясу, или яйцам, или вину она испытывала такое отвращение, что не было надежды заставить её съесть что-нибудь из этого, впрочем, ещё с меньшей вероятностью поела бы она питательной похлёбки. Поэтому я попросил её позволить хотя бы подмешать немножко сахару к холодной воде, которую она пила. На что она мне тут же ответила: «Вы хотите совсем угасить ту малую толику жизни, что осталась в сем теле, ведь любая сладость стала для меня смертоносна».
[308] Тогда мы с упомянутым Герардо начали вместе думать, какое можно изыскать средство от этих немощей. Мне пришло в голову, что я часто видел в таких случаях, как места на руках и висках, где бьётся пульс, омывают или смазывают вином «верначча», и немощные от этого укрепляются. И сказал упомянутому Герардо: «Раз мы не можем дать ничего внутрь, применим, по крайней мере, наружное средство». Выслушав меня, он тотчас же ответил: «Есть у меня здесь один друг по соседству, у которого обычно имеется бочонок такого вина; я прямо сейчас пошлю к нему и уверен, что он охотно поделится». И пошёл посыльный, и рассказал ему о болезни девы, и от имени Герардо попросил кувшин «верначчи». Сосед, имени которого я не припомню, ответил: «Право же, дражайший, я бы с радостью дал тебе и целый бочонок для моего друга, но вот уже три месяца, как вино в бочонке совершенно закончилось, и в доме моем нет ни капли «верначчи», о чём я изрядно сожалею. Но чтобы ты мог воочию убедиться и засвидетельствовать это моему другу, зайди и посмотри». И, хотя тот отнекивался, провёл его в свой винный погреб и показал вышеупомянутый бочонок, который, как отчётливо распознал по некоторым внешним признакам посыльный, давно стоял нетронутым. Хозяин же, дабы окончательно убедить его, что внутри пусто, подступил к сосуду и из некоего отверстия, находившегося примерно посередине, вытянул ту деревянную затычку, через которую обыкновенно выпускают вино из винной бочки, желая наглядно показать, что внутри нет никакой жидкости. Но как только он это делал, тут же хлынула самая настоящая «верначча» и обильно увлажнила пол вокруг. А он изумился и, безмерно удивляясь, заткнул отверстие и созвал всех своих домочадцев обоего пола и усердно расспросил каждого, не знает ли, что в тот сосуд налито вино. Все клялись, что, как им достоверно известно, вина в том сосудце не было уже три месяца, и невозможно, чтобы без их всех ведома в него залили какую-нибудь жидкость.
[309] Сие событие стало известно остальным соседям, и каждый приписывал его божественному чуду. Посыльный же, придя к нам счастливый и изумленный, принёс кувшин, полный вина, и рассказал всё, что произошло, от чего все чада святой девы возликовали о Господе и возблагодарили Жениха девы, творящего чудеса (ср. Пс. 76:15). Но весь город так наполнился такой молвой, что через несколько дней, когда дева выздоровела и направилась к некоему патриарху, нунцию апостольскому, только что прибывшему в тот же город, всё пришло в движение, и даже все ремесленники, оставив свои занятия, бежали посмотреть на неё со словами: «Какова она, что вина не пьёт, а пустой сосуд смогла наполнить чудесным вином?» Дева же преподобная от сего стечения народу испытала глубокую сердечную скорбь, а узнав о причине стечения оного, как она впоследствии признавалась мне втайне, печально и горестно прибегла, как обычно, к молитве, скорее мысленно, чем вслух, произнеся примерно такие слова: «По что, Господи, изволил ты меня, ничтожнейшую рабу Твою, поразить таким сердечным мучением, чтобы я сделалась посмеянием для всех? (ср. Иез. 22:4) Все остальные слуги Твои могут жить среди людей, кроме меня. Кто просил вина у милости Твоей? Я по вдохновению благодати твоей давно лишила вина тело своё, а ныне из-за вина я стала посмешищем для всего народа (ср. Плач. 3:14). Ради всего милосердия Твоего, заклинаю Тебя любовью Твоей сделать так, чтобы вино то исчезло таким образом, чтобы молва, разошедшаяся среди сих людей, прекратилась!»
Короче говоря, услышал Господь голос (3 Цар. 17:22) её и, словно бы не в силах снести её сокрушения, прибавил к первому чуду второе, которое, по моему суждению, было не менее замечательно, а даже более. Ибо после того, как пустой сосуд наполнился почти доверху оным чудесным вином, многие граждане из чистого благоговения отпивали из него, а в сосуде при этом не убывало, но внезапно всё вино превратилось в осадки, и то, что прежде было сугубо вкусно, стало тогда нестерпимо из-за гущи осадков. Поэтому-то хозяину того винного погреба и тем, кто приходит испить, пришлось умолкнуть. Устыдились вместе с ними и мы, чада преподобной девы, услыхав сие, зато сама дева, совершенно радостная и весёлая, возносила благодарение Жениху своему, избавившему её от всеобщей похвалы людской.
[310] Здесь, читатель, ради всего святого, замедли шаг и поразмысли о дивных делах Божиих, коих человек несмысленный не знает и невежда никак не может уразуметь (ср. Пс. 91:6-7). Без просьбы сей девы, более того, без её ведома Господь совершил столь для всех явное и столь великое чудо, а в итоге по её просьбе, как видно, разрушил то, что сделал. Почему так вышло? Какова цель этих двух противоположных действий? Неужели, как тогда, вероятно, говорили или, по крайней мере, бормотали клеветники, первое чудо исходило от вражьего обмана, что затем и выявилось, когда напиток испортился? Но даже если бы всё это и было правдой, то всё равно из [утверждения] вышеупомянутых ничего против святости девы следует. Ведь о первом чуде она попросту не знала, и оно было устроено [врагом] или совершено [Богом] в её отсутствие; следовательно, если там и явился обман, то не могло то случиться ни по её вине, ни от чего-либо ею сказанного или сделанного, и если Господь впоследствии открыл сие по её молитвам, то явный это был признак божественного благоволения и любви, ведь Бог не позволил врагу прельстить обманом невесту Свою. Поэтому, куда бы ни обратился клеветник, придётся ему признать святость сей девы.
Ну а мы, со всем жаром отвергнув клеветнические наущения фарисеев, коими они очерняли явные чудеса Господа Иисуса Христа, давайте посмотрим, не сможем ли принести больше славы Создателю нашему, исследуя постановления (judicia) и свидетельства Его, которые, по моему убогому мнению, более чем глубоки. Ведь, если я не ошибаюсь, Всевышний хотел показать, как сильно любит невесту Свою, когда то, что не нашлось для неё, чудесным образом произвел даже без её ведома, так что она могла бы молвить народу слова Жениха своего, когда узнала об этом: «Не для Меня был глас сей, но для вас» (ср. Ин. 12:30), то есть не меня, а вас Господь хотел сим знамением известить, как сильно любит меня; мне самой, для того, чтобы знать это, не требуется никакого чуда, а вам стоило узнать, чтобы, увидев сие знамение, вы усерднее взыскали спасения душ ваших. Но поскольку при жизни мне надлежит постоянно страшиться, как бы величие даров и откровений, или знамений не превознесло меня, я умолила Господа моего удалить это зрелищное явление (ostentationem), и не презрел Господь молитв моих, позаботившись одновременно о вас и обо мне: о вас – в знамении первом, обо мне – в последнем».
[311] Так что если кто захочет доказать, что второе знамение сводит к нулю первое, пускай скажет, откуда и с чьей помощью то жидкое вещество, пускай сколь угодно мутное, попало в совершенно пустой сосуд? Мы знаем, что невозможно сказать, будто это ничто; отнюдь, это как раз было нечто – оказавшееся там, где прежде не было никакой жидкости. Кто это свершил или чьим воздействием сие свершилось? Если по повелению всемогущего Бога, то это причина паче Его восхвалить; если же Велиалу припишут подражатели его дело Божие, то, поскольку было два знамения, одно из которых свершилось без ведома преподобной девы, а другое – по просьбе её, то ни в одном из этих двух случаев клеветник не сможет очернить её, так как в первом она ничего не делала, а во втором получила то, чего просила. Но мне лично кажется, что в первом случае Господь показывает, насколько Екатерина была Ему угодна, а во втором – насколько она была ему по глубокому своему смирению покорна; в первом даёт нам повод её почитать, во втором – ей подражать; в первом указывает, какой она была благодатью украшена, во втором – какой мудрости научена, ибо со смиренными – мудрость (ср. Прит. 11:2). Потом, если блаженный Григорий [Двоеслов] добродетель терпения почитает большей, чем знамения и чудеса, о чём он свидетельствует в первой книге своих «Собеседований», то как не понять, что добродетель смирения, без которой не бывает мудрости и которая послужила причиной второго знамения, несравненно превосходит знамение предыдущее? Но животный человек никак не может сего постичь; и это не удивительно, ведь, по словам блаженного апостола, плотские помышления Богу не покоряются и покориться не могут (ср. Рим. 8:7).
Однако, если бы мы попытались подробно написать об остальных знамениях над неодушевленными вещами, которые Господь явил чрез Свою невесту, нам пришлось бы составить много книг. Посему, краткости ради не будем утомлять читателей, а положим конец этой главе.
[ГЛ. XII]
[312] Всевышний знает, добрый читатель, что я охотно окончил бы сие житие, прежде всего из-за большой занятости другими делами, которые теснят меня со всех сторон, но когда я размышляю о деяниях сей преподобной девы, мне вспоминается столько достойных восхищения и запечатления событий, что, вынуждаемый совестью, я вынужден, трудясь день за днём, делать эту книгу всё длиннее, чем хотелось бы. Ибо знаю, что всем знакомым с нею ведомо, с какое необычайное и замечательное благоговение и почтение она испытывала пред досточтимым Телом Господним, так что из-за частого принятия оных Таин в народе возникло мнение, что дева Екатерина каждый день принимала Таинство Евхаристии, и именно благодаря этому благополучно жила без иной телесной пищи. И хотя это не совсем верно, я думаю, говорят так из лучших намерений, воздавая честь Богу, Который всегда дивным предстаёт во святых Своих. Так вот, поскольку она часто (хоть и не каждый день) с великим благоговением сердца принимала сии Тайны, некоторые зазнайки (satrapae) – скорее филистимляне, чем христиане в этом отношении – роптали на такое частое причащение. Против них я привёл доводы в защиту её невиновности, и они не смогли на них ответить, будучи смущены деяниями святых отцов, равно как изречениями Святейшей Церкви.
[313] Ибо ведь общеизвестно, согласно учению Дионисия о церковной иерархии, что в первоначальной Церкви, когда изобиловал пыл Святого Духа, верные обоих полов каждый день принимали сие достопоклоняемое Таинство. О чём и Лука явно высказывается в Деяниях Апостолов, когда несколько раз упоминает о преломлении хлеба, а однажды добавляет «в веселии» (Деян. 2:46), что, надо понимать, относится не иначе как к Таинству. Да и понимание самого четвёртого прошения Молитвы Господней, где испрашивается хлеб насущный (по лат. «каждодневный» – quotidianus. – прим. пер.), как относящееся к тому же досточтимому Таинству, никоим образом не подобает отвергать, а напротив – с сердечным благоговением принимать. Сверх же того, в знак сего каждодневного причащения верных, в чин мессы Святейшая Матерь-Церковь добавила молитву о приобщающихся со священником, не лишённую таинственности: «Смиренно молим Тебя, – говорит она, – всемогущий Боже, повели вознести сие руками святого Ангела…» и т. д. И добавляет: «Дабы все от сего жертвенника прияли причастие Тела и Крови Сына Твоего…» и т.д. Равно и из учения Святых Отцов следует, что всякий верный, которому не препятствует смертный грех, если он испытывает подлинное благоговение [перед Св. Тайнами], то не только законно, но и достойно принимает сие всеспасительное Таинство.
Кто осмелится как-либо воспрепятствовать человеку, живущему католической и святой жизнью, получать оное воздаяние часто и постоянно? Не сомневаюсь, что такому человеку было бы нанесено оскорбление, и немалое, если бы он смиренно просил о воспоминании Страстей Господних (ср. Лк. 22:19; 1 Кор. 11:25) и о напутствии в своём странствии, а получил бы отказ от кого бы то ни было; разве что, вопреки всему сказанному выше, кто-нибудь станет утверждать, что ни одному верному, как бы ни был он совершен и благочестив, не подобает принимать сие Таинство часто, а то и (как говорят некоторые невесть что) не иначе, как раз в год; что я считаю скорее противоречием Священному Писанию, чем разумным доводом.
[314] Затем, пытаясь обосновать эту глупость, некоторые из вышеупомянутых зазнаек, лишённые благочестия и совершенно чуждые разумению Священного Писания, приводят в свою защиту изречение блаженного Августина, в котором он говорит, что ни коим образом ни хвалит, ни порицает ежедневного причащение Св. Таин, как если бы сей превосходнейший Учитель сказал, что причащение – благо, но возможно совершать его так, что оно будет пагубно, а потому он предоставляет сие Божественному суду, для которого всё открыто, и не осмеливается высказать по этому поводу определенного мнения. Однако же если превосходнейший из Учителей, более того, исключительный, отнюдь не жаждет выносить суждения в этом вопросе, то я не могу понять, на каком основании те, кто здесь ссылается на его слова, осмеливаются об этом судить? Тут мне, кстати, вспоминается ответ, который сама дева однажды дала в моем присутствии одному епископу, который приводил упомянутое изречение Августина против тех, кто ежедневно причащается. Итак, дева молвила: «Если бл. Августин не порицает, то почему вы, владыка, пытаетесь порицать? Ссылаетесь на него, а действуете вопреки ему».
В конце же концов, святой и прославленный учитель Фома Аквинский в ответ на эти сомнения, сиречь в том, целесообразно ли правоверному христианину принимать сие Таинство часто или даже ежедневно, пишет, что частое принятие сего таинства прибавляет причащающемуся рвения (devotionem), но иногда уменьшает благоговение. Но всякий верный должен испытывать и рвение, и благоговение пред столь чтимым Таинством; посему, если он чувствует, что благоговение от частого причащения ослабевает, то должен воздержаться на некоторое время, чтобы с большим благоговением принять его (S.Th. III, Qu. 80, art. 10.). Если, однако, он чувствует, что его благоговение не убывает, а прирастает, тогда он должен спокойно причащаться, поскольку правильно расположенная душа несомненно обретает великую благодать от причащения сего достодивного и прекраснейшего Таинства. Таково пожелание и мнение св. Фомы Доктора, чьего учения в дальнейшем и держалась сия святая дева, ибо она причащалась часто, а иногда воздерживалась, хотя стремилась пребывать в почти постоянном единении со своим Женихом посредством оного Таинства, ибо пламенное обожание влекло её к Тому, Кого она видела, Кого любила, в Кого безоговорочно верила, Кого всей душою чтила.
[315] Иногда она так желала сего, что если бы в такой день её лишили Святого Причастия, оное хрупкое тельце пострадало бы больше, чем если бы его несколько дней мучила резкая боль или горячка. Всё это, однако, проистекало от духовных страданий, каковые ей весьма часто и подолгу причиняли то нерассудительные начальствующие братия, то сёстры-настоятельницы, а то и некоторые из тех, кто близко общался с нею.
И это было одной из причин, почему она получала большее утешение от моего служения, чем от службы тех, кто предшествовал мне, а именно потому, что я, как мог, старался, несмотря ни на какие препятствия, чинимые теми, кто хотел помешать ей причаститься Святой Евхаристии, помочь ей вволю обрести утешение своё. По этой причине она ввела в своё обыкновение всякий раз, когда дух её воспламенялся жаждою Святого Причастия, а я оказывался под рукой, говорить: «Отче, я голодна; ради Бога дайте пищи душе моей!
Это также привело к тому, что блаженной памяти владыка Григорий XI, папа, в утешение ей даровал ей буллу, согласно которой она получала право держать при себе [священника], который мог бы каждый день отпустить ей грехи и свершить Священную Жертву, а также ей позволялось иметь путевой алтарь, чтобы можно было где угодно слушать мессу и принимать Святое Причастие без чьего-либо разрешения.
[316] Итак, дав таковые разъяснения, расскажу об одном чудесном событии, которое было явлено мне одному, но не из-за каких-либо моих качеств или свершений, а потому, что я занимал место духовника, ею избранного, и был служителем, хоть и недостойным, многократно упомянутого выше досточтимого Таинства. Насколько могу судить, Господь изволил ради славы имени Своего показать мне, сколь угодна Ему была сия преподобная дева. И, признаюсь, не подобало бы мне говорить или писать о таком, но не могу с чистой совестью обойти молчанием [того, что послужит к вящей] чести Божией и девы сей преподобной.
Итак, да будет тебе ведомо, читатель (коего ныне я наипаче прошу о благосклонном понимании), что после того, как мы с сей преподобною девой вернулись из Авиньона и прибыли в город Сиену, довелось нам с нею посетить неких слуг Божиих вне того города, дабы друг другу подать утешение в Господе. Затем в день св. Марка Евангелиста мы с утра направились обратно город, а когда добрались до дому, где она жила, то, едва окончилась служба Третьего часа, она обратилась ко мне и сказала: «О, если бы вы знали, отче, как я голодна!» Но я, поняв её, сказал: «Только что прошла служба Третьего часа, и я так устал, что едва ли смогу собраться с силами и служить [мессу]».
Услышав сие, она ненадолго приумолкла, но чуть погодя, не в силах скрыть своего желания, вновь сказала, что чрезвычайно голодна. Тогда уж я согласился, и мы пошли в капеллу, которую она устроила у себя дома с разрешения упомянутого Верховного понтифика. После того, как она очистила сердце в таинстве исповеди, я облачился в священные одежды и в её присутствии отслужил мессу [праздника] бл. Марка. Когда же я освятил одну малую гостию, чтобы причастить её, и, сам приняв Таинство, обратился, чтобы дать ей общее отпущение грехов по обычаю, то увидел лицо её, точно лицо Ангела (ср. Деян. 6:15): от него исходили лучи и сияние, и черты его настолько изменились (ср. Лк. 9:29), что я мысленно сказал: «Это не лицо Екатерины!» По этой причине я мог думать только об одном: «Воистину, Господи, сие невеста Твоя, верная Тебе и угодная!» И с такими помыслами обратился к алтарю, и опять же мысленно промолвил лишь: «Гряди, Господи, к невесте Своей..!» Уж и не знаю, почему я подумал сие, но как только я довершил эту мысль, святая гостия, прежде чем я успел к ней прикоснуться, двинулась сама собой и переместилась ко мне, как я ясно видел, через пространство в три пальца шириной и больше, то есть до самой патены, которую я держал в руке. Ну а я был так ошеломлён сначала сиянием лика Екатерины, а потом и сим вторым знамением, что не помню, сама ли святая гостия вознеслась на патену или я положил её. Впрочем, я сам, хоть и не посмею утверждать, думаю, что она вознеслась сама.
[317] Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа знает, что я не лгу (ср. 2 Кор. 11:31). Если же кто не придаст веры этим словам из-за моих недостатков или жизни, увы, не добродетельной, каковую наблюдает во мне; пусть вспомнит, что милость Спасителя людей и скотов спасает (ср. Пс. 35:7, пер. П. Юнгерова), и не только большим, но и меньшим порой открываются тайны Божии, а далее пусть вспомнит то речение Истины, в коем Он говорит: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию», и где сама Истина говорит презирающим грешников: «Пойдите, научитесь, что значит: «милости хочу, а не жертвы»?» (Мф. 9:13).
Вот только этими оправданиями, которые подходят всем грешникам, я и оправдываюсь. Да пощадят меня праведные Господни и слуги Божии, и знаю, что пощадят, потому что слуги Божии милосердны (ср. Вульг. При. 13:13), если же кто иной осуждает меня, это для меня очень мало значит (1 Кор. 4:3): перед моим Господом стою и перед моим Господом падаю (ср. Рим. 14:4). Пускай Тот, Кто знает, когда я сажусь и когда встаю (ср. Пс. 138:2), Сам взыщет и осудит (ср. Вульг. Нав. 22:23, Вульг. Ин. 8:50), ибо Он Господь и знает, что я говорю правду.
Не хочу верить и в то, что подвергся обману вражию пред лицом и в свершении столь досточтимого и ужасающего Таинстве; более того, я знаю и уверен, что всесвященная гостия двинулась без чьего-либо касания или толчка и приблизилась ко мне, когда я лишь в мыслях промолвил: «Гряди, Господи, к невесте Своей!» Кто хочет, пусть верит и хвалит Бога, кто не хочет… тот когда-нибудь убедится, что ошибался, не сомневаюсь.
Мы же, пожалуй, перейдём к другим событиям. А поскольку я начал с того, что было известно лишь мне одному, то прибавлю к сказанному выше другое, что, по моему суждению, не менее примечательно и не менее достопамятно. Посему, если мне поверят, или хотя бы тем, кто мне поверит, будет наглядно показано, как угодно было Господу Спасителю наполнявшее душу сей девы пламенное желание причаститься сего досточтимого Таинства. Признаюсь, впрочем, что (если мне не изменяет память) сие второе событие, о котором я сейчас сообщу, случилось прежде того, о котором сообщалось в первую очередь, но стоит ли слишком заботиться о временном порядке, коль всё рассказано будет правдиво, как оно было.
[318] Я был в городе Сиене из послушания Ордену моему, поставленный или, скорее, назначенный на должность лектора. Недавно познакомившись с преподобной сей девой, я изо всех сил старался, как было сказано выше, утешать её приобщением Св. Таин. По этой причине, когда она хотела приступить к Таинству, то обращалась ко мне смелее, чем к другим братьям моего ордена.
Однажды утром случилось так, что, когда она возжелала причаститься досточтимого Таинства, колики и прочие знакомые ей телесные муки чрезвычайно обострились, что, однако, желания её не ослабило, а напротив, ещё более разожгло, и уповая, что муки эти вскоре ослабнут, она послала ко мне одну из своих сподвижниц, и та, когда я входил в церковь к часу начала мессы, сказала мне: «Екатерина просит вас немножко помедлить с мессой, потому что в сей миг она чрезвычайно страдает, но обязательно хотела бы причаститься Таинств этим утром». Охотно на то согласившись, я пошел на хор, отчитал целиком монастырское правило и стал ждать.
Дева же Господня, совершенно без моего ведома, пришла в церковь около Часа третьего, чтобы исполнить свое святое желание, но сподвижницы её, принимая во внимание задержку и то, что, причастившись, она стояла в восхищении духа часа по три-четыре и более даже не в силах двинуться с места, а из-за этого приходилось оставлять церковь открытой в то время, когда обычно нужно было её закрывать (о чем многократно роптали прежде и в тот день некоторые несведущие братия), стали уговаривать её не причащаться в то утро, чтобы не вводить в соблазн ропщущих на то братьев. На что она, как всегда смиренная и благоразумная, не посмев возразить, согласилась, но поскольку желание не оставляло её, обратилась к своему обычному прибежищу – молитве; и простершись близ некоей лавки, находившейся почти в притворе, она с горящим сердцем взмолилась Жениху, дабы Он, сам сие желание милостиво изволивший ниспослать, сам же его и исполнил, ибо от людей она не смогла сего добиться.
[319] Тогда всемогущий Бог, Который никогда не презрит желаний слуг Своих, не только милосердно выслушал невесту Свою, но и достодивно [ответил] – сиречь чудом, описанным ниже.
Я же совершенно ничего не знал обо всем этом, но думал, что дева всё ещё дома; а после того, как было принято решение отказаться от причастия, ко мне, все ещё ожидавшему её в церкви, подошла один из её сподвижниц и сказала: «Екатерина говорит, что вы можете служить мессу, когда вам угодно, так как она не может сегодня причащаться». Что услышав, я пошёл в ризницу, облачился в священные одежды, подошёл к некоторому алтарю, расположенному ближе к головной части той церкви и посвящённому (если не ошибаюсь) бл. апостолу Павлу, и начал мессу как обычно. Екатерина же находилась от меня на расстоянии примерно равном длине той церкви, хотя я совершенно не знал, что она была там в это время.
Когда после освящения [Даров] и Молитвы Господней я попытался было преломить святую гостию, как полагается по священному обряду, сначала на две части, затем одну из них на две другие, но при первом преломлении получилось не две части, а три: две большие и одна маленькая, длиной (насколько помню) с обычный боб, хотя и не такая широкая. Однако оная частица была такова, что во мне нет ни малейших сомнений: там было истиннейшее Таинство. А сия частица под моим неуклонным и внимательным взором выскочила за пределы чаши, над которой я, как положено, исполнял сие преломление, и, как я понял, упала на корпорал. Ибо я отчетливо видел, как она отлетает на небольшое расстояние от чаши вниз на оный плат, хотя увидеть её на нём я никак не мог.
[320] Думая, впрочем, что по причине белизны корпорала я не могу различить на нём белую частицу, я совершил следующее преломление. Затем, сказав «Агнец Божий», я потребил святыню, а когда десница освободилась, тотчас же простер её к тому месту корпорала за чашей, куда, как я видел, отлетела упомянутая частица, но пощупав оный плат пальцами и огладив его там и тут, ничего не нашел. Оттого в сердце моё проникла скорбь, но я довёл до конца всё, что было положено, и, раздав причастие, вновь стал искать, ощупывая и оглаживая целиком и полностью весь корпорал, но ни зрение, ни осязание не помогли мне ничего найти, хотя искал я усердно и долго. Ещё сильнее из-за этого огорчившись и восскорбев чуть до слез, я решил закончить мессу ради присутствовавших на ней мирян, а после того, как они уйдут, снова со всем усердием искать эту частицу повсюду на алтаре. Когда же они в итоге удалились, я тщательно обыскал не только корпорал, но и весь алтаря там и тут, но ничего сколько-нибудь подобного упомянутой частице не обнаружилось. А так как напротив меня находилась большая панель с образами святых, то я и не мог заподозрить, что многократно упомянутая частица могла таким путем оказаться за пределами алтаря, хотя я совершенно отчётливо видел, как она выскочила и отлетела от меня в ту сторону. Однако, чтобы точно убедиться, я обыскал боковые части и опустился до самого пола, где обыскал всё, что можно, тщательно и внимательно, но ничего не нашёл.
Посему, охваченный тревогой, я решил посоветоваться на этот счёт с приором оной обители, которого я знал как мужа учёного и богобоязненного. Тщательно покрыв алтарь, я позвал ризничего и приказал ему никого не подпускать к оному, пока не вернусь. Итак, охваченный печалью и тревогой, я вернулся в ризницу и совлёк священные одеяния, намереваясь немедленно направиться к приору и придерживаться его совета.
[321] Но едва были сложены одеяния, явился некий приор обители бл. Ригнарда. То был мой знакомый – дом Христофор, позднее ставший приором картузианцев (и он рассказал [об этом случае] своему преемнику, дому Стефану, приору Картезианского ордена). Поскольку нас связывала немалая дружба, он попросил меня устроить ему беседу с девой Екатериной. Когда я сказал ему, что нужно немножко подождать, пока я не улажу одно дело с приором, он ответил: «Сегодня день строгого поста, и мне необходимо без промедления вернуться в монастырь, а он, как ты знаешь, находится за много миль от города. Ради Бога, не задерживайся; ибо угрызения совести принуждают меня обязательно переговорить с Екатериной». Выслушав сие, я сказал ризничему: «Не уходи отсюда, охраняя (как я уже говорил) оный алтарь, покуда не возвращусь», и затем пошёл вместе с названным приором домой к деве Екатерине.
Однако находившиеся в доме сказали, что она уже давно как ушла в доминиканскую церковь и до сих пор пребывает там. Услышав это, я удивился и, вернувшись с тем приором в упомянутую церковь, обнаружил сподвижницу Екатерины в нижней части здания. Спросив её, где находится дева, я получил ответ, что, мол, там – стоит на коленях, опершись на какую-то скамью, и пребывает, по своему обыкновению, в восхищении духа. Я, всё терзаясь сердцем из-за приключившегося со мной случая, попросил их как угодно привести её в чувство, поскольку мы чрезвычайно спешили.
[322] Когда это было сделано, и названный приор, и я сам сели было беседовать с преподобною девой, но я, уязвляемый изнутри жалом скорби, поначалу поведал деве тайно в нескольких словах о приключившемся со мною случае и мучившей меня скорби. На что она, коротко улыбнувшись, тут же ответила, словно бы всё зная: «Вы же искали везде?» И на мой ответ, что, мол, да, заметила: «Так отчего же вы из-за этого так опечалились?» А сказав сие, не смогла удержаться от новой улыбки. Что не ускользнуло от моего внимания, и я приумолк на время, пока вышеупомянутый приор не сказал, что хотел, не получил от неё ответа, и не ушел.
Тогда я, обрадованный первым ответом и уже догадываясь, в чём дело, сказал: «Воистину, матушка, я думаю, что это ты унесла частицу моей гостии». А она молвила с улыбкой: «Не вините меня, отче, в этом, но знайте, что это был кто-то другой, а не я. Только ж то я скажу вам, что вы не найдете оной частицы». Тогда я заставил её ясно поведать мне всё, что она знала об этом. И она сказала: «Отче, не печальтесь об оной частице, потому что, скажу как на духу, принёс мне эту самую частицу и подал Иисус Христос – и я причастилась ею. Ведь когда мои сподвижницы, опасаясь чьего-то ропота, не захотели, чтобы я приобщалась нынче утром, то, не желая огорчать их возмущением остальных, я обратилась к Жениху моему всеблагостному, и, явившись мне лично, Он милосердно поднёс мне частицу, взятую у вас, а я приняла оную из Его священнейших рук. Радуйтесь же в Нём, ибо ничего худого с вами не случилось, для меня сей день стал таким подарком, что я до вечера буду воспевать хвалы и благодарения Спасителю». Как услышал я сие, моя печаль так обратилась в радость, и разум мой до того успокоился от слов её, что я более не мог сомневаться.
[323] И погрузившись в глубокие размышления, я сказал про себя: «Разве не ясно было мне видно, как частица отлетела на корпорал? И всё же я так её и не увидел на нём. Там не было и не могло быть никакого дуновения ветра, поскольку алтарь ограждён со всех сторон так, что ветер не подует ни снаружи, ни изнутри; да даже если бы и подул, я в любом случае заметил бы, куда отлетает частица, ведь внимательно проследил за ней взглядом. Так вот, не было никакого сквозняка, ни сильного, ни слабого, и я увидел, что она отлетела, и место, куда она отлетела, внимательно приметил, но отлетев, она так скрылась от взора моего, что ни в том, ни в каком ином месте я никак не мог её найти, хотя три раза искал так тщательно, что даже зерно горчичное должно было бы найтись. Заметил я также, что, когда я сказал деве о глубоком своём огорчении, она не проявила никакого сострадания (обычно ей свойственного) и даже улыбнулась. А когда сказал, что потерял некую часть освященной гостии, он тотчас же без малейшего волнения ответила с тем же видом: «Вы же искали тщательно и не смогли найти? Так почему же из-за этого так печалитесь?» Эти и другие многочисленные улики и наблюдения оказались так убедительны, что, можно сказать, вытеснили из моего ума печаль и заботу о поисках.
Сии дивные дела, которые у меня на глазах сотворил Господь с досточтимым Таинством ради заслуг сей преподобной девы, я описал здесь, дабы не заслужить от Бога или людей справедливого упрёка в неблагодарности либо нерадивости. Ныне же перейдём к иным связанным с Евхаристией чудесам, о которых я узнал от других людей.
[324] Ибо многие достойные веры лица обоих полов, которые однажды присутствовали на мессе во время причащения Екатерины, сообщили мне, что они отчётливо видели, как священная гостия вылетала из рук священника и влетала ей в рот; даже (по их словам) из моих рук, когда я протягивал ей освящённую гостию. А я, хотя и не осознавал этого ясно, всегда отчётливо слышал звук, который издавала священная гостия, входя ей в рот, – почти такой, словно бы ей туда издалека с силой забрасывали камешек. Брат же Варфоломей Доминичи, преподаватель экзегетики (sacrae paginae), а ныне приор-провинциал римской провинции моего Ордена, ещё говорит, что, когда он причащал её, почувствовал двумя пальца, которыми держал священную гостию, как она вылетела Екатерине в рот. Впрочем, я лично не осмелюсь ни утверждать, что так было, ни отрицать; благоразумие благочестивого читателя рассудит, что достойно веры в таких сообщениях, принимая во внимание множество даров благодати, описанных выше. Кроме того, выше было уже описано много случаев, которые было бы излишним повторять, а потому закончим здесь рассказ о дивных делах с Евхаристией и кратко пройдёмся по чудесам с мощами святых, дабы положить конец сей второй части.
[325] Сей преподобной деве было открыто (что она втайне поведала и мне и другому своему духовнику), что в Царстве Небесном она обретёт равное достоинство с блаженной сестрой Агнессой из Монтепульчано и будет соучаствовать с нею вместе в вечном блаженстве. Сего ради она от всего сердца возжелала посетить её мощи, чтобы ещё в этой жизни получить начальный залог того вечного общения, которое ей предстоит иметь с нею в жизни вечной. Но чтобы незнание [того, как достигла] святости упомянутая святая дева Агнесса, не помешало тебе, читатель, понять знамения, о которых будет рассказано ниже, да будет тебе ведемо, что, когда я в молодости из послушания моему священному Ордену более трёх исполнял должность ректора в монастыре, где покоятся святые останки той самой девы Агнессы, то на основании нескольких рукописей, которые я там нашел, и рассказах четырёх сестер, которые были её ученицами и до сих пор живы, сам составил её «Житие», и в качестве краткого отступления приведу здесь для твоего сведения очерк о её святости и добродетелях.
Знайте же, что та дева, хотя и не внесена в святцы, однако милость Божия предварила её такими благодатными благословениями, что когда она рождалась из лона матери, в том помещении все вокруг ясно видели огни, коих дивное появление и исчезновение по завершении родов показали присутствовавшим, сколь богоугодна должна быть девочка, которая только что родилась. Ну а в течение жизни, неизменно украшенная добродетелями и притом возрастая в них, она основала два девичьих монастыря, во втором из которых и покоится ныне, при жизни прославилась многими и великими чудесами, которые после её кончины стали ещё более явственны и многообразны.
[326] А среди иных знамений, свершившихся после её кончины, было и есть то, что священное её девственное тело так и не было погребено, но доныне осталось нетленным, и не без великого чуда. Ибо когда местные, из-за чудес, которыми она прославилась при жизни, решили её тело забальзамировать, чтобы оно подольше сохранилось в целости, вдруг с концов [пальцев] её рук и ног начала капля за каплей течь драгоценная жидкость, которую сёстры, собравшие её, до сих пор хранят в стеклянном сосуде и показывают людям. Она имеет цвет бальзама, но, ценность, думаю, куда выше, ибо сим, возможно, всемогущий Бог мог показать, что священное её девственное тело, которое чудесным и сверхъестественным образом само производило бальзам, не нуждалось в бальзаме природном.
Более того, в час её отхода, который свершился в ночной тишине, младенцы обоих полов, лежащие у кроватей своих родителей, воскликнули: «Ныне сестра Агнесса изошла из тела и теперь – святая на небесах!» А поутру множество малышек исключительно по Божию велению собрались в толпу, раздобыли свечи и, не допуская к себе ни одной испорченной особы, устроили шествие с зажжёнными свечами к обители Агнессы, принося целомудренной деве приношение целомудренной.
Много ещё и других знамений Господь явил чрез деву святую пред очами всех людей того края; по этой причине каждый год память её с дивным почтением отмечается местными с преблагоговейным приношением множеств больших свечей.
[327] Итак, вознамерившись пойти поглядеть на сие девственное тело и почтить его, дева Екатерина, чьи деяния мы в настоящее время описываем, будучи чадом во всём послушливым, сначала испросила позволения – и у меня, и у другого духовника, – а когда она получила его, мы последовали за ней, чтобы посмотреть, чем это закончится, и, возможно, увидеть, не сотворит ли Всевышний какое-нибудь знамение при встрече сих избранных им целомудренных невест, что затем и последовало.
Ибо прежде, чем мы, духовные отцы её, следуя за ней, прибыли на место, дева, едва прибыв, сразу вошла в монастырский клуатр и с благоговением приблизилась к мощам девы Агнессы в присутствии почти всех сестёр упомянутого монастыря и своих спутниц – сестёр Покаяния бл. Доминика.
Когда же Екатерина, преклонив колени, расположилась у ног Агнессы и начала склонять голову, чтобы благоговейно облобызать их, священное оное тело, хоть и бездыханное, на виду у всех подняло для поцелуя одну из ног к Екатерине, чтобы та не утруждалась наклоняться. Она же, увидев то, тем паче прониклась смирением и склонилась ещё сильнее, так что нога девы Агнессы постепенно вернулась на прежнее место.
Тут я замечу, что дева Агнесса не без тайны подняла только одну из ног – ради неверующих. Ведь если бы она подняла обе, то можно было бы подумать, что от того, что верхняя часть бездыханного затвердевшего тела могла случайно отклониться вниз, отчего нижние части естественным образом, хотя и внезапно приподнялись. Ну а тут, поскольку приподнялась только одна нога, становится ясно, что сие содеяла божественная сила сверх естества, и невозможно было бы подстроить это нарочно.
[328] Но я не без причины о том упоминаю. Ведь когда на следующий день мы, следуя (как было сказано) за Екатериной, прибыли на место, нас встретила молва о чуде, кое свершил Жених обеих дев ради заслуг их. Но при этом мы также обнаружили, что некоторые из насельниц монастыря, хоть и немногие, перед которыми совершилось чудо, клевещут на деяние Божие наподобие фарисеев, говоривших: «Силою веельзевула, князя бесовского…» и т.д. (Лк. 11:15). По каковой причине я лично, как получивший власть над этим монастырем от приора-провинциала сей провинции, собрал всех сестёр по обычаю Ордена на капитул, дабы согласно заповеди святого послушания произвести тщательное расследование упомянутого чуда.
После того, как все присутствовавшие дали на этот счёт совершенно ясные показания, я подозвал к себе одну из самых ярых клеветниц и спросил её, так ли всё было, как свидетельствовали другие. Она тотчас признала перед всеми, что дело было именно так, как они говорили, но хотела предложить такое толкование, будто блаженная дева Агнесса намеревалась этим чудом выказать нечто иное, нежели то, что мы думаем. На что я ответил ей: «Дражайшая сестра, мы ничего у тебя не спрашиваем о намерениях Агнессы, поскольку знаем, что ты не душеприказчица её и не наперсница, а спрашиваем мы только: видела ли ты оное чудо поднятия ноги?» Когда же она сказала, что, мол, да, я за клевету, которую она распространяла, наложил на неё такую епитимию, к каковой меня побудила ревность Господня и необходимость дать пример другим, и в итоге записал сие большей уверенностью.
[329] Кроме того, по прошествии некоторого времени оная дева Екатерина снова приехала в монастырь блаженной Агнессы, чтобы отдать двух племянниц своих (а именно дочерей единоутробного брата) в оный монастырь на служение Всевышнему, и снова посетила мощи девы Агнессы, где получила новое чудо, о коем ни в коем случае не следует умолчать.
Пришла, значит, она в многократно упомянутый монастырь и, как было и в первый раз, только войдя же, тут же поспешила посетить мощи девы Агнессы, а за нею последовали прибывшие с нею сподвижницы её и некоторые из монастырских сестёр. Когда же она приблизилась к телу, то не стала в ногах, как в первый раз, но, исполнившись радости, подступила к голове. Быть может, будучи во всём смиренной, она хотела избежать чудесного подъёма ноги, а может быть, вспомнила о Магдалине, которая в первую очередь возлила благовоние на ноги Господа, а во вторую – на голову Возлежавшего. Когда ж она приблизилась к голове, она коснулась лбом шёлкового златотканого покрова на лице Агнессы и долго так стояла.
Но спустя какое-то время она обернулась к Лизе – доселе живой своей сподвижнице, невестке, а также матери тех девочек, которых привели [монастырь], – смиренно и радостно молвила: «Что ж ты не смотришь на дар, подаваемый нам от небес? Почему ты так неблагодарна?» При этих словах Лиза, а с ней остальные, подняв взгляд, увидели, что с высоты, подобно дождю, сходит ман, или (говоря яснее) манна (В Вульгате это слово встречается в двух вариантах: «man» (в Исх. И Чис.), что передаёт еврейское звучание, и «manna» (в прочих книгах) – греческое. – прим. пер.), белизны и тонкости необыкновенной, и покрывает тело Агнессы и девы Екатерины, а также всех окружающих так густо, так что вышеупомянутая Лиза смогла наполнить руки этими зёрнами.
И не без причины явилось там сие чудо, ведь для девы Агнессы в земной её жизни было обычным оное знамение: манна изливалась на неё дождем – особенно во время молитвы. Так что часто девочки, которых она воспитывала для Господа, не зная тайны (ср. Мф. 13:11) и видя, что, когда она встаёт от молитвы, плащ её убелён, пытались отряхнуть его, но после скромного с её стороны запрета воздерживались, как я написал в её «Житии». Поэтому Агнесса, узнав, что дева Екатерина будет вместе с ней в небесах, обычным своим знамением уже на земле дружески приветствовала её и почтила. Что вполне уместно: ибо оный ман белизною своей и мелкозернистостью являл разумеющим чистоту и смирение, каковые-то качества особенно проявились в обеих оных девах, что для меня совершенно очевидно из «Житий» их, которые я не по моим заслугам, но исключительно из милости Спасителя по благодати, данной мне, и написал.
[330] Кроме того, свидетелями этого чуда были все её сподвижницы, одна из которых – Лиза – доселе жива. И многие сёстры упомянутого монастыря свидетельствовали мне и братьям, бывшим со мною, что всё именно так и произошло; рассказывая и утверждая, что видели сие. Многие из них уже преставились с сего света, но их свидетельство доселе живёт [в памяти], как моей, так и тех братий, что были тогда со мной и ещё живы. Лиза же многим раздавала и показывала манну, которую собрала.
Много и других достодивных чудес явил Бог чрез невесту свою, пока она пребывала среди людей, о чём не написано в этой книге; сие же написано на честь и славу имени Божия и во спасение душ (ср. Ин. 20:30-31), а также дабы не оказалось, что я неблагодарен за небесный дар или положил вверенный мне талант в платок (чего да не будет), но да верну я его всемогущему Господу с хоть каким-нибудь, по мере убогих моих сил, прибытком. Итак, сей второй части я полагаю конец, чтобы перейти к третьей: о кончине святой девы и чудесах, свершившихся при и после её смерти, дабы числом «три» воздать вечной Троице хвалу, честь и славу во веки веков. Аминь.
[ГЛ. I.]
[331] Се глас древней синагоги, что дивится восхождению Святой Церкви и полету всякой души, обрученной Христу Господу, с немалым изумлением глаголющий: «Кто это такая, что восходит от пустыни, преисполненная веселия, опираясь на своего возлюбленного?» (Вульг. Песн. 8:5) В самом деле, если применить это речение к предмету нашего рассказа, будет ясно видно, что два «гласа», предпосланных двум предыдущим частям, предвещают плод и совершенный итог, который показуется или означается сим третьим «гласом». Ибо, чему хорош конец, то, по словам Пророка, и само, без сомнения, хорошо (ср. Пс. 115:6), а по добрым плодам, как учит нас Господь, судят о том, что дерево доброе (ср. Мф. 12:33). Ну а среди плодов последнему отдаётся преимущество, поскольку последнее в деле есть первое в мыслях, и итог есть то, что движет действиями.
Из всего этого разумный человек сделает вывод, что сия третья часть, заключающая в себе блаженный конец и последний добрый плод сей благой девы, предыдущие части подкрепит и украсит. Ведь раз в таком изумлении восклицают: «Кто это такая..?», то за приведёнными словами можно увидеть, сколь прекрасны и превосходны добродетели девы сей. Когда продолжают: «…что восходит от пустыни, преисполненная веселия», можно увидеть, что в духовном наитии полёт её легче птичьего. Ну а в завершении: «…опираясь на своего возлюбленного», можно, опять же, прозреть, как своим рвением и неизменной преданностью она достигла единения с Господом.
[331] Первое [осуществление библейского речения] показано из первой части, в которой описывается, как Господь наделил её необычными… нет, необычайнейшими дарами благодати, и в младенческом возрасте, и в начале юности, а также в пору чудесного обручения, о котором рассказывается в последней главе той же части.
Второе наглядно показано во второй части на примерах вершин добродетели и добродетельных поступков, описанных в ней. Из коих ясно видно, что в сей юдоли слез она посредством благодати Божией достигла в сердце своём столь великих и многих вершин добродетели, что, исполненная любви Божией, ещё не достигнув предела жизни, старалась изо всех душевных сил (чего было огромное множество проявлений) как бы прежде времени получить награду, и всегда быстро бежала, всячески с величайшим пылом взыскуя небесного воздаяния (ср. 1 Кор. 9:24-25). Ибо я часто замечал в её поведении, что всякий раз, когда она оказывалась свободна от необходимых или душеспасительных занятий, дух её тут же – чуть ли не по естественному, так сказать, ходу вещей – был восхищаем к вышним, что со всей ясностью указывает на то, что душа её постоянно торопилась упорхнуть в небеса. И это неудивительно, ведь сие движение вызывалось огнём неустанным, всегда стремящимся вверх – оным, повторюсь, огнём огнем, который Спаситель мира пришёл низвести на землю, и горячо желал бы, чтобы он уже возгорелся (ср. Лк. 12:49). Что яснее ясного проявилось, когда (как я подробно рассказывал в шестой главе второй части) от силы божественной любви её сердце разрывалось сверху донизу. Не припомню из прочитанного, чтобы такое когда-либо случалось с другими мужами или жёнами.
Третье же, предварённое обоими вышеупомянутыми, неприкровенно проявится в сей третьей части, когда будет описано, как Екатерина в конце земного пути, уподобляясь Жениху своему в Страстях, пребывая в единении с Ним и неизменно на Него опираясь, со славной победою всерадостно взойдёт от сего лукавого века на небеса. Ведь хотя очам несмышлёных она и предстанет умершей, а природный человек не воспримет (ср. Вульг. 1 Кор. 2:14) её нынешней славы, однако она, почивая в мире с Женихом, Которого возлюбила всем сердцем, открыто показывает знамениями и чудесами, с какой славой была принята на небеса. А подробнее все эти чудеса будет представлены ниже.
[332] Итак, да будет тебе ведомо, добрый читатель, что я был свидетелем того, как сия преподобная дева по приказу блаженной памяти владыки Григория, XI папы с таким именем, прибыла во Флоренцию (что была тогда мятежна и непокорна в очах Церкви (ср. 1 Езд. 4:15, Втор. 21:20, 2 Пар. 21:6)) дабы договориться о мире между Пастырем и овцами, и претерпела там много гонений неправедных, аж до того, что пришёл к ней с обнаженным мечом некий разъярённый пособник диавола, чтобы убить её (Неем. 6:10), и только сила Божия удержала его. Несмотря же на угрозы и всяческие гонения, она ни за что не желала удалиться оттуда, пока после смерти Григория Урбан VI, его преемник, не заключил мир с упомянутыми флорентийцами.
А по объявлении мира она вернулась в свои пенаты и со всем тщанием занялась работе над одной книгой («Диалоги о Божием Провидении». – прим. пер.), которую под вдохновением вышнего Духа продиктовала на своем родном языке. Причём своих писцов, которые обычно писали письма, рассылаемые ею в разные места, она попросила быть неизменно внимательными и следить за всем, а когда она по обыкновению будет восхищена от телесных чувств (о чём мы выше рассказывали), тщательно записать, что продиктует. Что они и сделали весьма умело, составив книгу, полную великих и чрезвычайно полезных речений, открытых ей Господом и продиктованных ею вслух на народном наречии.
А необычно и удивительно при этом было то, что произносила диктуемые слова она только тогда, когда от восхищения ума телесные чувства её лишались присущей им действенности, ибо ни глаза не видели, ни уши не слышали, ни ноздри не воспринимали запаха, ни гортань – вкуса, ни даже осязание не ощущало соответствующих воздействий ровно столько времени, сколько она пребывала в оном восхищении. И всё же Господь устроил так, что преподобная дева, пребывая в оном экстазе, продиктовала целиком ту книгу, чтобы дано нам было уразуметь, что книга оная произошла не от какой-либо природной силы, но едино лишь от излияния Святого Духа. Не сомневаюсь я и в том, что всякий, кто с пониманием прочитает речения оной книги и внимательно вникнет в них, выскажет о ней такое же мнение.
[333] Но в то время как она занималась этим в Сиене, вышеупомянутый владыка Урбан, папа VI, который, будучи ещё архиепископом Ачеренцы, видел её в Авиньоне и проникся тогда великим почтением к речам её и поступкам, приказал мне, зная, что я её духовник, написать ей, дабы она приехала в Город навестить Его Святейшество; что я вскоре и сделал. Но она, как бы из дополнительной осторожности, ответила мне следующим образом:
«Отче, многие из наших граждан, их жён, а также сестёр моего Ордена из-за излишних, как им кажется, поездок, предпринимаемыми доселе мною отсюда, немало возмущались, говоря, что не подобает инокине туда-сюда ездить. Хотя я и знаю, что оные поездки мне не повредили, потому что куда бы я ни шла, то шла из послушания Богу и наместнику Его, а также ради спасения душ, но чтобы не послужить по своей воле предметом соблазна для них, я полагаю пока отсюда не выезжать. Впрочем, если наместник Христов изволит, чтобы я непременно приехала, пусть исполнится его воля, а не моя. Но если это так, устройте, чтобы его воля была представлена на письме, чтобы те, кто возмущается, могли воочию убедиться, что я предпринимаю это путешествие не по своей воле».
Получив сей ответ, я пошел к Верховному понтифику и всё у стоп его поведал. И приказал он, чтобы я послал ей повеление приехать во исполнение завета о святом послушании, что и было сделано мною. И уж получив оное повеление, Екатерина, как истинная дщерь послушания, поспешила и прибыла в город с немалым числом спутников обоих полов, впрочем, приехало бы и куда больше, не воспрепятствуй она этому. Приехавшие, однако, в добровольной своей бедности вверились Божественному провидению, предпочитая скитаться и просить милостыню с преподобною девой, нежели изобиловать у себя дома, лишаясь столь утешительного и благополезного общения.
[334] Ну а Верховный понтифик был рад видеть её и выразил пред лицом присутствовавших там кардиналов желание, чтобы она молвила увещательное слово, преимущественно относительно начавшегося тогда раскола. Что он и исполнила в совершенстве, многими словами и доводами воодушевляя каждого из них к отважному дерзновению, а также показывая, что Божественное провидение неизменно сопутствует каждому, паче же всего, когда Святая Церковь страдает, и заключила тем, что из-за начавшегося раскола им отнюдь не следует трепетать, но делать дела Божии и не бояться. Когда же она окончила свою речь, понтифик, ликуя, взял слово и, обращаясь к кардиналам, сказал: «Вот, братья, какого порицания заслужили мы пред Господом за робость нашу: женщинка нас застыдила. И женщинкой я называю её не из презрения, а чтобы подчеркнуть природную хрупкость её пола да для нашего наставления. Ведь это ей естественно было бы бояться, даже когда чувствуем себя вполне уверенно, однако при том, что мы в ужасе, она остаётся бесстрашна и укрепляет нас уговорами своими. Очень нам должно быть от этого стыдно». И добавил: «Чему бояться наместнику Иисуса Христа, даже если бы весь мир выступил против него? Сильнее мира Христос Вседержитель, и невозможно, чтобы Он покинул Свою Святую Церковь!» Сими и иными речами укрепив себя и братьев своих (ср. Вульг. Лк. 22:32), Верховный понтифик вверил святую деву Господу и уделил премногие духовные милости (индульгенции. – прим. пер.) – как лично ей, так и её спутникам.
[335] Затем через несколько дней пришло ему на мысль направить к Иоанне, королеве Сицилийской, которая тогда по наущению диавола открыто выступала против Церкви и всецело благоволила расколу и раскольникам, преподобную деву Екатерину вместе с некоей другой девой, которую также звали Екатериной (св. Екатерина Вадстенская, пам. 24 марта. – прим. пер.) и которая была дочерью блаженной Бригитты Шведской (каковая Бригитта в наши дни была внесена в святцы папою Бонифацием IX), с тем, чтобы обе они, будучи знакомы упомянутой королеве, вывели её из столь пагубного заблуждения. Едва то услышав, дева отнюдь не отпрянула от ярма послушания, но напротив, добровольно вызвалась в путь. Другая же Екатерина, то есть шведская, ни за что не желала предпринимать оного путешествия и решительно в моём присутствии от него отказывалась. Я ж со своей стороны (признаюсь в своём несовершенстве), как маловерный, сильно сомневался в сем замысле Понтифика, полагая, что доброе имя святых дев слишком уязвимо, и его весьма омрачит любое пятно, даже мнимое. Ведь та, к которой были посылаемы девы, могла по совету приспешников сатаны, каковых рядом с ней было множество, устроить так, чтобы в дороге святых дев обидели злые люди и им не удалось до неё добраться, отчего и наши замыслы потерпят крах, и сами девы окажутся покрыты немалым позором.
Сии свои помыслы я открыл оному Понтифику, который, выслушав меня, задумался на мгновение и заметил: «Ты дело говоришь; пускай лучше не едут». Когда я всё это рассказывал преподобной деве, она лежала в кровати и слушала, как вдруг, повернувшись ко мне, громким голосом возразила: «Если бы Агнесса и Маргарита и другие святые девы думали об этом, они никогда не стяжали бы мученического венца! Разве у нас нет Жениха, Который может избавить нас от рук нечестивых (ср. Иов. 16:11) и сохранить наше целомудрие среди жуткой людской толпы? Суетны помышления эти и происходят скорее от недостатка спокойной веры, чем от истинного благоразумия». Тогда я, хотя внутренне и стыдился своего несовершенства, радовался, однако, её великому совершенству, примечая и слагая в сердце своём (ср. Лк. 2:19) твёрдость и неколебимость веры её. Правда, поскольку понтифик постановил, что девам в оное путешествие пускаться не следует, я не осмелился более говорить на эту тему – но я записал это, дабы любой читатель мог видеть, на какие вершины совершенства взошла преподобная дева.
[336] Кроме того, угодно было упомянутому Верховному понтифику направить меня в пределы Французские, ибо он думал, что посланники смогут отвратить Карла, бывшего тогда королем Франции (Карл V Мудрый, 1338 – 1380 гг.), от раскольнического заблуждения, виновником которого он стал, но вотще, ибо сердце фараоново уже прониклось ожесточением своим (ср. Исх. 7:13). Я же, поняв его намерение, стал советоваться с преподобною девой, которая, хотя ей и неприятно было лишиться моего присутствия, тем не менее всячески убеждала меня повиноваться приказам и пожеланиям Понтифика. А среди прочего сказала мне: «Будьте уверены, отче, что это истинный наместник Христов (что бы ни говорили клеветники-раскольники), и поэтому я хочу, чтобы вы занимались к проповедью и защитой сей истины, как вы по обязанности своей проповедуете и защищаете истину католической веры». Это слово, хотя я и прежде знал эту самую истину, настолько укрепило меня в моем намерении выступить против раскольников, нападающих на неё, что я доселе в меру убогих сил моих не прекратил трудов в защиту истинного Понтифика, а память об этом слове неизменно утешает меня в тягостных и запутанных положениях.
Итак, я сделал, как она посоветовала, и склонил свою выю под ярмо послушания. Но за несколько дней до отъезда она, предвидя грядущее, изволила побеседовать со мною о полученных ею от Господа откровениях и утешениях, причём совершенно без постороннего вмешательства. А по завершении нашей многочасовой беседы она сказала: «Ступайте же с Богом, ибо думаю, что в сей жизни мы более не поговорим так основательно и долго, как ныне». Что впоследствии и подтвердилось на деле, ибо, когда я уехал, она осталась, а прежде чем я вернулся, она сама преселилась на небеса, и я уже более не удостоился святых её собеседований, по крайней мере, столь продолжительных. Думаю, именно поэтому – в знак последнего прощания – изволила она лично прийти на пристань перед моим отправлением, а когда наша галера отплыла, преклонила колена и, помолившись, перекрестила меня, словно бы явственно молвив: «Твой, сыне, путь под защитою крестного знамения будет благополучен, но матери своей ты в сей жизни более не увидишь».
[337] И всё это дивным образом свершилось. Ибо, хотя море кишело пиратами, мы благополучно добрались до Пизы без каких-либо приключений, а затем живы-здоровы прибыли в Геную, несмотря на многие множества раскольничьих галер, которые тогда направлялись в Авиньон. Наконец, далее по суше мы перешли в город под названием Вентимилья, а если бы двинулись ещё немного дальше, то угодили бы в засаду, приготовленную для нас вероломными раскольниками, которые меня со всей вероятностью убили бы… Но по воле Божией, когда мы на день задержались в упомянутом городе, некий брат моего Ордена, приехавший из тех мест, передал мне письмо, в котором говорилось: «Ни в коем случае не покидай пределов Вентимильи, ибо на тебя готовится засада, и если попадёшься, никто не избавит тебя от смерти».
По новому предписанию от человека, данного мне Понтификом в спутники, я направился в Геную и написал Понтифику о случившемся со мною, спросив, что он повелит мне далее делать. А он повелел, чтобы я остался там и проповедовал крестовый поход против раскольников. По этому-то случаю моё возвращение и задержалось, а между тем святая дева благополучно завершила свой жизненный путь, удостоившись (как будет показано ниже) венца дивного мученичества. По указанной причине я со своей стороны не могу предоставить очного свидетельства о том, что произошло позднее, а то, о чём напишу, либо узнал из её писем, которые она мне часто присылала раз в пору между [моим отъездом и её кончиной], рассказывая, что с ней происходит; либо услышал от людей обоих полов, постоянно находившихся при ней до самого её исхода, а после оного видевших знамения великие, кои Всевышний явил чрез Свою невесту; либо нашёл в записях некоторых из её наиболее разумных духовных чад, в которых на латыни, а также на народном наречии сообщается ряд замечательных сведений, достойных того, что все с ними ознакомились.
[338] Однако во избежание впечатления, будто, ссылаясь на свидетелей вообще, я пытаюсь отвести читателю глаза, перечислю здесь их по именам, дабы вера не относилась ко мне, а к ним как к более достойным, ведь я знаю, что они куда более совершенно подражали ей в её святых деяниях, а потому совершеннее её деяния понимали. Начну же перечень с имён женских, потому что они находились при ней больше времени.
Алессия Сиенская, сестра Покаяния бл. Доминика, которая, хотя и позже иных стала ученицею Екатерины, была (на мой взгляд) первой в совершенствовании добродетелей. Рано лишившись знатного и учёного мужа, сия молодая вдова тут же презрела плотские и мирские удовольствия и так горячо привязалась к святой деве, что, приняв хабит её сообщества, ни за что не хотела отлучаться от неё. Посему, отказавшись от всего, чем прежде владела, и раздав по совету святой девы всё нищим, она стала в подражание своей наставнице сокрушать плоть свою постами, бдениями и прочими тяготами, предаваться постоянной молитве и созерцанию. В сих подвигах она была так постоянна и столь усердна, что (если я не слишком ошибаюсь) сама преподобная дева, открыв ей в конце жизни своей все тайны, изволила, чтобы после преставления её сёстры поставили упомянутую Алессию на её место и подражали ей. И при первом моём возвращении в Город я застал её живой и получил от неё много сведений, но спустя краткое время она преставилась на небеса, последовав за той, кого так горячо любила в Господе. И это был первый источник сведений о том, что произошло в моё отсутствие.
[339] Вторая звалась Франческой Сиенской. Душа у нее была преблагоговейная, соединённая сердечной любовью к Богу и к святой сей деве. Посему оная Франческа сразу по смерти мужа приняла хабит, которое носила святая дева, а троих сыновей, прижитых с упомянутым мужем, отдала на служение Богу в Орден проповедников и прежде, чем сама умерла, всех их проводила на небеса, чему я свидетель, ибо мне точно известно, что они похвально закончили свою жизнь во время чумы не без чудесного вмешательства Всевышнего по молитвам Екатерины, о чём я говорил во второй части этого труда, в главе о чудесах исцеления душ. Сия Франческа ненамного пережила Алессию, но от неё я наряду с другими получил много сведений.
Зато доселе ходит по земле третья сподвижница святой девы, которую зовут Лиза, весьма известная в городе, особенно же среди жителей своего квартала. От похвал ей я воздержусь, поскольку она жива, а также потому, что она была также женой брата оной девы, из-за чего, может быть, неверующие поставят её свидетельство под сомнение, хотя я знал её, как человека всегда и во всём правдивого.
[340] Кроме того, после её кончины я нашёл множество мужей, присутствовавших при её преставлении, но пока назову только четырёх – тех, кто по моим сведениям отмечен выдающимися добродетелями. Хотя двое из них уже последовали за нею на небеса, ещё двое живы, и каждого из них я ради неверующих назову и опишу особо.
И первым из них был, конечно, Санти – «святой» по имени и на самом деле, – за что мы и назвали его братом Санти. Он, родом из Терамо, оставив ради Бога родителей и родину, пришёл в Сиену, где в течение тридцати лет или более (если не ошибаюсь) вёл житие отшельническое, неукоризненно всегда следуя советам грамотных и благоговейных иноков. На старости лет найдя сию драгоценную жемчужину, сиречь деву Екатерину, он оставил тишину своей кельи и прежний образ жизни, чтобы принести полезу не только себе, но и другим, и последовал за нею – прежде всего из-за знамений и чудес, которые каждый день происходили как с ним, так и с другими. При этом он утверждал, что куда больший покой душевный и утешение, а также преуспеяние в добродетелях он обрёл, следуя за нею и слушая её учение, нежели за всё время уединения в келье. Особенно же он преуспел в терпении, ибо непрестанно страдал неким сердечным недугом немощью, весьма тяготившим его, и научился от преподобной девы переносить его не только терпеливо, но и радостно, за что благодарил Всевышнего. От него я получил много сведений о том, что произошло в моё отсутствие. Но вскоре после того, во время моего очередного отъезда, он последовал за наставницею своей на небеса.
[341] Вторым был некто по имени Бардуччо – летами юный, добронравием старый, флорентиец по происхождению, но украшенный (по моему мнению) всеми цветами добродетели. Он, покинув родителей, братьев и родину свою, последовал за преподобною девой в Город и оставался при ней до кончины. Его, как мне стало известно впоследствии, оная святая дева любила нежнее прочих; и думаю, что за чистоту его (насколько могу судить) девственную; посему неудивительно, если дева любила девственника. При преставлении из сего мира святая дева повелела ему держаться за меня и вести жизнь под моим руководством моему расположению, причём, думаю, она повелела ему так потому, что знала: недолго он пробудет в теле. Ведь вскоре после кончины девы Бардуччо заболел недугом, который врачи называют чахоткой, и хотя порой казалось, что он выздоравливает, в конце концов он от неё умер. Боясь же, как бы римский воздух не повредил ему, я отправил его в Сиену, где через короткое время он преселился ко Христу. Причём те, кто присутствовал при его преставлении, свидетельствуют, что, когда он находился на последнем издыхании, при взгляде вверх на его милом лице появилась улыбка, и так, радостно улыбаясь, он и испустил дух; и даже потом на мёртвом теле его были заметны следы радостной улыбки. А было это, как я считаю, вызвано тем, что в миг кончины он увидел ту, кого любил в сей жизни истинной сердечной любовью: как облеченная великолепием встречает она его с радостью.
От него я тоже получил некоторые сведения о том, что произошло в моё отсутствие; и ради великих добродетелей, которые я знал за ним на опыте, доверяю сказанному им, как если бы видел это сам.
[342] Третьим из них был и остается некий юноша из Сиены, по имени Стефан деи Макони, о котором я упоминал выше и кого не буду особо хвалить, потому как он всё ещё продолжает путь земной жизни, на котором никого хвалить не безопасно. Но чтобы дать о нём хоть приблизительное представление, [скажу], что он был одним из писарей преподобной девы, который написал часть и писем, которые она диктовала, и книги, которую она составила; и так привязался он к ней, что, оставив и родителей, и трёх братьев, а заодно и собственную родину, он следовал за девой, куда бы та ни пошла (ср. Вульг. Мф. 8:19). Ему-то оная дева перед кончиной своей, призвав его, и молвила: «Сыне, воля Божия в том, чтобы ты, полностью оставив мир, вступил в Картезианский орден». Верный же сын, благоговейно приняв сей завет, исполнил его в совершенстве. Однако с ходом событий выяснилось и с каждым днём становится всё яснее, что оное повеление исходило из уст Всевышнего, ибо никак не припомню, чтобы я видел или слышал о том, как какой-нибудь новичок в каком-либо Ордене так замечательно преуспевал в добродетелях. Ибо же вскоре после принесения обетов он стал приором и так себя на этой должности проявил, что впоследствии так и не лишался её, и в настоящее время служит в Милане приором, а заодно – визитатором многих обителей своего ордена, и пользуется при этом доброй славой повсюду.
Он сделал некоторые заметки и записи о том, что происходило при кончине святой девы, и мне о том в подробностях поведал устно. Также он был свидетелем почти всего, [что описывается] в её «Житии», так что я могу сказать подобно евангелисту Иоанну: «Он знает, что говорит истину» (Ин. 19:35). Сиречь он, Стефан Картезианец знает, что истину говорит Раймунд Доминиканец, который, несмотря на отсутствие каких-либо заслуг и достоинств, составил сие «Житие».
[343] Четвертым и последним из вышеупомянутых мужей, от которых я получил свои сведения, мне, был и является Нерий или Райнерий де Палья из Сиены, сын покойного Ландоччо. После преставления святой девы он начал отшельническую жизнь, каковую и в настоящее время ведёт. Вместе с вышеупомянутыми Стефаном и Бардуччо он был писарем как писем Екатерины, так и книги её, но [важнее всего то, что] он прежде прочих последовал за невестой Христовой, оставив отца своего, который был тогда жив, да всех своих родственников, и поскольку он долгое время наблюдал добродетельные деяния благой девы, то я и привожу его имя как одного из свидетелей [правдивости сведений, изложенных] в этом «Житии» наряду с упомянутым братом Стефаном Картезианцем.
Сии мужи и жёны устно и письменно осведомили меня о том, что произошло в моё отсутствие как до, так и во время кончины сей преподобной девы, о которой ведётся речь.
Итак, дражайший читатель, заручившись пред тобой ручательствами достоверности предстоящего повествования, положим конец сей первой главе.
[ГЛ. II.]
[344] Я уже прежде упоминал, что после нашего расставания с невестой Христовой, когда я, исполняя повеление Верховного понтифика, отправился в поездку, а она осталась в Городе, произошло много событий, достойных повествования, некоторые из которых, хоть и вкратце, были изложены выше. Но теперь, насколько Господь позволит, мы поведаем то, что являет верным светозарную святость блаженного конца [преподобной девы], послужив как бы некоей прелюдией её восшествия в славу.
Так вот, да будет тебе ведомо, читатель, что, когда святая дева увидела, сколько зол взрастает в Церкви Божией, пламенно ею всегда любимой, от того гнусного раскола, который (как мы сказали выше) она сама предвидела, и наблюдала, как тесним и преследуем со всех сторон наместник Иисуса Христа, слёзы её были для неё хлебом день и ночь (ср. Пс. 41:4), и не преставала она вопиять ко Господу о возвращении мира Церкви Его Святой. И утешил её Господь немного, ведь за год до её кончины в тот самый день, в который через год она преставится, Он даровал Святой Церкви Своей и Верховному понтифику двойную победу, а именно: над замком Св. Ангела, который раскольники, подняв большое волнение в Городе, удерживали аж до того дня, а также над некими вооружёнными иноземцами, которые, помогая раскольникам, терзали весь край, но тут были полностью разбиты, руководители взяты их в плен, а многие убиты. После этого Понтифик, который из-за вышеупомянутого замка не мог, несмотря на обычай, находиться в церкви Князя апостолов, по совету преподобной девы пришёл в оный храм пешком и без обуви, а за ним с немалым благоговением следовал весь народ, благодаря Всевышнего за сии и иные благодеяния Его. И так Святая Церковь вместе со своим Понтификом смогла немного перевести дух, и преподобная дева сим ненадолго утешилась.
[345] Но скорби её вскоре возобновились (ср. Вульг. Пс. 38:3), потому что древний змей, который не смог достичь одним путём, достиг другим, более пагубным и жестоким. Ибо то, чего ему не удалось добиться через внешних и раскольников, он достиг через внутренних и своих по вере, посеяв раздор между народом Города и Понтификом, разросшийся так, что народ открыто грозил покушением на жизнь Понтифика. Услыхав о том, что святая дева в крайнем огорчении обратилась к своему обычному прибежищу – молитве, и изо всех сил непрестанно упрашивала Жениха своего ни в коем случае не допустить свершиться столь великому злодеянию. В то время, как она сама сообщила мне в одном из писем, она увидела в духе, что весь город полон бесов, которые всячески подстрекали народ к кощунственному отцеубийству и жутко вопили на молившуюся деву: «Окаянная, ты силишься помешать нам, но мы непременно предадим тебя жуткой смертью!» На что она ничего не отвечала, а продолжала много и горячо молиться, упрашивая Господа ради чести имени Своего и исцеления Святой Своей Церкви, потрясаемой столь страшными бурями, совершенно расстроить бесовские устремления, и наместника Своего сохранить невредимым, и не попустить народу свершить столь великий грех и такое чудовищное злодеяние.
И получила она однажды ответ от Господа: «Позволь народу сему, ежедневно хулящему имя Моё, впасть в это зло, дабы затем я мог отомстить за сие великое преступление и уничтожить его, поскольку моя справедливость требует, дабы я более не терпел беззаконий их». А она тогда взмолилась ещё ревностнее, молвив (дословно или по смыслу) таковую речь: «Всемилостивый Господи, Ты знаешь, как невесту, которую Ты искупил собственной кровью, рвут на части – увы! – почти во всём мире. Ты знаешь также, сколь мало у неё помощников и защитников; и не скрыть, как яростно разорители её и враги желают смерти и бесчестия Твоему наместнику. Если случится сие зло, то тягчайше пострадает не только этот народ, но и весь народ христианский вместе со Святою Твоею Церковью. Так умерь же гнев души Своей, Господи, и не презри народа Твоего, который Ты искупил столь великой ценою!»
[346] Сим спором, если я правильно помню, она была занята несколько дней и ночей, весьма отягчая и утруждая тельце своё. Она непрестанно молилась, Господь ссылался на справедливость Свою, а бесы вопили на неё, как выше было написано, и такова была горячность молитвы её, что, как она писала мне в то время, если бы Господь (выражаясь её словами) не окружил бы её тело крепостью, как обыкновенно бочки скрепляют и стягивают обручами, то тельце её без сомнения совершенно изнемогло бы и растрескалось. Но, наконец, после столь тяжкой битвы, чуть не до смерти измучив своё тельце, дева победила и добилась просимого. Ибо Господу, ссылавшемуся (как было сказано) на Свою справедливость, она отвечала: «Господи, коль не может не свершиться справедливость сия, то молю Тебя не отвергнуть просьбы рабы Твоей, но какая бы кара ни причиталась народу сему, пускай она падёт на тело моё, ибо же я весьма охотно за честь имени Твоего и за Святую Твою Церковь испила бы сию чашу мук и смерти, чего я всегда, как истина Твоя засвидетельствует, желала с тех пор как по милости Твоей полюбила Тебя всем сердцем и всем разумением (ср. Мф. 22:37)». На сей глас, несшийся, скорее из души, чем из тела девы сей преподобной, смолк глас божественный, звучавший в её душе. Сим дано было уразуметь, что станет так, как она просила.
И стало так, что с того часа ропот в оном народе начал мало-помалу [стихать], пока под конец совсем не прекратился, но всю муку [за это] понесла дева, исполненная добродетелей. Ибо оные адские змеи, получив волю над целомудренным телом, по божественному попущению выказали такую яростную жестокость, что (как сообщили мне вышеназванные свидетели) невозможно было бы поверить в то, не удостоверившись воочию.
[347] Ибо оное тельце день ото дня всё более утесняли необычайные тяготы, отчего у Екатерины кожа чуть ли не прилипла к костям – краше в гроб кладут. И при этом она всё равно ходила, молилась и трудилась, постоянно являя взорам видевших её, скорее, жуткое диво, нежели нечто естественное. Страшные муки телесные непрестанно усиливались; дева таяла на глазах и тем не менее не оставляла непрерывной молитвы – более того, молилась ещё ревностнее обычного и продолжительнее.
Сыны же и дочери, коих она родила во Христе и которые тогда пребывали с нею, ясно видели следы ударов и побоев, наносимых адскими врагами, однако не могли ничем помочь: и потому что воле божественной не могли воспротивиться, и потому также, что сама дева, несмотря на ослабление тела, по величию духа своего всерадостно поспешала навстречу мукам, которые, между прочим (как я узнал от вышеназванных свидетелей и как понял из переданных мне писем её), становились тем глубже, чем более она молилась.
Притом (как она писала мне) оные терзания часто сопровождались жуткими голосами, которыми бесы особенно мучили её, ужасно вопя: «Окаянная, ты всегда и везде нас до сих пор преследовала, а теперь грядёт время, когда мы сполна тебе отомстим! Ты изгоняешь нас отсюда, а мы вышибем тебя из этой телесной жизни!» А слова эти сопровождались и побоями, о которых уже было сказано выше.
[348] Таким образом, с воскресенья Шестидесятницы (Sexagesima, 2-е воскресенье перед Вел. постом, перед которым идёт Семидесятница (Septuagesima), а следует – Пятидесятница (Quinquagesima), которую не следует путать с Пятидесятницей (Pentecoste) после Пасхи. – прим. пер.) до предпоследнего дня апреля, когда последовало её блаженное преставление, преподобная дева терпела страдания, которые усиливались почти с каждым днём. В это время (как она писала мне) случилось кое-что достодивное. Ведь раньше из-за колик и некоторых иных недугов, которые её постоянно мучили, она обычно откладывала поход к мессе до часа Третьего, однако всю ту Четыредесятницу неизменно каждое утро ходила в храм св. Петра, князя апостолов, и, выслушав там мессу, сначала долго молилась и только вечером возвращалась домой, где застать её можно было только в постели. И если бы кто-нибудь увидел её в постели, то поручился бы, что она не сможет двинуться оттуда, однако же с наступлением очередного утра она вставала и шла быстрым шагом от улицы, называемой Виа-дель-Папа (где находился дом, в котором она обитала, а именно между Минервой и Кампо-деи-Фьори), до самого Св. Петра, каковой путь изрядно утомил бы и любого здорового человека. Однако при этом событии она, услышав призыв с небес, несколько дней пролежала неподвижно.
И, наконец, в день, о котором мы упоминали выше, то есть двадцать девятого апреля, которое приходилось на воскресенье, в год Господень 1380-й, в праздник бл. Петра, мученика Ордена проповедников, около часа Третьего, она преставилась ко Христу. И много примечательного произошло в это время, о чём мы вкратце поведаем в следующих главах, если Господь по её заступничеству позволит. Поэтому давайте просто положим конец настоящей главе.
[ГЛ. III.]
[349] Итак, когда течение телесной жизни преподобной сей девы приблизилось к концу, Господь явил различными знамениями славу, которую вскоре по завершении трудов её и тягот Он собирался даровать Своей невесте на небесах сообразно дарам благодати, коими наделил её на земле. А между прочими знамениями, коими Он желающим осмысления явил совершенство её души, было то, что с каждым днем разгоралось сильнее её желание разрешиться и быть со Христом (Флп. 1:23), а истину о Нём, которая на пути [к Небу] созерцается в зеркале, увидеть в Отечестве ясно и открыто (ср. 1 Кор. 13:12. – пер. еп. Кассиана). Причём желание сие всё возрастало в её сердце по мере того, как душу её глубже просвещал сверхъестественный свет свыше. Потому примерно за два года до кончины истина открылась ей с такой чудесной ясностью, что пришлось излагать её в письменном виде и просить своих писарей, как было упомянуто выше, чтобы они, заметив её в экстазе, были готовы записать всё, что услышат из её уст.
Таким образом, в короткое время была составлена некая книга, в которой содержится некий диалог между одной душой, которая задаёт Господу четыре вопросы, и самим Господом, Который в ответ сообщает ей много полезнейших истин. В конце книге этой книги имеются два [фрагмента], которые я счел чрезвычайно полезным привести здесь как для блага читателей, так и ради того, чтобы показать, какой полноты достигло вышеупомянутое желание в душе сей благословенной девы. Пожалуй, не будет неуместно их оба здесь привести, потому движению по естеству присуще стремиться к конечной цели (in fine). И Господь Иисус по свидетельству Иоанн Евангелиста «до конца (in finem) возлюбил» (Ин. 13:1), и никто, сведущий в священной науке, не усомнится в том, что Первоистина является конечной целью (finem) всего.
[350] Однако, дабы никто не подумал, что я намерен добавить что-то своё к учению или молитве, которые я взял из указанной книги и перенес сюда, призываю саму Первоистину, о Которой идёт речь, свидетелем и судьёю в том, что я перевёл с народного языка на латынь два вышеупомянутых [фрагмента], как они изложены в продиктованной ею книге, не добавляя ни одного предложения или ничего не изменяя; более того, насколько хватило моих знаний и сил, я соблюдал сам порядок слов и старался, насколько позволяет латинский синтаксис, переводить всё слово в слово, хотя, совсем строго говоря, всюду этого невозможно сделать, не вставляя местами в латинский [текст] какого-нибудь вводного слова, связки или наречия, которых [в тексте] на народном языке нет, но это призвано не изменить его смысл или же прибавить к нему что-нибудь, а, скорее, оснастить смысл синтаксическим порядком и яснее выразить мысли.
Итак, я приведу здесь два [фрагмента], а именно: во-первых, «Эпилог», помещённый в конце упомянутой книги, где вкратце излагается всё, о чём подробно идёт речь в той же книге; а во-вторых, своего рода молитву, которую оная дева совершила после всего, из которой видно, как сильно она желала разрешиться и быть со Христом.
[351] Итак, в завершение многократно упомянутой книги святая дева сообщает, что Господь Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа после долгой беседы о совершенном послушании обратился в конце диалога к её душе, говоря:
«Вот, милейшая и дражайшая дщерь, Я удовлетворил желание твоё от начала и до самого конца тем, что рассказал о послушании. Ибо, если хорошенько припомнишь, в начале ты, томимая желанием, просила Меня, ибо я побудил тебя просить, дабы разжечь огонь любви Моей в твоей душе – итак ты, повторю, просила Меня четырьмя просьбами.
Одна была о тебе самой, и Я удовлетворил её, просветив тебя светом истины Моей и показав тебе способ, с помощью коего при посредстве света веры, познав себя и Меня, способом, который Я объяснил тебе, ты можешь прийти к познанию истины.
Второю просьбой ты просила Меня проявить милосердие к миру.
Третья просьба была о мистическом Теле, сиречь Церкви Моей: умоляя Меня рассеять тьму преследований, от которых она страдает, ты просила Меня возложить на тебя кару за оные беззакония. [В ответ] на что я объяснил тебе, что никакое наказание, ограниченное по силе или времени, не может само по себе искупить провинность, совершенную против Меня, бесконечного Блага, но всё же искупает, если соединить его с сокрушением сердца и душевным устремлением; и показал, как свершается это искупление. Также Я ответил тебе, что хочу проявить милосердие к миру, объяснив тебе, что мне свойственно миловать. Ведь именно по неизмеримому милосердию и любви, которую Я питал к человеку, Я послал Моего Единородного Сына и Слово, Которое или Кого, чтобы тебе было понятнее, Я уподобил единственному мосту, что протянут с неба до самой земли; и сие благодаря осуществлённого в Нём единения между природой божественной и человеческой.
[352] К тому же, дабы полнее просветить тебя светом истины Моей, Я объяснил тебе, как восходят на этот мост тремя ступенями, то есть с помощью трёх душевных сил. К тому же, показав тебе мост, Я дал другой образ в облике оного Слова, указав в его теле упомянутые три степени, как тебе уже известно. Первая – в ногах, вторая – в пронзённом боку или рёбрах, а третья – в устах. [На сих ступенях] Я поместил три состояния души, а именно: несовершенное состояние, совершенное состояние и совершеннейшее состояние, в котором она достигает и восходит до совершенства объединяющей любви; и было объяснено, что именно на каждой ступени устраняет несовершенство, и каким путём идти; и поведано о тайных обольщениях бесовских, и о подобающей духовной любви; и сказано тебе также о тех приговорах (в латинском переводе Раймонда reprehensio, у Екатерины в оригинале – riprensione; дословно «упрёк» – прим. пер.), которые я по милости Своей выношу в этих трёх состояниях.
И Я описал первый приговор, который выносится людям при жизни, прежде чем они выходят из тела.
Второй – при смерти, что касается тех, которые умирают в смертном грехе без надежды и, как Я поведал тебе, говоря о несчастной участи таковых, идут под мостом путем дьявола.
Третий же приговор выносится на общем Суде, и Я рассказал тебе кое-что о муках осуждённых и о славе блаженных, когда каждый обретёт своё тело.
К тому же Я обещал тебе и вновь обещаю, что великим долготерпением слуг Моих исправлю невесту Мою, и призвал вас (т.е. «слуг Моих») к выдержке, и сетовал вместе с тобою на беззакония злых служителей, и, объяснил, как высоко Я поставил их и какого благоговения перед ними требую и желаю от мирян. Ответил Я тебе также, что из-за их недостатков не должно уменьшаться благоговение перед ними, ибо сие весьма неугодно Мне и воле Моей противно. И рассказал Я тебе о добродетели тех, что живут подобно ангелам, упомянув в то же время о величии Таинства алтаря.
[353] К тому же, поскольку при беседе об упомянутых трёх состояниях души ты пожелала узнать о состоянии слёзном и откуда слёзы исходят, Я поведал тебе о том, как согласуются состояния слёзные с состояниями души, и сказал тебе, что все слёзы исходят из источника сердца, и по порядку указал тебе причину этого и четырёх состояний слёзных, а ещё сказал тебе о пятом состоянии, которое порождает смерть.
Я отозвался также на твою четвёртую просьбу, когда ты молила Меня помочь тебе в некоем особом происшествии, ибо Я всё это тебе растолковал и объяснил тебе Моё провидение как в целом, так и в частностях, с начала творения и до конца света: как Я все делал и делаю по высшему и божественному промышлению, подавая и попуская то, что даётся тебе, будь то несчастия иль утешения – духовные и земные, ибо всё это для вашего же блага, чтобы вы освятились во Мне, а истина Моя в вас была совершенна (ср. Ин. 15:11). Ибо истина Моя была и есть такова, что Я сотворил вас, дабы вы имели жизнь вечную (ср. Ин. 3:16), каковую же истину Я открыл вам кровью Единородного Моего Слова и Сына.
К тому же Я напоследок удовлетворил желание твоё и [исполнил] данное Мною тебе обещание, а именно: рассказал тебе о совершенстве послушания и несовершенстве непослушания, и откуда оно происходит, и что такое лишает вас послушания. Ибо Я объявил его единым ключом ко всему, и так оно и есть. И ещё Я рассказал о [послушании] особом, о совершенных и несовершенных [видах послушания], [послушании] как в монашестве, так и вне его, о каждом говоря отдельно. И о мире, который даёт послушание, и о распри, которую производит непослушание, и о том, сколь обольщается непослушный; а в добавок Я объявил, что из-за непослушания Адама в мир пришла смерть.
[354] Теперь же Я, вечный Отец, высшая и вечная Истина, подвожу для тебя итог: через послушание единородному Сыну и Слову Моему вы имеете жизнь (ср. 1 Ин. 5:13), и так же, как все вы переняли от первого ветхого человека смерть, так все, кто хочет понести ключ послушания, переймут жизнь от нового Человека Христа, от сладостного Иисуса, из Которого Я, после того как путь в небеса прервался, соделал мост для вас, чтобы вы смогли проследовать по тому сладостному и прямому пути, который есть единая и простая сиятельная истина, с помощью ключа послушания и, пройдя так сквозь тьму сего мира без помех, в конце концов ключом Слова Моего открыть небеса.
Итак, теперь Я призываю тебя и прочих слуг Моих плакать, поскольку Я желаю проявить к миру милосердие в ответ на плач и непрестанную смиренную молитву. Беги же [хоть] мёртвая по сему пути истины, дабы не заслужить потом упрёка в промедлении, ведь теперь Я требую от тебя больше, чем прежде, ибо открылся тебе в Моей истине.
И смотри, не выходи из кельи самопознания, но в ней расточай и храни сокровище, которое Я дал тебе. Ведь сокровище это – единственное учение истины, основанное на крепком и живом камне, сиречь на Христе, на сладостном Иисусе; учение это облечено светом, разделяющим тьму. Так облачись же в сию истину, дражайшая дщерь!»
Тогда душа оная, истину и превосходство послушания увидев оком разумения и посредством света святейшей веры её познав, и услышав её верным слухом, и вкусив её с усладою и с желанием невыразимым, всмотрелась в Божеское величие и возблагодарила Его, сказав:
[355] «Благодарю тебя, Отче, за то, что не презрел меня, изделие Своё, и не отвратил лица Твоего от меня, и желаний моих не презрел; ибо Ты, будучи светом, не воззрел на темноту мою; будучи жизнью, не воззрел на смертность мою; Ты – врач, и не погнушался тяжким недугом моим; Ты –чистота извечная, а не погнушался мною, полной грязи и всяческого убожества; Ты, бесконечный – меня, конечной; Ты, премудрость – меня, сущей глупости; из-за этих и других присущих мне бесконечных зол и недостатков бесчисленных, Ты мною не пренебрёг, и не пренебрегла мною премудрость Твоя, благость Твоя, милость Твоя, доброта Твоя бесконечная; более того, в свете Твоём Ты дал мне свет, в мудрости Твоей я познала истину, в Твоей милости я обрела любовь (caritatem) к Тебе и любовь (dilectionem) к ближнему.
Кто же Тебя принудил к этому?! Не какие-то мои добродетели, но едино лишь любовь Твоя! Ибо та же любовь понуждает Тебя просвещать очи моего разума светом веры, чтобы я разумела и постигала истину Твою, открытую мне.
Даруй, Господи, сил памяти моей сохранить благодеяния Твои; пусть воля моя горит огнём любви к Тебе, дабы огонь заставил тело моё пролить кровь, каковую отдав из любви к Крови, удостоилась бы я отворить ключом послушания врата небесные.
Того же прошу у Тебя и для всякой разумной твари, как для всех вместе, так и для каждой по отдельности, и для мистического тела Святой Твоей Церкви.
Я признаю и не отрицаю, что Ты возлюбил меня прежде моего появления на свет и что Ты любишь Своё создание так неизреченно, что чем-то похож на человека, обезумевшего от чрезмерной любви.
[356] О Троица вечная! О Божество, единением божественной природы [с человеческой] придавшее столь великой цены Крови Сына Твоего единородного! Ты, Троица вечная, – одно глубокое море, в котором чем больше ищу, тем больше нахожу, а чем больше нахожу, тем больше я ищу тебя. Ты будто-то ненасытимо насыщаешь, ибо в бездне Своей так насыщаешь душу, что она всегда остаётся голодной и алкая тебя, Троица вечная, стремится видеть Тебя – Свет – в свете Твоём. Как олень стремится к источнику воды живой, так стремится душа моя (ср. Пс. 41:2. – пер. П. Юнгерова) выйти из тёмного тела сего (ср. Лк 11:34) и увидеть Тебя воистину таким, какой Ты есть. О, как долго лицо Твоё будет сокрыто от взора моего! О Троица вечная, огонь и бездна любви, рассей облако тела моего!
Ибо познание, которое Ты дал мне о Тебе, меня в истине Твоей понуждает и заставляет желать избавления от сего телесного отягчения, и внушает мне алчбу отдать сию жизнь на хвалу и во славу имени Твоего, ибо вкусила я и увидела светом разума в свете Твоём бездну Твою, о Троица вечная, и красоту творения Твоего, а посему, взглянув на саму себя в Тебе, я увидел, что сотворена по образу Твоему, сиречь Ты, Отче вечный, даровал разуму моему от силы Твоей и от премудрости Твоей, присущей единородному Сыну Твоему. Дух же Святой, который исходит от Тебя, Отца, и Сына Твоего, дал мне волю, благодаря коей сделал меня способной любить. Ибо Ты, о Троица вечная, – Мастер, а я твоё изделие. Посему познала я, Тебою просвещённая, по тому творению, каковое Ты сделал из меня Кровью единородного Сына, что Ты пленён красотою изделия Своего.
[357] О бездна! О Божество вечное! О море глубокое! И что большее Ты мог бы мне дать, нежели Себя самого?
Ты – огонь, который всегда горит; Ты сжигаешь и не сжигаешь; Ты – тот, кто жаром своим сжигает всё себялюбие души. Ты, опять же, огонь, уносящий всякую холодность и озаряющий умы Своим светом, каковым светом Ты дал мне познать истину Твою.
Ты – тот свет, что превыше всякого света, ибо светом Своим Ты даруешь оку разума свет сверхъестественный в таком изобилии и полноте, что даже свет веры паче проясняется им, в каковой вере я вижу, что душа моя имеет жизнь, а в этом свете встречаю Тебя, Свет. Ибо в свете веры я обретаю премудрость в премудрости слова Сына Твоего; в свете веры я становлюсь крепкой и неколебимой, а также стойкой; в свете веры я обретаю надежду, что Ты не позволишь мне изнемочь в пути; и этот же свет учит меня, по какому пути мне идти; и без этого света я ходила бы во тьме, а потому я просила, Отче вечный, чтобы Ты просветил меня светом веры святейшей. Воистину, оный свет – единственное море, что поддерживает душу, пока она целиком не окажется в Тебе.
О мирное море, Троица вечная! Сего моря вода не мутна, а потому не внушает страха, но даёт познание истины. Сия вода прозрачна и сокровенное открывает; а оттого, что там обилует преизобильный свет веры твоей, для души как проясняется то, во что она верит. Оное море (как Ты, вечная Троица, дал мне понять) – то единое зеркало, которое, пока его держит рука любви перед очами души моей, отражает в Тебе меня, творение Твоё.
В свете этого зеркала Ты предстаешь передо мной, и я познаю Тебя как высшее и бесконечное Благо, Благо превыше всякого блага, Благо блаженное, Благо непостижимое, Благо бесценное, Красота превыше всякой красоты, Преудрость превыше всякой премудрости, ибо Ты – сама Преудрость. Ты, пища Ангелов, в огне любви отдавшийся людям; Ты, наготу мою покрываешь одеждой, насыщаешь нас, алчущих сладости Твоей, ибо сладок Ты безо всякой горечи.
[358] О Троица вечная, во свете Твоём, который Ты дал мне, а я приняла, посредством света святейшей веры, я познала, как объясняешь Ты многими и чудесными объяснениями путь великого совершенства, дабы отныне служила я не во тьме, но в свете Твоём, и была зеркалом благой и совершенной жизни, и восстала от убожества жизни моей, из-за коего я доселе неизменно служила Тебе во тьме.
Ведь я не знала истины Твоей, а потому не любила её… Но почему я не знала Тебя? Потому что я не видела Тебя. Почему же я не видела Тебя при свете святейшей и славной веры? Потому что облако себялюбия затмило очи разума моего. Но Ты, Троица вечная, светом Своим рассеял тьму мою…
Кто же может досягнуть высоты Твоей и воздать Тебе благодарени за столь безмерный дар и за такие щедрые благодеяния, кои Ты оказал мне, и за учении об истине, которое Ты мне ныне вверил? Ведь сие учение – то единственная в своём роде милость, выходящая за пределы всеобщей милости, коей Ты одариваешь остальные создания. Ибо ты изволил снизойти до нужды моей и иных созданий, которые в будущем попытаются смотреться в это [учение], точно в зеркало.
Ты же, Господи, ответь за меня Саму Себе; Ты, даровавший, воздай и ответь за дарованное, излив, сиречь, на меня свет благодати, дабы я смогла возблагодарить Тебя этим самым светом. Одень, одень меня, и да облекусь в Тебя, Истину вечную, да проведу сию земную жизнь в истинном послушании и свете святейшей веры!»
[359] Выше приведены слова преподобной девы из упомянутой книги – я, как мог, перевел их на латынь, ничего существенно не меняя и даже сохранив употребляемые девой слова, насколько позволили особенности латинского языка.
И если ты, читатель, в них вникнешь, то испытаешь благоговение пред сей преподобною девой, великой не только житием своим, но и (что чрезвычайно удивительно для существа женского пола) правотою учения. По ним же, в части, касающейся нашей истории, сможешь заключить (если вникнешь в написанное выше), что она пламенно желала разрешиться и быть со Христом, поскольку знала и понимала, особенно же в ту пору, что гораздо лучше быть со Христом – это Благо, которое есть предел и совершенство всех благ, а потому желание сие всегда возрастал в ней, пока она в полноте не достигла того, чего желала: от обручения со Христом, совершённого ею в юности (о чём повествует последняя глава первой части), перешла, оставив тело, к брачному союзу духа. А потому, дабы поведать о самом её преставлении, перейдем к другой главе.
[ГЛ. IV.]
[360] Насколько мне, ничтожному, [ведомо] из добросовестного отчёта выше названных и описанных свидетелей, а также из записи, которая доселе при мне, и устного свидетельства, которое всё ещё держу в уме, блаженная дева, видя и понимая (возможно, не без внятного откровения), что приближается час её отшествия, созвала семейку, что следовала за нею, сиречь сыновей и дочерей, дарованных ей Господом (ср. Ис. 8:18). Обратившись к ним всем, она произнесла длинную и заметную речь, увещевая их к развитию добродетелей, в каковой речи высказала несколько примечательных мыслей, записи и заметки о которых я нахожу у вышеупомянутых свидетелей, и считаю, что нам не подобало бы её опустить.
Итак, её учение изначально и в основном заключалось в том, что приступающий к служению Божию, если поистине хочет Бога обрести, должен полностью совлечь со своего сердца чувственную любовь не только ко всякому человеку, но и ко всякой твари, а к Богу Творцу устремиться простодушно и всем сердцем. Ибо, как она сказала, не получится полностью отдать Богу сердце, если оно не будет свободно от всякой другой любви, открыто и просто без раздвоения; и заметила, что с детства основные труды и усилия прилагала именно к этому.
Ещё она сказала, что, как ей известно, к такому совершенному состоянию, в котором душа отдает всё своё сердце Богу, она не сможет прийти сама без посредства молитвы; и заметила, что обязательно нужно молитву основывать на смирении и что она не должна исходить из какой бы то ни было уверенности, какова бы ни была добродетель молящегося, но пусть всегда знает он, сам по себе он ничто; и прибавила, что сама с великим усердием и прилежанием всегда старалась упражняться в молитве, дабы могла приобрести к ней постоянный навык, поскольку видела, что добродетели получают прирост и силу от молитвы, а без неё ослабевают и изнемогают.
Поэтому она побудила мужей и жён, с каковыми вела беседу, обязательно учиться молитвенному постоянству; и провела различие между двумя видами молитвы, а именно, устной и мысленной; и учила их, что устной молитвой они должны заниматься в определенные часы, а мысленной молитвой – всегда, осознанно либо неосознанно (vel actu vel habitu).
[361] Ещё она рассказала, как в свете живой веры ясно поняла и увидела умственно, что всё случавшееся с нею или с другими, полностью исходило от Бога, и не из ненависти, но от великой любви, которую Он имеет к своим созданиям. И от сего она обрела и возымела любовь и беспрекословное послушание повелениям Божиим, равно как и повелениям прелатов Его, неизменно считая, что их повеления исходят от Бога, [и повиноваться им] необходимо либо ради спасения своего, либо ради взращивания добродетелей в душе своей.
Ещё она сказала, что для обретения чистоты души необходимо человеку оградить себя от всякого осуждения ближнего своего и от всякого празднословия о делах ближнего. Ибо в любых созданиях мы должны усматривать только волю Божию. Поэтому она весьма настоятельно говорила им, что им ни по какой причине не следует судить какое-либо создание, то есть презирать его или порицать, хотя бы и видели воочию, что они согрешают. Итак, если им когда-нибудь станет известно о чьём-либо грехе, нужно будет тому грешнику сочувствовать и изливать молитвы ко Господу за него, а не презирать его и не пренебрегать им, предав осуждению.
Ещё она сказала, что всегда питала доверие к Божественному провидению и возлагала величайшую надежду на него, к чему также и других побуждала, говоря им, что обнаружила и на опыте узнала, что оное Божественное провидение чрезвычайно велико и беспредельно обширно, в чём, как она говорила, они сами иногда убеждались вместе с нею, когда Господь чудесным образом помогал им во время нужды; и прибавила, что оное Божественное провидение никогда не покидает надеющихся на него, и всегда особым образом пребывает рядом с ними.
[362] Преподав им сии и иные спасительные наставления, преподобная дева завершила свою речь заповедью Спасителя, смиренно и настойчиво прося их любить друг друга (ср. Ин. 13:34), раз за разом повторяя сие сладко и пылко: «Любите друг друга, дражайшие мои чада, любите…» Ибо тем они лучше всего покажут, что являются и хотят быть её духовными чадами, если будут иметь друг к другу истинную любовь (ср. Ин. 13:35), а она тогда сможет считать себя и постарается показать себя матерью. Мало того, сказала она, если они будут любить друг друга, то станут её славою и венцом, а она прияв их как чад своих навеки, будет молить Благость Божию, да изольёт в души их столь же обильную благодать, каковая были излита в её душу.
Ещё по некоему праву любви она повелела всем им всегда горячо желать преобразования Святой Церкви Божией и благополучия наместнику Христову и возносить от том смиренную и благоговейную молитву пред Богом, и заметила, что сама всегда, но особенно последние семь лет, носила сие желание в сердце и никогда не преставала, по крайней мере упомянутые семь лет, возносить о том молитвы перед Божественным величием и благостью. И откровенно призналась, что ради обретения оной благодати перенесла на своем теле много мук и недугов, но особенно, по её словам, мучительно страдала ради этого как раз во время сего разговора.
Она прибавила, что как сатана, получив позволение от Бога, наложил на тело Иова многие болезни и муки, так, видимо, получил он от Господа позволение мучительно терзать и её тело, причём многими и разными муками, так что от подошвы ноги его по самое темя (Иов 2:7) в ней, казалось, не осталось ничего здорового, ибо всякий член её тельца претерпевал особую муку, хотя некоторые члены были поражены несколькими видами мучений одновременно, что ясно замечали все видевшие её, даже когда сама она молчала.
После ж всего этого она сказал: «Мне, милейшие, кажется очевидным, что милейший Жених мой окончательно постановил и изволил, чтобы в оном желании жгучем и томлении, а также и по причине его я после мук сих, кои уделила мне Его благость, душа моя будет выведена из сей мрачной темницы и вернётся к своему Началу.
[363] И отмечается в записях, что вышеназванным свидетелям те мучительные страдания её казались столь ужасными, что никто бы не вынес их без поддержки великой благодати Божией; и дивились они, как ей удаётся сносить их такими невозмутимо, даже без признаков какой-либо печали.
Пока они дивились так и стенали от горя, она продолжала: «Не должно вам, чада дражайшие, печалиться о моём преставлении; наоборот, порадуйтесь лучше вместе со мною и поздравьте меня, ибо я оставляю место мучений и иду отдыхать в мирном море, Боге вечном. Вам же обещаю твёрдо, что полезнее буду для вас после преставления, чем была или могла быть когда-либо прежде, пребывая с вами в сей тёмной жизни, полной несчастий. Но, несмотря на это, я и жизнь, и смерть, и вообще всё влагаю в руки вечного моего Жениха, дабы, если Он, видя, что я буду полезна какому-нибудь созданию, изволит, чтобы я и далее пребывала в трудах и мучениях, я готова ради чести имени Его и спасения ближнего хоть сто раз в день, если такое возможно, проходить смерть и мучения. Если же Ему угодно, чтобы я немедля преставилась, будьте уверены, дражайшие чада, что я отдала свою жизнь за Святую Церковь, что считаю исключительнейшей милостью, уделённой мне Господом.
После же всего этого, подзывая к себе каждого по отдельности, она объяснила им, какой образ жизни вести после её преставления. И изволила, чтобы мне сообщили обо всём, и чтобы вместо ко мне теперь обращались, причём одних она направила к иночеству, других к отшельнической жизни, а третьих – во священство. Женщин же, и прежде всего Сестёр покаяния бл. Доминика, отдала под начало Алессии. И так она распорядилась всем до мелочей – согласно внушениям Духа Святого, что потом и подтвердилось на деле, поскольку все повеления её оказались благотворны.
[364] По завершении сего она просила прощения у всех, говоря: «Хотя, милейшие, я всегда жаждала и жаждала вашего спасения, чего не смею отрицать, тем не менее знаю, что во многом вас подвела: и потому, что не была для вас примером духовного света, добродетели и добрых дел, каковым должна и могла бы стать, если бы являлась истинной рабой и невестой Иисуса Христа; и потому также, что не была так рачительна и внимательна к вашим нуждам телесным, как должна была. Посему прошу прощения и снисхождения от каждого из вас, смиренно и усердно призывая и моля каждого из вас следовать до конца путём и стезёй добродетелей, ибо, поступая так, вы будете, как я прежде сказала, радостью моей и венцом моим». И сказав сие, она окончила свою речь.
Затем, позвав духовника (хотя, насколько мне известно, она делала это каждый день), Екатерина свершила генеральную исповедь и смиренно испросила сладчайшего Таинства святой Евхаристии, а также других таинств, кои были согласно желанию её в должный час и должным образом ей уделены. По завершении сего она попросила даровать ей полное отпущение (indulgentiam), каковое уже давно было ей милостиво даровано двумя Верховными понтификами, сиречь Григорием XI и Урбаном VI. Когда сие было сделано, он начала борения и вступила в поединок со своим старым врагом, что присутствовавшие распознали по её действиям и словам, ибо она то молчала, то отвечала, то смеялась, будто бы высмеивая услышанное, порой горячилась.
[365] Однако приметили они кое-что (и думаю, на то была воля Божия), о чём сообщили мне, ибо ненадолго приумолкнув, словно бы выслушивая какие-то обвинения, она ответила с весёлым лицом: «Тщеславие – никогда, но истинная слава и хвала Господу – непременно!»
И недаром Божественное провидение пожелало соделать сие известным, ведь многие духовные мужи, а также жёны, взирая на ласковую её общительность и благодать, в избытке уделяемую ей свыше, думали, что она ищет похвалы от людей или, по крайней мере, получает некоторое удовольствие от неё, и именно поэтому так много общается с людьми. Посему многие, когда заходила речь о ней, даже говорили мне: «Что она всё мечется кругами? Женщина ведь! Почему не сидит в келье, если хочет служить Богу?» На что, если внимательно присмотреться, есть достаточный ответ. «Тщеславие – никогда, – молвит она, – но хвала и истинная слава Господу – непременно!» Она как бы прямо сказала: «Не ради тщеславия я металась и иные дела творила, но всё делала на хвалу и славу имени Спасителя». Также и я, более чем часто принимавший от неё исповедь генеральную и частную, наблюдавший все её действия, могу с уверенностью засвидетельствовать, что всё она делала всегда по особому повелению Божию и по божественному вдохновению, и не только о похвале людской, но и о самих людях нисколько не помышляла, разве что когда молилась об их спасении или когда жертвовала тяготы свои ради оного. Человеку, не изведавшему нравов её, невозможно было бы поверить, насколько эта душа была непричастна каким-либо человеческим страстям, даже тем, что обычно свойственны другим добродетельным [людям]. А потому казалось, что в ней исполнилось оное апостольское изречение: «Наше же жительство — на небесах» (Фил. 3:20). И не в силах она была ни на миг отвлечься от своего устремления и никак не могла унять ревностной любви. А потому не было в душе оной места ни смятенью тщеславия, ни какой-либо неразумной склонности.
[366] Итак, возвращаясь к прерванному повествованию: после долгого борения и обретённой победы, придя в себя, она снова совершила генеральную исповедь (то есть такую, что обычно совершается прилюдно), снова из осторожности попросив разрешения от грехов и снова – полного отпущения, следуя (как я думаю) учению и примеру Мартина, Иеронима и Августина, которые словом и делом показывали верным, что ни один христианин, какого бы совершенства или добродетели он ни достиг, не должен преселиться из сей жизни без покаянного плача или без искреннего раскаяния в совершённых прегрешениях. В знак чего Августин во время своей последней болезни, из-за которой и скончался, велел выписать для него семь покаянных псалмов и прикрепить их к стене, на которую он смотрел со своей постели; постоянно читая их, он обильно и непрестанно плакал. Иероним при смерти прилюдно исповедал свои грехи и недостатки. Мартин, также оказавшись при смерти, словом и делом учил учеников своих, что христианин должен умирать во вретище и пепле в знак смиренного и искреннего покаяния. Горячо стремясь подражать им, святая дева выказывала все признаки искреннего раскаяния и вновь и вновь смиренно просила разрешения от грехов и причитающихся за них епитимий.
[367] Затем, как поведали мне присутствовавшие, силы её телесные внезапно стали убывать, но она при этом не могла прекратить священных наставлений, но неустанно продолжала увещевать чад, которых родила во Христе – не только присутствовавших, но и отсутствовавших. Ибо вспомнив (как они сообщают) обо мне при смерти, она сказала им: «В сомнениях и нуждах вы можете обращаться к брату Раймонду; а ему скажите, чтобы ни за что не падал духом и не трепетал, с какими бы не столкнулся обстоятельствами, ибо я буду с ним, постоянно избавляя его от опасностей, а коль поступит недолжно, я проучу его, чтобы одумался и исправился». Говорят, что она часто повторяла это, и на этих словах, казалось, совершенно выдохлась, утратив способность к связной речи.
Когда же поняла, что близится час исхода, сказала: «Господи, в руки Твои предаю дух мой», и заключила неразрывный и вечный союз с Женихом, Которого невыразимо любила, в тысяча триста восьмидесятом году от Рождества Христова, в двадцать девятый день месяца апреля, приходившийся на воскресенье, около часа Третьего.
В тот час, когда я находился в городе Генуе, её дух молвил мне почти все слова, которые были написаны выше и должны были по её повелению быть мне сообщены – чему свидетель та Истина, Которая не обманывает и не обманывается. Но моё ослеплённое сердце не понимало тогда, откуда эти слова, хотя прекрасно понял и сами слова, и смысл их.
[368] Я находился в упомянутом выше городе Генуе, выполняя согласно уставу моего Ордена обязанности тамошнего провинциала, а поскольку приближалось время генерального капитула, который предстояло провести в Болонье, где должен был быть избран новый генеральный магистр оного Ордена, мы вместе с несколькими другими братьями и магистрами подготовились к отъезду, то есть к путешествию морем до Пизы, чтобы, наконец, под водительством Божиим добраться оттуда до Болоньи – что и сделали.
Наняв для этой цели некий кораблик, мы ждали подходящего времени для отплытия, которое нам пока недостаточно благоприятствовало. Посему в то самое утро, когда преставилась дева, я спустился в церковь по поводу праздника бл. Петра Мученика, который справляли в тот день братия, и, при всём недостоинстве моём, отчитал, сиречь отслужил одну мессу, а по исполнении сего вернулся в дормиторий, чтобы по обычаю путешественников упаковать сумку. Проходя же пред образом Преславной Девы, я по доминиканскому обычаю безмолвно произнес Ангельское приветствие, ради чего приостановился. И тут раздался голос. Он прозвучал не в воздухе и достиг не телесного слуха, но умственного, однако слова сии я в уме слышал лучше, чем если бы они донеслись до меня со звуком внешней речи. И не знаю, как иначе описать этот голос, если вообще можно говорить о голосе, лишённом внешнего звука. Как бы то ни было, тот голос молвил… или донёс до ума моего слова: «Не бойся. Я здесь ради тебя. Я на небесах ради тебя. Защищу и обороню. Будь спокоен и ничего не бойся, я остаюсь здесь ради тебя». Услышав сие в своем уме, я, по правде говоря, пришёл в немалую растерянность и размышлял, что бы это было за утешение и успокоительное обещание (ср. Лк. 1:29).
[369] И хотя в тот миг я мог предполагать, что обратиться ко мне могла только Богородица Мария, Которую я приветствовал, тем не менее, сознавая своё недостоинство, не смел верить этому. Однако подумал, что меня ждёт какая-то огромная неудача, и потому взмолился, чтобы Матерь Милосердия, всегда готовая утешать страждущих, сим утешительным обещанием придала мне больше осторожности и готовности невозмутимо претерпеть всё, чему предстоит случиться. Ещё я предполагал, что (поскольку в упомянутом городе я проповедовал крестовый поход против раскольников) мне, вероятно, доведётся встретить каких-то раскольников в морском пути, и они, наверняка, натворят каких-нибудь бед мне и моим спутникам.
Такими вот помыслами я был отвлечён от понимания той тайны, которую всемилостивейший Господь явил чрез дух Своей невесты, дабы помочь мне, изнемогавшему от малодушия, которое хорошо знала оная дева, но гораздо лучше Господь – Жених её. Поскольку же в рассказанном я вижу для себя больше поводов для стыда, чем для чванства, то и написал сие со спокойной совестью – ведь иначе в попытке избежать позора я умалил бы молчанием своим славу Жениха и невесты, так милостиво благоизволивших укрепить меня.
Кроме того, дабы кто не подумал, что я – единственный, кому в отдалении от Екатерины было откровение о её исходе, придётся мне рассказать об одном видении, которое в час преставления преподобной девы было явлено некоей римской даме, а она поведала мне о виденном со всей серьёзностью и немалым благоговением. Причём я не стал ни пренебрегать её сообщением, ни отмахиваться от него, ибо до того происшествия знал образ мыслей её и жизнь почти двадцать лет или около того, так как она обычно исповедовала мне свои грехи и всегда советовалась со мною относительно нравственных сомнений. Поэтому читай, что я пишу, со спокойной совестью.
[370] Итак, в пору переезда преподобной девы во Святой город жила там некая вдова (matrona), а именно мать двух сыновей по имени Семия. Роду она была не то чтобы совсем безвестного, но и не особо славного, зато имела множество родственников среди обычных граждан Города. Она и до смерти мужа была расположена к служению Всевышнему, а уж после почти полностью посвятила себя паломничествам, то есть посещениям церквей Города, и молитвам – и продолжала в том духе долгое время. Имела она в обычае во всякую пору вставать ночью, лишь ненадолго преклонив голову свою на ложе и освежившись кратким сном, чтобы ещё усерднее предаться трудам паломническим.
И вот, когда Екатерина (как мы сказали выше) прибыла в Город, случилось так, что та вдова, ещё прежде узнав от меня и других о несравненных добродетелях преподобной девы, немедля пожаловала к ней и, вкусив сладости общения с нею, сказала мне и другим, сообщившим ей о деве, что мы и на половину не передали всего её совершенства. Итак, она сблизилась с девой и часто посещала дом, где та проживала, но из-за частых своих паломничеств и из-за необходимости заботиться о детях она порой по многу дней не видалась с преподобною девой, а потому и не думала, что та столь тяжко больна.
[371] Итак, в ночь накануне того утра, когда преподобная дева преставилась от тела, Семия, вышеназванная вдова, встала по своему обыкновению, чтобы помолиться, а на рассвете по окончании молитвы вспомнила, что, раз настало воскресенье, следует встать пораньше, ведь хотелось и на мессу сходить, и, поскольку она тогда была одна дома, нужно было самой приготовить поесть сыновьям. Посему он преклонила голову, намереваясь немного поспать, чтобы вскоре подняться.
По этой причине, как это обычно происходит при душевном беспокойстве, даже во время сна ей не терпелось поскорее встать. И когда она, как бы ведя с собою разговор во сне, сказала: «Тебе нужно пораньше встать, чтобы сначала приготовить поесть, а потом не опоздать в церковь», –явился некий красивый мальчик, лет на вид восьми-десяти, и сказал ей: «Я не хочу, чтобы ты просыпалась или вставала, прежде чем не увидишь, что я хочу тебе показать». Она же (хотя её и восхитил облик мальчика) тем не менее, беспокоясь о мессе, сказала: «Позволь мне встать, добрый мальчик, ведь сегодня мне нельзя пропустить литургии». А мальчик молвил: «Ни в коем случае! Я не хочу, чтобы ты поднималась, пока не увидишь дивных деяний Божиих, которые я хочу показать тебе». И потянув её, как ей показалось, за сорочку, он завёл её в некое обширное и вместительное помещение, похожее по виду на некую молельню или церковь, где наверху находилась некая серебряная дарохранительница, узорчатая и закрытая. И тогда мальчик молвил: «Погоди немного и увидишь, что находится в дарохранительнице сей».
[372] И тут же явился некий другой мальчик, подобный первому; он приставил некую лестницу к той серебряной дарохранительнице, что стояла на возвышении, и, казалось, поднялся по лестнице и неким золотым ключом открыл оную дарохранительницу.
Когда она растворилась, явилась взору дамы некая девушка, чрезвычайно красиво убранная в прекраснейший наряд, ибо она была в ослепительно-белом платье и с ожерельями, а на голове у неё были три венца, весьма плотно составленные или сплетённые, так что каждый представлялся сплошным. Нижний был из серебра, являвшего снежную белизну; второй – серебряным в смеси с золотом, имевшим красный оттенок, как это иногда бывает с красными тканями, покрытыми сверху золотым шитьём; а третий был из чистого золота, но оплетён всюду жемчугом и украшен драгоценными камнями.
Увидев её, благочестивая вдова задумалась, что же это за девушка, столь красиво наряженная, а вглядевшись в лицо её, ясно различила черты девы Екатерины Сиенской. Но поскольку знала, что она старше, чем явилась в видении, предположила, что это кто-то другой. Мальчик же, явившийся ей первым, спросил её, узнаёт ли она ту, кого видит. На что она, не отрывая взгляда, ответила: «Лицом так вылитая Екатерина Сиенская, но возраст не соответствует». Поскольку Семия в нерешительности продолжала приглядываться к находившейся в дарохранительнице девушке, та улыбнулась и сказала оным двум мальчикам: «Видите? Она меня не узнаёт».
За нею шли ещё четыре мальчика, похожие на двух первых, несшие на шестах что-то вроде паланкина в виде брачного ложа с пологом из драгоценных тканей пурпурного цвета, и, поставив его под вышеупомянутой дарохранительницей, они проворно взобрались наверх и взяли на руки увенчанную ту девушку, намереваясь снести её на вышеупомянутое ложе. Но в это время девушка сказала: «Позвольте мне прежде пойти к той, которая видит меня ныне и не узнаёт». Сие сказав, она как бы подлетела к многократно упомянутой даме и молвила ей: «Я Екатерина Сиенская, как и видно по моему лицу». На что вдова ответила: «Ты моя духовная мать Екатерина?» А та: «Да, однако хорошенько запомни, что увидела и что увидишь!»
[373] После сих слов шестеро упомянутых мальчиков отвели её и, разместив на вышеупомянутом ложе, внезапно подняли ввысь. Когда же Семия воззрела на восхождение её, тотчас явился на небесах престол, а на престоле – сидящий Царь в драгоценностях и венце, держащий в деснице раскрытую книгу (ср. Отк. 4:3, 5:1). Мальчики же те поднимали девушку на ложе к подножию престола и к ногам Сидящего, а когда добрались, поставили ложе, и девушка тут же поклонилась Царю, пав к ногам его (ср. Деян. 10:25). Тогда молвил Царь: «Добро пожаловать, невеста Моя возлюбленная и дщерь Екатерина!» И подняла она по велению Царя голову, и читала в открытой книге – по времени столько, сколько потребуется для неспешного произнесения Молитвы Господней, – и наконец по Его же велению поднялась и стала подле престола, ожидая Царицу, Которая шествовала (как казалось Семии) к Царю в сопровождении великого сонма дев.
И когда приблизилась Царица, дева тут же поспешила вниз по ступеням со своего места и, пав на колени, поклонилась Ей, а Владычица Небесная, протянув к ней руки, приветствовала её словами: «Добро пожаловать, милейшая Моя дочь Екатерина!» - и, подняв её, приняла от неё лобзание мира (ср. 1 П. 5:14). Затем, повторно поклонившись Царице Небесной, Екатерина по велению Её подошла к прочим девам и каждая из них с радостью приняла от неё лобзание мира.
Увидев же всё сие, Семия, громко воскликнула: «О Владычица наша, о Матерь Господа нашего Иисуса Христа, заступись за нас!» И еще: «О блаженная Мария Магдалина, о блаженная Екатерина, о блаженная Агнесса, о блаженная Маргарита, молись о нас!» Ибо ведь хотя ей, как она мне рассказывала, представлялось, что всё это происходит на небесах, тем не менее (по её утверждению) она различала все подробности, будто находилась у подножия какой-то лестницы и ей было отчётливо видно происходящее на вершине её. И прибавила, что отлично узнала и различила не только Преблагословенную Богородицу, но и всех остальных – каждую по отдельности. И поэтому назвала каждую по имени, ведь они несли на себе знаки мученичества своего. Например, у Екатерины было колесо; у Маргариты под ногами был дракон; было заметно, что у Агаты отрезана грудь и так далее. Наконец, когда все девы поздравили деву Екатерину, она заняла своё место среди них и была увенчана славой, как мы сказали.
[374] Тут Семия, часто упоминаемая здесь вдова, поднялась или, точнее, пробудилась ото сна и, открыв глаза, увидела, что солнце уже высоко, как бывает в часе Третьем или около того. Изрядно опечалившись как из-за мессы, так и из-за сыновей, которым не было приготовлено поесть, она призадумалась, отчего было явлено ей столь необычное видение. Ведь она не знала и не думала, что преподобная дева скончалась, хоть и ведомо было ей, что она болеет: и потому, что она несколько дней назад была занята другими делами и не посещала её, и потому также, что деве было свойственно поправляться даже от самых тяжёлых недугов. Поэтому она скорее полагала, что в то время, пока у неё было видение, дева по своему обыкновению пребывала в каком-нибудь особенном восхищении духа, в коем получила великие откровения от Господа. Правда, поскольку теперь из-за позднего часа сомнительно было найти мессу в тот день, она заподозрила, что это было прельщение древнего врага с целью заставить её вопреки предписанию Церкви пропустить воскресную мессу.
Посему она тут же заторопилась и, поставив котёл на огонь, побежал в приходскую церковь, говоря в сердце своем: «Если опоздаю к мессе, то это будет мне знаком, что видение было от древнего врага, а если не опоздаю, то скажу, что сие было по заступничеству матери моей Екатерины».
Придя в церковь, она застала уже офферторий после Евангелия. Отчего немало огорчилась и сказала: «О, горе мне! Неприятель обманул меня». И тут же вернулась домой, чтобы, наскоро приготовив поесть, поискать другие церкви, где можно будет выслушать мессу полностью.
[375] Но пока она занималась какой-то работой по дому, услышала благовест к мессе от одного из девичьих монастырей, что был по соседству, возвеселившись чему, заторопилась в ту церковь, и по этой причине оставила капусту, которую очистила и помыла, как была, а не положила её в горшок, как намеревалась; и заперла дверь дома на засов, чтобы никто не проник снаружи.
Когда же она вошла в церковь названного монастыря, оказалось, что месса как раз начинается, чему обрадовавшись, она сказала про себя: «Не обманул меня сатана, как я думала». Правда, она изрядно боялась сыновей, которые были уже достаточно взрослые, ибо хорошо знала, что не приготовила им поесть, да и не могла в надлежащий час приготовить; однако, чтобы утешиться литургическим богослужением, вверила всё Господу, помолившись при этом Спасителю, чтобы, если это видение было от Него, Он уберёг её от гнева сыновей, которых весьма боялась из-суровости их – и таким образом выслушала до конца торжественную мессу.
По завершении оной Семия, возвращаясь домой, встретила на улице сыновей, которые, приблизившись к ней, сказали: «Матушка, час уже поздний, сделайте нам что-нибудь на обед!» На что она им: «Подождите немного, сыночки, скоро всё будет готово». И побежала к дому, который оказался – как она и оставила его – заперт, тогда она отворила дверь и, думая закончить то, что ей оставалось из стряпни да готовки, [поспешила на кухню], где обнаружила, что [блюдо] сиречь капуста с мясом, было полностью готово, да так, что лучше не придумаешь: можно было сразу подавать на стол. В изумлении она осознаёт, что была чудесным образом услышана Господом, и решает сразу после обеда пойти к Екатерине (которая, как она думала, пребывала в теле) и всё ей рассказать.
Сыновей же своих, находившихся недалеко, она зовёт к обеду с немалою радостью, а когда они едят, всё думает и думает о столь великолепном видении, подтверждённом уже двумя чудесами. Пока сыновья, не зная всего этого, нахваливали пищу, что, мол, вышло лучше обычного, она же слагала в сердце своем всё (ср. Лк. 2:19), что видела прежде и ныне, и, как призналась мне лично, говорила про себя: «О матушка моя любимая! Ты вошла в мой дом через закрытые двери, чтобы вместо меня приготовить. Ныне воистину знаю, что ты святая и истинная раба Христова!»
[376] И это всё не вызвало у неё подозрения, что Екатерина преставилась от тела – мало того, как только сыновья, покончив с обедом, удалились, она тотчас же направилась к дому, где проживала дева, и, как обычно, постучала в дверь дома, однако ответить ей было некому. Соседки же сказали ей, что она отправилась посетить храм, а дома никого нет, чему Семия поверила и ушла.
А на самом деле все, кто были внутри, плача и причитая над матерью своею духовной, оставившей их в этом веке жалкими сиротами, скрывали её смерть от других, как для того, чтобы не было смятения в доме и стечения народного, так и потому, что хотели посоветоваться с благоразумными мужами о том, как устроить похороны святой девы. А некоторых, хотя и немногих, они отослали наружу, и те затворили дверь с наружной стороны, как будто в доме никого нет, так чтобы [оставшиеся] могли беспрепятственно утолить плачем скорбь свою и спокойнее обдумать, что делать.
Ну и пришли они к окончательному и определенному решению, что на следующее утро целомудренные останки нужно будет доставить в церковь Братьев-проповедников, которую в народе называют Санта-Мария-сопра-Минерва, и там, как даст Господь, отслужить панихиду. Короче говоря, кончину девы они скрывали всеми возможными способами и дела свои вели тайно, но не смогли настолько скрыть, чтобы Жених её не узнал, как сообщить это многим.
Ибо, как только тело её доставили в церковь, об этом узнали все жители города, и к вышеназванной церкви сошлось великое множество люда, и народ кучами рвался прикоснуться к одежде или ногам Екатерины, так что чада её и братья-проповедники опасались, как бы толпы в запале не разорвали одежды её и тела не растерзали на кусочки. По этой причине они внутри той же церкви переместили священные останки за железную обрешётку одной капеллы, которая была посвящена имени бл. Доминика. А что произошло по свершении сего, станет ясно из следующей главы.
[377] Но в то время, когда всё это происходило, мимо случайно проходила Семия, вдова, весьма часто здесь вспоминаемая, и, увидев шумное стечение народа, спросила о причине столь огромного собрания – тут ей и сказали, что Екатерина Сиенская преставилась, и что останки её находятся в этой церкви, отчего и сбежался народ. Услыхав сие, она тотчас с плачем подошла к месту, где лежали святые останки, и сказала духовным дочерям девы, окружавшим её гроб: «О жестокосерднейшие женщины, зачем вы утаили от меня кончину милейшей матушки моей? Почему не позвали меня проводить её?» Когда же они извинились за это, спросила: «Скажите мне, когда она преставилась от тела!» На что ей ответили: «Вчера, около часа Третьего предала она дух свой Творцу». Тогда Семия, царапая ногтями лицо, закричала: «Я видела её, я видела, как матушка моя милейшая покидает тело: как ангелы вознесли её на небо, увенчанную тремя драгоценнейшими венцами и наряженную в ослепительно-белые одежды! Ныне знаю, что Господь послал своего Ангела и явил мне отшествие матушки моей, и задержал для меня мессу до позднего часа, а паче того, чудесным образом помог мне в готовке! Ох, матушка, матушка! Почему я не поняла, находясь в том видении, что ты покидаешь этот мир?!» Сказав сие, она поведала обо всём увиденном сыновьям и дочерям Екатерины, которые стояли вокруг, охраняя её священные останки.
И здесь да будет конец сей главы.
[ГЛ. V.]
[378] Когда дева сея преподобная завершила своё странствие, божественная сила, неизменно сопутствовавшая ей в земной жизни, не прекращала даже после того, как она отбыла за наградой своей, показывать силу её святого заступничества.
Ведь, как мы обмолвились выше, хотя никто никого не созывал и не приглашал, более того, многие (как было сказано) старались скрыть [смерть Екатерины], почти всё население города Рима стеклось к церкви, где лежали всё ещё не погребённые святые останки её, и такая возникла суматоха от стечения людей, которые благоговейно лобызали её ноги и руки, вверяясь её молитвам, что пришлось (как я уже говорил) переместить святые останки за железную обрешётку капеллы бл. Доминика. При этом многие из них, уверовав в силу её святого заступничества, стали приводить больных и немощных, дабы испросить у Господа для них исцеления по заступничеству сей девы. И они не обманулись в желании своём, по каковой причине я должен привести здесь то, что нашёл в записях, а также поведать нечто, досконально мне известное.
[379] Пока священные останки находились в вышеназванной церкви, пришла туда некая монахиня по имени Доминика из ордена, называемого Третьим Орденом бл. Франциска, уроженка Бергамо, что в Ломбардии, но жившая в Городе. У неё была больна рука, да так давно и тяжко, что за шесть месяцев до кончины девы она потеряла способность пользоваться сей конечностью, потому что она была парализована и едва ли не иссохла.
Не имея возможности приблизиться к телу из-за толпы, она протянула своё покрывало, попросив, чтобы кто-нибудь коснулся им останков девы и передал ей обратно. Когда это было сделано, она положил на неё руку и вскоре та была полностью исцелена. По этой причине монахиня стала восклицать посреди всей толпы той и говорить: «Вот, я исцелена по заступничеству сей девы от неизлечимой болезни, из-за которой у меня отнялась вся рука!» Услышав это, народ поднял великий шум, и многие стали приводить туда своих больных, чтобы им прикоснуться хотя бы к краю одежды её (ср. Мк. 6:56).
[380] Среди прочих привели некоего мальчика четырех лет, у которого от какой-то болезни произошло стяжение шейных жил, из-за чего голова его так прижалась к плечу, что он никоим образом не мог её поднять.
Когда его привели к святым останкам, то тотчас же после того, как к больному месту приложили руку девы и вокруг шеи обвили одно из её покрывал, он начал поправляться, а вскоре поднял голову и полностью выздоровел.
По этой причине святые останки в течение трех дней не удавалось предать погребению – всё из-за знамений и чудес, совершавшихся Екатериной. И столько народу толпилось в названные три дня в той самой церкви, что, когда некий магистр священной теологии пожелал произнести пред народом тем похвальное слово о сей деве и по этой причине взошёл на кафедру, то никак не мог ни утихомирить людского шума, ни, вследствие этого, добиться внимания, а поэтому во всеуслышание сказал: «Сия святая дева не имеет нужды в нашем похвальном слове, ибо она вдоволь сама о себе глаголет и возвещает». И, сказав сие, он спустился с незаконченной, более того, даже не начатой речью… Зато чудеса прибавлялись и умножались.
[381] Например, у некоего римлянина по имени Лучо Каннарола после какой-то болезни, от которой ему не помогало никакое лекарство, отнялось почти всё бедро и вся голень, так что даже опираясь на посох, он едва мог пройти небольшое расстояние. Услыхав же весть о знамениях, свершавшихся Всевышним чрез деву Екатерину, он с великим усилием дошёл до вышеназванной церкви и с помощью других пробрался к месту, где лежали целомудренные останки. И там он с великим благоговением возложил руку девы себе на расслабленное бедро и бессильную голень – и тут же почувствовал целительную силу в тех членах, а прежде чем уйти оттуда, полностью исцелился. Ну а все стоявшие вокруг и видевшие сие благословляли всемогущего Бога, всегда дивного во святых Своих (ср. Пс. 67:36. – пер. П. Юнгерова).
[382] Ещё некая девушка, по имени Ратодзола, лицо которой было обезображено опухолью (нос и верхняя губа её были покрыты ужасными и зловонными нагноениями), прослышав весть о том [исцелении], пошла в упомянутую церковь. Она пыталась приблизиться к святым останкам, и окружающие несколько раз отталкивали её, но, настойчиво продолжая, она, наконец, пробралась и, как бы алкая милости, паче всего чаянной, приложилась болячкой своей не только к ногам и рукам целомудренного тела, но и к лицу. Короче говоря, она тут же почувствовала, как боль в опухоли стала легче, и в короткое время совершенно исцелилась, так что на лице её не осталось никаких следов.
[383] Ещё некий римлянин, по имени Чиприо, имел от жены своей по имени Лелла некую дочь, которая в детстве заболела болезнью, что называется чахоткой, и никакие врачебные средства не могли ей помочь.
Родители же, прослышав вести о чудесах, творимых преподобною девой, благоговейно вверили заступничеству оной девы свою дочь и попросили её прикоснуться к платку или «Pater noster» (чёткам. – см. Ч. 1, гл. II, п. 134. – прим. пер.), касавшихся останков девы. Дивное дело! Хотя они уже почти отчаялись в спасении девочки, она, прикоснувшись к вышеназванным вещам, попросту мгновенно исцелилась и выздоровела.
[384] Ещё, в то время как святые останки лежали непогребёнными, некий житель Города по имени Антонио ди Лелло ди Пьетро, находясь в церкви Князя Апостолов, услышал весть о чудесах, сотворённые по заступничеству сей преподобной девы. Ибо он от какой-то непосильной работы заболел так, что почти утратил способность ходить, а врачи своими обычными лекарствами не могли не то чтобы вылечить, но хотя бы облегчить вышеописанную болезнь.
Посему, услышав оную весть о чудесах, он благоговейно вверился святой деве и дал обет на случай выздоровления по её заступничеству. И надо же, сразу после того, как дал обет, он полностью излечился от того недуга, которым страдал; более не чувствовал тягости и ходил проворно и легко, как прежде. Тогда, придя к мощам исцелительницы своей, он воздал обещанный им обет и поведал всем желавшим слушать об обретённой им милости.
[385] Ещё некая набожная домохозяйка по имени Паола, весьма близкая знакомая святой девы, более того, её услужливая гостеприимица, потому что она принимала в своем доме её со всеми спутниками, перед преставлением преподобной девы четыре месяца сильно страдала от болезненных колик и подагры. А так как лекарства от этих двух болезней имеют противоположное друг другу действие (ибо одно требует средства слабительного, а другое крепительного), то упомянутая домохозяйка страдала чрезвычайно, то и дело оказываясь на грани смерти.
Когда же преподобная дева преставилась, Паола с великой настойчивостью просила дать ей что-нибудь из того, что касалось её святых останков. И вот, когда однажды вечером это сделали, наутро она, поправившись, встала с постели, с которой не могла подняться уже четыре месяца; и ходила свободно – точно, как до болезни. Она сама мне о том сообщила, когда я прибыл в Город.
Сии и множество иных знамений, не записанных никем по нерадивости, сотворил всемогущий Господь через Свою невесту, прежде чем тело Его было предано погребению, которое, как сказано выше, было отложено на три дня из-за стечения народа.
[386] Но и после положения её в могилу божественная сила не перестала творить исцеления больных – их даже прибавилось!
Ибо у одного римлянина, по имени Джованни Вери или Нери, был маленький сын, который всё никак не мог стать на ноги прямо и, соответственно, ходить. Услыхав же вести о вышеописанных чудесах, Джованни дал обет Богу и святой деве Екатерине, прося об исцелении вышеупомянутого сына. Короче говоря, мальчика подвели ко гробнице девы, и как только его положили на неё, укрепились его ступни и голени (ср. Деян. 3:7), и он стал прямо стоять и ходить, как будто никогда не страдал [параличом].
[387] Ещё у некоего Джованни ди Тоццо была жуткое заболевание глаз, до такой степени, что в одном из них роились черви. Он дал обет бл. деве Екатерине Сиенской и вскоре полностью исцелился, а придя ко гробнице, поведал об оказанной ему милости и по обычаю поставил над гробницей восковое изваяньице.
Ещё некая приезжая немка (чьё имя забыли записать тогдашние очевидцы, ведшие записи) страдала глазами так тяжко и так давно, что, казалось, полностью потеряла зрение и почти отчаялась в возможности поправиться. Благоговейно вверив себя сей святой деве, она дала обет и вскоре вновь обрела зрение без всякого лекарства. Посему, придя ко гробнице, она уже видела ясно, как перед болезнью.
[388] Ещё одна римская дама по имени Мария страдала от болезни головы такой тяжкой, что, несмотря на многочисленные и разнообразные лекарства, которые она применяла, полностью ослепла на один глаз. Вследствие этого, как от печали, так и от стыда, она не хотела ни выходить из дому, ни даже появляться перед людьми.
Услышав сии вести о чудесах святой девы, она благоговейно вверилась ей и дал обет. А на следующую ночь святая дева явилась во сне служанке упомянутой даме и сказала ей: «Скажи донне Марии, чтобы она больше не принимала лекарств, но каждое утро ходила слушать службу Часов, и выздоровеет». Когда служанка пересказала сие своей госпоже, та послушалась, стала ходить на службу и вскоре боль утихла, а она начала видеть ослепшим глазом; и, таким образом, прилежно продолжая слушать службу Часов, она полностью восстановила свое прежнее здоровье и зрение.
Тут, читатель, обрати, пожалуйста, внимание на то, как поступила преподобная дева. Ибо в этом она подражала действиям своего Жениха, или, говоря точнее, её вечный Жених уподобил её Себе в этом действии, ибо мало было ей излечить тело призывавшей её, не даровав лекарства и душе. Ведь она могла бы в ответ на воззвание и обет даровать ей исцеление от слепоты, как бывало с другими, но решила услышать больше, чем та просила – по обычаю Спасителя, Который не исцелял тело без души, а тому, кто пришёл за телесным исцелением, сперва простил грехи, сказав: «Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои» (Мф. 9:2).
[389] Ещё некий юноша, именуемый Джакомо, сын некоего римлянина, которого звали Пьетро ди Никколо, заболев каким-то тяжким недугом, много месяцев был прикован к постели, а поскольку никакое лечение ему не помогло, оказался он на грани смерти.
Когда уже не оставалось никакой надежды выжить, некая набожная женщина, именуемая Картерией Чеккола, дала за него обет бл. деве Екатерине, и он немедля, восстановив силы, пошёл на поправку, а совсем скоро исцелился от того недуга.
Ещё одна женщина из Города, звать которую Чилия ди Петруччо, тяжко заболев, оказалась, несмотря на усилия врачей, на грани смерти, так что и сами врачи совсем разуверились в её выздоровлении, рассудив, что согласно естественному ходу вещей она несомненнейше умрёт.
Сама же она, благоговейно вверившись святой деве Екатерине Сиенской, тут же почувствовала улучшение, и, пойдя с того часа на поправку, в течение нескольких дней полностью выздоровела.
[390] Некая благородная и набожная дама, которую звали донна Джованна дельи Ильперини, была близко знакома со святою девой, пока та была среди живых, и поэтому, видя её чудеса, великую веру возымела в святость её, так что, у кого бы ни заболевал кто, она, проведав о том, неизменно убеждала их благоговейно ввериться святой деве Екатерине Сиенской, благодаря чему многим помогла исцелиться по заступничеству её.
Случилось же так, что однажды один из сыновей той самой знатной дамы, малый летами, беспечно прогуливаясь или бегая по террасе своего дома, сверзился (поскольку там не было никакого ограждения, способного ему помешать) вниз на землю на глазах у собственной родительницы, которая, увидев сие, решила, поскольку это было вероятнее всего, что ребёнок погиб от падения оного или, по крайней мере, навсегда искалечился. Тогда она громко воскликнула: «Св. Екатерина Сиенская, тебе вверяю сына моего!» Дивное дело! Хотя высота веранды, хрупкость ребёнка и условия падения естественным образом предвещали скоропостижную смерть упавшего, мальчик, тем не менее, не пострадал вообще и после падения был так же здоров, как и до. Когда же вышеназванная мать его, со всякою поспешностью спустившись к нему, обнаружила это, то благоговейно и смиренно возблагодарила всемогущего Бога и Его невесту Екатерину и возвещала всем о святости девы Екатерины Сиенской.
[391] Ещё была некая женщина, зарабатывавшая помощью другим по хозяйству, а прежде всего – стиркой, и звали её Бона ди Джованни. Однажды во время своей стирки на берегу Тибра довелось ей стирать своебразное покрывало для кровати, сделанное из льняной ткани и хлопка, называемое в народном наречии культрой (от лат. culcitra – тюфяк, подушка; в совр. ит. coltre, англ. – quilt, польск. – kołdra. – прим. пер.). И вот, стирая эту культру, она по неосторожности позволила большей её части простереться вдоль течения реки, а эта часть потянула своей тяжестью другую, находившуюся у неё под руками, – и в итоге культра, целиком выскользнув из её рук, поплыла по течению вод. Заметив это и зная, что не сможет по бедности своей заплатить за культру, если она потеряется, Бона попыталась выловить покрывало, но так как оно отплыло слишком далеко, чтобы она смогла до него дотянуться, то и её унесло течением воды далеко от берега.
Итак, за неимением всякой помощи человеческой, оставалась ей только подмога Божия, и только Бона подумала прибегнуть к оной, вспомнились ей вести о знамениях и чудесах, творимых в те дни в городе святой девой. Поэтому, призвав её, она сказала: «О святая дева Екатерина Сиенская, спаси меня от столь страшной опасности!» И что же? Немедля явилась помощь от девы: Бона внезапно почувствовала, что поднимается над водами, и, как если бы течения не было, сама с культрой в охапке отклонилась от направления потока и без какой-либо человеческой помощи добралась до земли.
После того она сама в изумлении задумалась и не мог представить себе, как ей удалось избежать оной опасности, если только не признать со всей ясностью, что святая дева чудом помогла её и предстательством своим спасла.
Все сии и многие другие знамения явил всемогущий Бог во свидетельство святости целомудренной невесты Своей прежде моего приезда в Город, а когда мне, наконец, довелось приехать с непереносимым для меня бременем, сиречь в должности магистра Ордена проповедников, тогда братия и сёстры мои, святой девы сыны и дочери во Христе поведали мне всё вышенаписанное. Но и по моём прибытии одно произошло чудесное знамение, свидетелем которого я отчасти являюсь, а потому умалчивать о нём мне отнюдь не подобает.
[392] Итак, я был в Городе и перенёс святые останки оной девы в день, который она предсказала за много лет, что будет яснее изложено ниже. И по причине телесной болезни я нуждался в помощи врача, который и жил по соседству от обители моих братьев, и мне был хорошим знакомым и другом, а звался магистром Джакомо де Санта-Мария-Ротонда.
Однажды, придя ко мне с врачебным визитом, он рассказал, что молодой гражданин Города по имени Никколо, или уменьшительно Кола, сын жены, сиречь приёмный, иначе говоря, пасынок одного именитого римского гражданина по имени Чинцио Танканчини тяжко захворал болезнью горла, которую врачи называют ангиной, и что он не видел никакой возможности естественного излечения, по каковой причине совершенно отчаялся в оном. Сверх того, как я услышал и от других, упомянутый юноша был при смерти, и уже ожидали его кончины.
Однако слух о том дошёл до Алессии – той сподвижницы святой девы, о которой многократно говорилось выше, – и она, памятуя, что названный Чинцио со всем своим домом весьма почитал и любил святую деву, поспешила к упомянутому юноше, уже бывшему при смерти, захватив с собою зуб девы, который она хранила при себе как великое сокровище. Застав того юношу уже почти мёртвым от удушья, ибо опухоль постепенно перекрыла ему горло, Алессия приложила вышеназванный зуб к его горлу, и тотчас раздался громкий звук, как будто от падения камня, и нарыв прорвался. Больной поднял голову, и у него изо рта изверглось большое количество гноя. После того он в кратчайший срок вполне выздоровел, за что возблагодарил Бога и преподобную деву, силою зуба которой он на этот раз был избавлен от зубов смерти.
О сем знамении, удивительном для всех, но особенно для врачей, которые лучше знали природные законы и состояние совершенно обычного больного, этот Никколо, или Кола, возвещал всем во всеуслышание, да с таким рвением, что однажды, когда я, проповедуя народу слово Божие и рассказывая о великих делах, которые Господь сотворил через невесту Свою, поведал народу о сем знамении, он встал посреди народа и сказал громким голосом: «Сударь, правду вы говорите – я тот, кому сия святая дева сотворила это чудо!»
[393] Да будет тебе, читатель, ведомо, что к этим знамениям и чудесам, о части коих мы здесь сообщили, прибавилось много других, не преданных записи, о чём можно было догадаться по изображениям, то есть восковым изваяниям, большое количество которых находилось на её гробнице ещё во время, когда я там присутствовал лично. Но необузданная алчность, чтобы не сказать злобство, каких-то воришек (не знаю, то ли захожих, коими всегда полнится Город, то ли местных) никак не позволяла этим изваяниям простоять долго. Ибо их мало-помалу втихаря полностью расхитили воры, которые без сомнения или уже наказаны, или скоро будут. Ну а я, обвиняя себя пред Богом и ангелами Его, а также и пред всеми верными, признаюсь, что ко мне приходило много мужей и жён, обретших различные и дивные милости по заступничеству сей святой девы, и сие оказалось забыто из-за моего нерадения паче, чем по чьей-либо [вине], потому что я не позаботился изложить их в письменном виде, хотя однажды отрядил на это некоего нотариуса, который не потрудился их записывать.
[394] Однако, понемногу исправляясь, я не премину привести одну припомнившуюся мне историю.
Собственно говоря, когда однажды королева Иоанна послала против Города Ринальдо Орсини с великим разноязыким воинством, чтобы заставить [горожан] пленить, либо изгнать, либо (что всего страшнее) убить Верховного понтифика Урбана VI, римляне мужественно и благоразумно остались верны своему понтифику, отчего вышло так, что многие жители Города, особенно из низших слоёв, попали в руки врагов, которые некоторых привязали к деревьям и так оставили умирать жестокой смертью, а некоторых увели за город и заковали в железные кандалы, дабы получить за них выкуп.
Однако, как я узнал от некоторых из освободившихся, все, кто тотчас призывал деву, чудесным образом освобождались от своих уз, хотя никто не помогал им помимо Бога, и благополучно возвращались в Город. Затем один из них сообщил мне, что едва он призвал её, незамедлительно обнаружил, что свободен от верёвок, которыми враги привязали его к какому-то дереву. Рассказав об этом с немалым благоговением, он к тому же присовокупил, что и некоторые другие обретали такую же милость по заступничеству святой девы Екатерины.
Помнится, о таких знамениях, равно как и ряде других я слышал от многих, но поскольку память моя с возрастом оскудела, все остальные случаи я не могу воспроизвести в подробностях. Однако умоляю читателя, да будет он благосклонен и, не досадуя ни на объём сей книги, ни на грубость слога, собирает цветы и плоды себе на благо, как заразы чумной избегая вечно теплохладных, вечно подозрительных, подозрительно-злобных хулителей.
Собственно, на этом я бы и закончил сей труд, если бы не [подобало сказать] о её терпении, которое Церковь воинствующая чествует в своих святых паче знамений согласно учению бл. Григория, считавшего, что добродетель терпения превыше знамений и чудес. [И об этой её добродетели] я продиктую отдельную главу, коль по молитвам святой позволит Жених её вечный, Который с Отцом и Святым Духом живёт и царствует во все веки вечные. Аминь.
[395] Се речение Первоистины, воплотившейся ради нашего спасения: «Те, которые слово держат в сердце добром и благом, дают плод в терпении» (ср. Лк. 8:15. Пер. еп. Кассиана). И, как было упомянуто немного выше, бл. Григорий говорит в книге Диалогов: «Я думаю, что добродетель терпения превыше знамений и чудес» (ср. Dial. Lib. I, I). А апостол Иаков в своем каноническом [послании] говорит, что терпение имеет совершенное действие (Вульг. Иак. 1:4) не потому, что оно является высшей среди добродетелей или царицею их, но потому, что оно – неразлучная спутница той добродетели, которая, по свидетельству Апостола, больше других добродетелей и никогда не перестаёт и не упразднится (ср. 1 Кор. 13:8). Это любовь, без которой никакая другая добродетель не приносит человеку никакой пользы. О которой тот же апостол, описывая её, молвит, что она терпелива и благостна, не завидует, не раздражается и не ищет своего (ср. Вульг. 1 Кор. 13:4-5).
По этой причине Святая Матерь Церковь, исследуя жизнь святых перед внесением их в святцы, поначалу не обращает внимания на чудотворения по двоякой причине. Во-первых, потому что многие злые люди творили и будут творить знамения, которые кажутся чудесами, хотя таковыми не являются, как волхвы фараоновы; подобным же образом будут их творить Волхв и Антихрист со своими приспешниками в своё время. Во-вторых, потому что порой некоторые, даже силою Божией творившие чудеса, в конце концов были отвергнуты, как Иуда, и те, о ком в Евангелии сказано, что в День судный они скажут Господу: «Не Твоим ли именем мы знамения творили?» Каковым Он ответит: «Отойдите от Меня, делающие беззаконие» (ср. Мф. 7:22-23).
Из чего можно ясно уразуметь, что знамения или чудеса должны быть тщательно исследованы учёными, и хотя сами по себе не могут доказать Церкви воинствующей, что особа, чрез которую они совершались, была предназначена к вечному блаженству и удостоилась его, однако они дают великое чаяние на святость – особенно те, которые свершаются после ухода из сей жизни. Но и сии не вполне доказывают [святость покойных], поскольку даже если те, на чьих могилах совершаются чудеса, не были святы, возможно, что Бог милосердный отозвался на веру тех, кто считает их святыми – не ради их самих, но ради славы имени Своего, дабы верующие в Него не обманулись в своём уповании.
[396] Посему Святая Матерь Церковь, водимая Духом Святым, желая, насколько это возможно в сем мире, удостовериться в заслугах святых, спрашивает об их житии, то есть о том, что они сделали на земле. Ибо так учил Жених её, говоря: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:16), то есть по делам их, поскольку, как тут же добавляет Спаситель, «не может дерево худое приносить плоды добрые, ни дерево доброе приносить плоды худые» (ср. Мф. 7:18). А это дела любви к Богу и ближнему, на коих (по свидетельству Спасителя) утверждается весь закон и пророки (ср. Мф. 22:40). Но поскольку насколько эти дела Богу угодны, настолько же диаволу неугодны, то оный диавол всячески старается воспрепятствовать им, как сам, так и посредством мира, то есть приверженных миру людей.
Посему святым мужам, желающим упорствовать в добре, без чего – то есть без упорства – не удостоиться венца, всегда необходимо терпение, благодаря которому они сохраняют в себе благую любовь к Богу и ближнему, несмотря на любые гонения. Вот для чего Спаситель сказал ученикам: «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21:19). А Апостол указывает первое свойство любви, говоря: «Любовь терпелива» (Вульг. 1 Кор. 13:4). Итак, вот по какой причине, как было сказано, при канонизации святых больше рассматривают дела, чем знамения, а среди дел больше исследует дела терпения, чем какие-либо другие, так как они паче всех свидетельствуют о любви и святости.
[397] Так подробно я высказался потому, что сие вместе со всем написанным выше, было диктовано и писано мною с целью привлечь внимание Святой Католической Церкви и руководителей её к святости сей девы, а в связи с вышеупомянутым считаю целесообразным продиктовать отдельную главу о её терпении, чтобы ни у кого не было оснований усомниться в её святости.
Поскольку же (как с помощью Господней будет показано ниже) вся её жизнь была украшена терпением, перечисление её деяний, ознаменованных терпением, составит, коли позволит Господь, как бы эпилог сего жития. [Делаю я это] преимущественно ради привередливых читателей, которым один час, проведённый за благочестивым чтением, представляется дольше целого дня, а за баснями да выдумками день кажется короче часа. Итак, для желающих кратко ознакомиться с тем, каково было терпение сей девы, дальнейшее будет изложено в весьма упорядоченном виде, дабы сам порядок, предотвращая многословие, придал [повествованию] краткости.
[398] Кроме того, ни от кого из тех, кто знает свойства добродетелей, не укрыто, что добродетель терпения (patientiae) направлена на то, что против человека: на то указывает само её имя, очевидно происходящее от patiendum – «перенесения страданий». Ну а то, что людям противно, подразделяется на два главных вида: есть нечто противящееся душе, а нечто — телу. Но в том, чтобы противиться душе, нет никакого добродетельного терпения, а наоборот, только порочное, в чём упрекнул коринфян блаженный Апостол, иронично и в образных выражениях написав им: «Вы, люди разумные, охотно терпите неразумных» (2 Кор. 11:16) А добродетель терпения проявляется при противлении телу, если понимать под телом всё, что открыто чувствам странствующего [земной стезёй] человека, относится ли это к нуждам тела или же к потребностям духа, что будет яснее изложено ниже.
Ведь блага, которыми может владеть человек в этой жизни, согласно мнению философов, подразделяются на три типа, ибо одни приятны, другие полезны, третьи почетны; и при лишении их – навсегда или на время – можно посмотреть, как проявляется добродетель терпения. Блага приятные – это телесная жизнь и здоровье, изысканная пища и одежда, а также прочие плотские приятности, в том числе и любовные. Полезные же – это богатства, включающие в себя много видов достояния, а именно: дома, земли, деньги, скот, домашнее добро и все, что от них происходит, множество родственников и слуг, и всё, что помогает живущим в сей бренной жизни. Ну а почётные – это те блага, которые делают человека досточтимым в глазах других, как, например, доброе имя или добрая слава, почётная дружба, похвальные занятия и всё, что способствует совершению добродетельных поступков. Но некоторые из вышеназванных благ совершенно незаконны, и их следует сходу отсекать; некоторые представляют собой помеху совершенствованию в добродетелях, и их следует остерегаться, а лучше – презирать; некоторые законны, а некоторые необходимы для человеческой жизни – и лишение их нужно сносить терпеливо, что будет подробнее показано ниже, когда мы в вышеописанном порядке подробнее изложим деяния сей святой девы.
[398] Итак, возвращаясь к нашей задаче, которая состоит в том, чтобы, сколько даст Господь, изложить в качестве эпилога всё сказанное о совершенном терпении сей девы, [поведаем следующее].
Да будет тебе ведомо, добрый читатель, что сия преподобная дева, считая, что терпение ничем ей не поможет, если она поначалу не устранится от незаконных, а паче всего любовных, утех, прежде чем достигнет возраста, в котором сможет их испытать, отсекла их столь же рассудительно, сколь и решительно.
Произошло же сие не без божественного вдохновения и знаменательного видения, при котором на шестом году жизни она телесными очами своими узрела Господа в архиерейском облачении и увенчанного митрой Верховного понтифика, восседающего в прекраснейшем чертоге над церковью Братьев-проповедников в окружении Петра, Павла и Иоанна Богослова. Господь, воззрев на неё милостиво, благословил её царственною десницей и наполнил душу её любовью Своею так совершенно, что она, позабыв о детских привычках, в малые лета свои предалась покаянным подвигам и молитве, причём усовершилась до такой степени, что в следующем году, когда ей исполнилось семь, дала обет вечного целомудрия перед Пресвятой Девой, то есть Её образом, предварив сие зрелым размышлением и продолжительной молитвой, о чём подробнее и пространнее повествуется во второй и третьей главах первой части.
[399] Но поскольку благочестивая девочка знала, что для сохранения целомудренного состояния чрезвычайно полезно, а может быть, даже необходимо ограничивать свои жизненные потребности, придерживаясь воздержанности в пище и питии, с нежного возраста приступила к сему [постничеству], а в совершенных летах достигла не просто похвальных, но и совершенно чудесных успехов. Ибо, как было сказано выше в названной третьей главе первой части и подробно изложено в шестой главе той же части, она с детства начала в большинстве случаев отказываться от мясных блюд. Потом, немного повзрослев, отказалась от мяса совсем, а вино пила настолько разбавленным, что оно едва имело вкус вина. На пятнадцатом же году жизни она стала полностью воздерживаться от вина и, отвергая любого рода еду, оставила себе в потребление и пропитание только хлеб и сырые травы. Наконец, на двадцатом году жизни она полностью отказалась и от хлеба, подкрепляя своё тело только сырыми травами. И так продолжала она [питаться] до тех пор, пока всемогущий Бог не наделил её тело небывалым и чудесным образом жизнедеятельности, сиречь способностью оставаться вообще без пищи, что случилось, если не ошибаюсь, около двадцати пятого или двадцать шестого года её жизни, о чём подробно написано в пятой главе второй части, где описывается причина и способ, то есть почему и как она пришел к такому состоянию, а тем, кто роптал и презирал такой образ жизни, даётся исчерпывающий (если я не слишком обольщаюсь) ответ.
[400] Итак, бросив взгляд на предварительную подготовку, состоявшую в чистоте и умеренности, коими отсекаются все плотские утехи как незаконные, перейдём теперь к терпению сей преподобной девы.
Но да будет тебе ведомо, добрый читатель, что терпение её по большей части испытывалось лишением почётных благ, ибо, хотя она страдала телесными болезнями и не раз подвергалась опасности насильственной смерти, это, как будет видно ниже, её только радовало, в то время как оные [духовные испытания] мучили её чрезвычайно.
Кто ж из домашних её или близких не досаждал ей с детства и до кончины, лишая её оных [благ]?! И первой тут была родительница её и братья, которые, пожелав выдать Екатерину замуж на заре её юности, лишили её всех (насколько то было в их власти) почётных благ: отняли у неё личную комнатку, а саму отправили заниматься грязной работой по кухне, чтобы она не могла ни молиться, ни размышлять, ни предаваться каким-либо занятиям созерцательного свойства. Сколь великим было её терпение при таковых преследованиях и каким радостным, полнее рассказывается в четвертой главе первой части этого Жития. Ибо дивным образом и достодивными путями добродетели неуклонно двигалась она к обету целомудрия, занимаясь рабским трудом со всерадостным сердцем и ликом, причём, несмотря на хлопотные занятия и отсутствие своего уголка, она не оставляла постоянной молитвы и, что важно, не укорачивала её, а наоборот, постоянно приращивала, пока не превозмогла и преследования, и преследователей, о чём поведано в упомянутой главе.
Но после того, когда древний враг захотел воспрепятствовать её подвигу – самобичеваниям, ночным бдениям и спанью на жёстком ложе, – он снова возбудил против неё мать её Лапу, доведя оную чуть ли не до безумия. Она же, ограждённая силою терпения и чудесной рассудительностью, и ярость матери неописуемым образом умиряла, и суровый свой подвиг неизменно блюла, о чём полнее рассказывается в шестой главе первой части.
[401] Нелегко перечислить, сколько помимо всего этого препятствий чинил ей «враг человек» (Мф. 13:28) в стяжании почётного блага, состоящего в постоянной молитве, в умерщвлениях телесных, в помощи ближнему, но я буду указывать, где эти события описаны в Житии подробно.
Итак, древний враг всеми возможными для него способами сначала пытался похитить преподобную деву из объятий её вечного Жениха, затем – отвлечь её и, наконец, хотя бы на время помешать ей, но она повергла похищающего силою своего рвения, одолела отвлекающего благоразумным поведением (sapienti consilio), посрамила мешающего неизменною доблестью.
Ибо злобный враг пытался отвратить её от святого подвизания, во-первых, через замужнюю сестру, которая завлекала её суетным любопытством к причёскам да нарядам, что полнее поведано в четвёртой главе первой части. Во-вторых, через братьев и мать, коими овладело желание выдать её замуж, что полностью описано в той же главе. И в-третьих, сам, досаждая ей искушениями, вплоть до прельщающих видений (как я недавно обнаружил в одной записи, сделанной писцами её посланий), что случилось перед приятием святого иноческого хабита, о каковом приятии упоминается в седьмой главе первой части.
[402] Ибо когда она однажды молилась пред образом распятого Христа, посреди встрял древний враг с шелковым платьем в руках и уже готов был облечь в это одеяние деву, и хотя она, оградив себя крестным знамением, презрительно его осмеяла и обратилась к Распятию, однако после своего исчезновения он оставил [в душе её] столь искусительное [воспоминание] о великолепной одежде, что ум девы немало смущался. Впрочем, тут же вспомнив об обете девства, она так воззвала к Жениху своему: «Вселюбезный Жених мой, Ты знаешь, никогда я не искала иного жениха, помимо Тебя; так помоги же мне победить эти искушения во имя Твоё святое! И я прошу Тебя не о том, дабы забирал Ты их у меня, но дабы милостиво соизволил даровать мне победу над ними».
Едва промолвила она слова сии, явилась ей Царица Дев, Матерь Божия, которая как бы извлекла из ребра распятого Сына прекраснейшее одеяние и сама же украсила его лучезарными и сверкающими каменьями, а затем облачила деву в оную прекрасную одежду, сказав: «Да будет тебе известно (ср. 1 Цар. 28:1), дщерь, что одежды, которые из бока Сына Моего исходят, превосходят все иные одежды в красе и изяществе». После этого всякое искушение прошло, и дева обрела безмерное утешение.
Вот и получилось так, что силою рвения своего отбила дева троекратное наступление, каждое из которых имело целью отвратить её от святого обета.
[403] Затем она (как было сказано) победила благоразумным поведением отступающее воинство, ибо, во-первых, когда мать поначалу хотела отвадить её от подвижнической жизни, Екатерина благоразумно умирила её, почти не умалив покаянного подвига, как было повторно рассказано выше. Во-вторых, когда её собственный духовник и советчики обоих полов по неведению уговаривали её принимать пищу, она с величайшим благоразумием уклонилась от этого, как было сказано в пятой главе второй части. И в-третьих, ни словом сказать, ни пером не описать, сколько терпения ей потребовалось, чтобы с поистине чудесным благоразумием, неизменно храня совершенное послушание Богу, смягчить настоятелей и других [вышестоящих особ], запрещавших ей посещать те места, куда божественное откровение велело ей направиться, или совершать дела, которые Господь повелел ей исполнить.
Лично мне известно о множестве великих обид такого рода, причинённых святой деве даже теми, кто, скорее уж, должен был бы утешать её, о каковых не считаю себя вправе сообщать и рассказывать, однако, тем не менее, знаю, что она все их преодолела мужественным терпением и благоразумным поведением.
[404] Затем древний змий, видя, что не может ни отвратить, ни удержать её от исполнения святого обета, пытался хоть на время воспрепятствовать ей – как сам, так и с помощью разных людей, о чём подробнее будет сказано ниже.
И во-первых, [его орудием оказалась] мать, которая повезла Екатерину на купальни, дабы хоть на время отвлечь ее от самобичевания и прочих подвигов, но она ухитрилась найти там ещё более суровое средство покаянного подвига, чем у себя в комнатке, а именно: терпеливо и подолгу терпела потоки горячей воды, о чём я полнее написал в седьмой главе первой части. Впрочем, сие (как я там сказал), на мой взгляд, не обошлось без чуда, ведь, пройдя [через таковое испытание], она не получила ни смертельного, ни пускай бы хоть заметного ожога на плоти своей.
Во-вторых, [диавол действовал через] невнимательных начальников и начальниц да ничего не понимающих настоятельниц, которые ей постоянно препятствовали ходить на исповедь так часто, как ей наипаче хотелось бы; молиться столько, сколько требовало её горячее рвение; да и творить разные свои многочисленные молитвенные правила, ибо они сего не понимали, как душевные, [не имеющие духа] (Иуд. 1:19); как сущие во тьме – проклинали свет (ср. Ин. 3:19); и как живущие в глубине долины пытались измерить вершины гор, о чём, помнится, я пространее писал в пятой главе второй части.
Однако же для того, чтобы лучше показать величие её терпения, я решил привести здесь некоторые подробности, о которых там не сообщалось. Ведь, хотя о том не поведаешь, не вогнав в краску кое-кого из монашествующих, всё же лучше обнародовать [эти сведения], нежели утаить то, какие дары Святого Духа были уделены сей преподобной деве. Ибо так читатель сможет проникнуться страхом и любовью; страхом – услышав о прегрешениях оскорбителей, а любовью –видя добродетель терпеливой; так что благодаря первому он отступит от зла, а благодаря второй – приступит творению блага (ср. Пс. 36:27) в мужественном терпении.
[405] Итак, да будет тебе ведомо, добрый читатель, что, прежде чем я удостоился знакомства с преподобной сей девой, она едва могла прилюдно хоть как-то проявить своё благочестие, не претерпев клеветы, помех и гонений, причём прежде всего от тех, кто наипаче должен был благосклонно относиться к ней, а также постоянно поощрять её к таковым проявлениям.
И не удивляйся, ибо (как я сказал выше в пятой главе второй части), если особы духовные не вполне угасят себялюбия, они падают в яму зависти глубже всякого плотского человека; в пример чего я привёл там монахов Пахомиевых, которые, не в силах подражать постничеству Макария, сказали, что уйдут из монастыря, если Макарий не будет изгнан.
То же, в общем-то, произошло и в нашем случае, ибо, когда Сёстры покаяния бл. Доминика увидели, что Екатерина, ещё девочка, опережает всех сестёр в строгости жизни, зрелости нравов и приверженности к молитве и созерцанию, древний змий, сеятель зависти, тут же вошел в некоторых из них, и они стали по обычаю фарисеев, как прилюдно, так и тайно чернить её действия и открыто обсуждать между собой, а также пред начальством Ордена, что её следует наказать. Если же некоторые [из них] считали себя достигшими великих высот и, более того, со всей ясностью это показывали, то, не будучи в состоянии отрицать всем известное, вторили фарисеям и книжникам, утверждая, что Екатерина творит знамения в веельзевуле, князе бесовском.
Эти женщины, сущие дочери Евы, так заразили своими заблуждениями Адама, то есть некоторых руководителей и отцов Ордена проповедников, что им удалось добиться лишения её то общения, то Святого Причастия, то исповеди или духовника, что она безропотно выдерживала и переносила с величайшим терпением, как будто эти обиды наносились не ей; и никто никогда не слышал от неё жалоб или ропота на такое отношение; и почитала она себя ещё более обязанной молиться за них – причём не как за гонителей, но как за особо [щедрых] и любезных благодетелей.
[406] Помимо же того, если ей и разрешалось причащаться, то хотели, чтобы она поскорее вставала с молитвы и удалялась из церкви, что для неё было совершенно невозможно. Ибо она принимала Святое Причастие с таким пылом, что дух её восхищался от чувств, а тело в то время ничего не чувствовало, и в таком состоянии она пребывала по многу часов, о чём пространнее рассказывается выше – во второй и последней главе второй части. И вот те, кто был введён в заблуждение вышеупомянутыми сёстрами, порой так воспламенялись против Екатерины, что, застигнув святую деву в таковом экстазе, силою поднимали её, застывшую и бесчувственную, да так и выбрасывали за двери церкви, словно какого-то изверга (ср. 1 Кор. 15:8), где её сподвижницы не без слёз защищали её от полуденного солнцепёка, пока она не возвращалась к телесным чувствам.
Некоторые даже (как мне сообщали) в гневе пинали её, пока она пребывала в оном восторге, но ни разу не слыхано было от Екатерины ни словечка о том, что всё это или нечто подобное её тяготит; напротив, она никогда об том не упоминала в разговоре, разве только для того, чтобы оправдать творивших такое, когда близкие ей мужи или жёны их порицали.
[407] Но чем совершеннее было её терпение к наносимым ей оскорблениям, тем паче Жених её, Судия справедливейший, гневался на оскорбителей и тем суровее наказывал их.
Ибо, как я (едва удостоившись знакомства со святою девой) узнал от предшествовавшего мне духовника, равно как и от нескольких других достойных веры людей, некая дама однажды с негодованием пнула Екатерину, когда та находилась экстазе, но, вернувшись домой, была внезапно охвачена смертною мукой и, не прияв церковных таинств, в кратчайший срок испустила дух.
А какой-то другой несчастный – и лучше было бы ему не родиться из чрева (ср. Мф. 26:24) – пинал её так же, как в вышеописанном случае, да притом однажды оскорбительно силою выставил её за церковные двери. Он был так сурово наказан что я, пожалуй, не осмелюсь сказать. Этот бедолага, которого я превосходно знаю, до того дошёл в своих проявлениях ненависти к преподобной деве, что (как сообщил мне заслуживающий доверия человек) вдобавок к вышеописанным деяниям однажды замыслил убить её – и ничто бы его не остановило, кроме того, что он не нашел её там, где рассчитывал. Сама она, однако, ничего не знала об этом, но её Жених, для Коего ничего не остаётся безвестным, воздал ему за всё. Ибо через несколько дней он перебрался куда-то, где впал в безумие или помешательство, чтобы не сказать взбесился – причём сие не предварялось и не сопровождалось никакой телесной болезнью. День и ночь он кричал: «Помогите ради Бога; пристав меня вот-вот меня схватит и обезглавит!» Находившиеся с ним в одном доме, слыша сие, уговаривали его не бояться, рассудив по словам и действиям, что тут ничем не поможешь – он идёт к окончательному помешательству. Затем они принялись его усердно стеречь, прежде всего потому, что из его слов и жестов ясно следовало, что он хочет убить себя. Короче говоря, когда через несколько дней он якобы пришёл в себя и его перестали стеречь с прежней бдительностью, он ночью тайно вышел из того городка и, точно второй Иуда, повесился в зарослях или, вернее сказать, удавился, ибо, чтобы убить себя, он верёвку привязал не высоко, но к пню какого-то дерева, а сам, сев на землю, обвязал себе шею другим концом той же верёвки и удавился только за счёт усилия, как сообщил мне тот, кто нашёл его задохнувшимся и предал труп земле. Впрочем, похоронили его не в освящённом месте и без какой-либо похоронной службы, но где-то в отдалении закопали в перегной, как и подобало.
Из всего этого читатель может понять, как велика была добродетель терпения у сей девы и сколь угодны дела её были Всевышнему, столь сурово отмстившему за её обиды.
[408] Поскольку же в число почётных благ не зря включают доброе имя и добродетельную дружбу, то помимо сего необходимо здесь ещё поведать об одном тягчайшем [испытании], при котором Екатерина лишилась обоих вышеупомянутых [благ], и вместе с тем о несравненном терпении её, которое, пожалуй, правильнее назвать мужеством и запредельной любовью к ближнему, нежели терпением, о чём полностью рассказывается в четвёртой главе второй части.
Ведь все святые Учители признают, что доброе имя девицы уязвимо, а девичья скромность чрезвычайно ранима, по каковой причине нет для них ничего тяжелее пятна бесчестия, ничего страшнее обвинения в порче. Именно поэтому, среди прочего, Господь пожелал, чтобы Царица, девственная Матерь Его имела названного супруга. Поэтому же, уже распятый на кресте, Он ту же Деву-Мать вверил Иоанну. Итак, терпеливо перенося сие бесчестие, дева проявляет больше добродетели терпения, чем при любой пытке, насильно причиняемой её телу. Сего ради я повторяю здесь в качестве эпилога три случая, содержащиеся в вышеупомянутой четвертой главе второй части, которые касаются этого предмета: первый из коих удивителен, второй – удивительнее, а третий – превосходит всякое удивление.
[409] И во-первых там было написано, что некая женщина по имени Чекка лежала больная в одном приюте, и подхватила проказу, и не было у неё не только предметов необходимых, но и ухода, ибо никто не стал бы ухаживать за нею, боясь заразиться проказой. Святая дева, услышав сие, пошла туда с радостью и предложила ухаживать за нею самолично, обеспечивать всем необходимым, а что пообещала на словах, то сполна совершила на деле.
И пока она тем занималась, больная, возгордившись от полученного внимания, ругала благодетельницу свою словами оскорбительными и едва ли не поносными, да постоянно подзадоривала её, однако святая дева, вооруженная крепким терпением, ничуть не волновалась. Затем, когда от заражения руки девы покрылись проказой, она упорно продолжала святое служение, скорее предпочитая заболеть проказой, чем оставить службу своей ругательнице. И не оставляла она её до тех пор, пока собственноручно её не похоронила, и тогда проказа чудесным образом сошла с рук девы. А как вынести всё сие и одолеть, её научила любовь, терпеливая и благостная (Вульг. 1 Кор. 13:4).
[410] Во-вторых, там приводится пример некой Пальмерины, состоявшей в одном иноческом ордене с Екатериной, которая, с жутчайшей и ожесточённой ненавистью преследуя деву и бесчестя, доведена была своими злодеяниями сначала до немощи телесной, а затем и до смерти – как тела, так и духа; и не избежать бы ей вечного осуждения, кабы не помогли ей великою своей силой молитвы той, кого она ненавидела. Ибо Господь действовал в этом случае удивительным образом, так что одновременно и сердце грешницы, лишённое Его благодати, ожесточилось, и сердце девы Екатерины, исполненное любовью Его, возгорелось, а чем больше та ожесточалась, тем больше сия разгоралась. Однако победила в итоге совершенная любовь святой, а ожесточённое безлюбие смягчилось. Дева Екатерина, молясь усердно и настойчиво, одолела всё, что древний змий сотворил для ожесточения Пальмерины, и такая благодать наполняла сердце и уста Екатерины, что она в каком-то смысле спасла осуждённую душу Пальмерины; Впрочем, так угодно было Спасителю служение Екатерины, что Он прямо сказал, мол, молитвами её спасена душа Пальмерины. И всё сие было достигнуто совершенным терпением, которую любовь взрастила в душе Екатерины, о чём полнее повествуется в упомянутой четвёртой главе второй части.
[411] Затем, хотя в первом из двух вышеописанных случаев сия преподобная дева проявила изрядное терпение, а во втором терпение её представляется удивительным, то в третьем, следующем, случае она явила нечто свыше терпения и более чем удивительное.
Ибо же, как написано в последней части упомянутой главы, в городе Сиене жила некая старица, принадлежавшая к тому же иноческому ордену, что и преподобная дева, а звали её Андреа, переиначенным по обычаю того края мужским именем. Она страдала раковой язвой, разъеденная которой грудь её так гноилась, что из-за зловония, которое она испускала, никто не мог приблизиться к ней, кроме как с зажатым носом, и по этой причине она была почти совсем лишена ухода и помощи.
Проведав о том, дева безотлагательно предалась ради Христа служению Андрее, и ни зловоние, ни гниение не помешали ей приближаться к изъязвленной, не зажимая носа. С радостным сердцем и ликом усерднейше ухаживала Екатерина за нею, открывала рану, обтирала и смывала гной, перевязывала со всяческим тщанием, а когда её одолевала естественная тошнота, она, будучи суровейшим наставником своей плоти, приникала к ране лицом и так долго терпела ужасное то зловоние, что едва не падала в обморок.
[412] Вошёл же в Андрею сатана (ср. Лк. 22:3), как он прежде входил в Пальмерину, и, мало-помалу проникаясь подозрительностью к служившей ей деве и ропща на неё, она дошла до такого умопомрачения, что мерзкой клеветою обесславила преподобную деву прямо перед сёстрами по ордену, сказав, что чистая дева чрез плотское смешение утратила девственность. Она же, проведав о тех слухах, хоть и была в глубине души огорчена паче всякого вероятия, однако же, искренними оправданиями отстояв перед сёстрами свою невиновность и Жениха своего призвав в слёзной молитве на помощь, отнюдь не оставила служения болящей; мало того, усерднее, чем прежде, ухаживая за нею и заботясь, сильной терпения одолела злобность её.
И вот ради терпения Екатерины и во свидетельство святости её упомянутая клеветница увидела пред собой преподобную деву в преображенном облике, окружённую лучезарным сиянием, а лицо её на глазах у Андреи явственно преобразилось в подобие ангельского лика, и, ощутив в душе – как она позднее свидетельствовала – необыкновенное утешение, она по великой милости Божией осознала своё злодеяние. Тогда, слёзно попросив у Екатерины прощения, Андреа призвала всех тех, перед кем поносила её, и, назвав себя окаянной преступницей, со слезными рыданиями поведала о виденном, а припоминая прежнюю свою ложь, заявила, что Екатерина не просто чистая дева, но пребывает на великой высоте святости у Бога – и это очевидно для неё вне всякого сомнения.
Вот так, где сатана помышлял опорочить доброе имя девы, там своими нападками невольно приумножил его; впрочем, всё сие содеял Господь посредством терпения. Ну а с той поры молва о деве продолжала распространяться, пока не достигла Апостольского престола, сиречь двух Верховных понтификов и множества кардиналов.
[413] Но история эта знала продолжение, которое ни в коем случае нельзя опустить, ибо после всего случилось так, что деву, когда она преусердно ухаживала за страдавшей от рака Андреей, при обработке зловонной раны странно затошнило от сильного отвращения (возможно, тут вмешался враг рода человеческого). Екатерина же, гневаясь на собственное тело, молвила: «Жив Господь, Жених мой, ради любви к Кому я сей сестре моей услужаю, [и клянусь Им] что то, что тебе отвратительно, будет заключено в твоих недрах». И сие сказав, она промыла рану, а омывки с гнуснейшим гноем слила в какой-то таз и выпила.
Затем на следующую ночь явился ей Господь и сказал, что сим поступком она превзошла всё, что делала до сих пор, и добавил: «За то, что ты так пересилила себя и ради любви ко Мне прияла столь гнусное питие, Я дам тебе пития дивного, благодаря коему ты станешь дивною среди всех людей. И, сказав сие, Он, как ей виделось, приложил уста её к Своему боку и молвил: «Пей, дочь моя, из моего ребра в изобилии питие дивное и усладительное, которое не только душу твою утолит, но и тело, которое ты ради Меня презрела». Однако с того часа желудок её более не привлекала естественная пища, да и не мог он переваривать её, что неудивительно, ведь, приступив к Источнику жизни, она в изобилии напилась живительного пития и, сполна насытившись оным, не нуждалась ни в какой другой пище. Отсюда берётся и происходит тот её удивительный пост, о котором подробнейше написано в пятой главе второй части, да ещё вкратце упомянуто выше.
Но сие всё происходило от добродетели терпения, ибо любовь к ближнему, наполнявшая сердце девы, восприяла слово жизни в земле доброй и превосходной, и принесла плод в терпении: тридцатикратный – в том знамении с Чеккой, или Франческой прокаженной; шестидесятикратный – во втором, каковое Господь через деву Екатерину сотворил для Пальмерины; и стократный – в описанном напоследок третьем [знамении, явленном] Андрее, мало того, [в её случае плод был], позволю себе сказать, более чем стократный.
[414] Итак, перечислив сии достопамятные знамения, что были мною пространнее описаны в Житии, считаю полезным перейти теперь к некоторым [событиям], что в упомянутом Житии были опущены. Ибо (хотя это странно слышать, но ещё более странно, что так случилось) мало кто из мужей и жён, общавшихся с нею, слышавших её увещания и наблюдавших примеры, не обидел бы её так или иначе или заметным образом не огорчил – ибо так действовал сатана, преследуя её даже посредством самых близких (per ejus viscera). Но она (хоть и страдала в таких случаях куда сильнее, чем от обид со стороны чужих людей, в чём мне признавалась) всё преодолевала с таким мужественным и неизменным терпением, что (как я, помнится, многократно говорил тогда, а ныне пред всей Церковью Божией исповедую) оное терпение назидало меня паче любых её поступков и деяний, кои я видел и о каковых слышал: будь то знамения или что-нибудь другое, сколь бы великим то ни было. Она была неколебимым столпом, укреплённым мощью Святого Духа в столь великой любви, что в любых бурях гонений даже выражение лица её не менялось. И неудивительно, ибо положила она основание на твёрдой скале, а по слову Премудрого основания вечные на твердой скале, а заповеди Божии в сердце жены святой (Вульг. Сир. 26: 24). Ибо же так прочно соединила душа сей святой жены основания вечные с краеугольным камнем – Христом, заповеди Божии в её сердце держались нерушимо.
[415] Ибо лично мне стало известно, что один из наших был когда-то так соблазнен сатаной, что часто осыпал её обвинениями и гнуснейшими оскорблениями – даже в присутствии сподвижниц её. Однако она была настолько терпелива, что ни словом единым, ни намёком не выдавала, как он её беспокоит или огорчает; мало того, она строжайше наказала слышавшим сие сподвижницам никоим образом не беспокоить его и не огорчать, запретив им сообщать нам что-либо из того, что слышали, хоть словом, хоть намёком. А он введу терпения её повёл себя ещё хуже и дошел даже до кражи денег, подаваемых деве в милостыню; но и тут её прежняя любовь ничуть не поколебалась, и не позволяла она никому из нас, кто наверняка знал о том грабеже, ни словом, ни делом выразить какого-либо негодования в связи с сим. Ибо крепость её всегда пребывала в тишине и уповании (ср. Ис. 30:15) – так она и побеждала всё, да нас словом и примером учила побеждать так же.
[416] Если же вдобавок ко всему этому мы попытаемся обратиться к терпению, которое она имела и проявляла при телесных немощах своих, не выдержит, пожалуй, перо, не говоря уже о рассудке. Ибо же её мучили постоянные, можно сказать, беспрестанные колики (о чем яснее сказано ближе к началу шестой главы второй части, где указана и причина оного недуга, который был [дан святой] во избавление души её отца Якопо от мук чистилищных) да ещё и головная боль, почти непрерывная, а сверх того у неё постоянно болело в груди, в чём она призналась мне, сказав, что с того дня, как Спаситель позволил ей вкусить муки всесвятых Страстей Его (сие описано выше в шестой главе второй части), в груди у неё осталась боль, которая, по её утверждению, превосходила прочие её телесные боли. Ещё в дополнение ко всем этим и без того мучительным болям, она чрезвычайно часто страдала лихорадкой. При всём этом ни разу не слыхали и не видали от неё жалоб, и на лице её ни на миг не проявлялось печали, мало того, она с совершенно весёлым выражением принимала и утешала приходящих к ней, а если словесных утешений оказывалось недостаточно и приходилось ей предпринимать для спасения душ какие-нибудь труды, то никакие из вышеупомянутых недугов не могли помешать ей встать с постели и потрудиться, словно бы она никогда не страдала ничем. А обсуждали мы сие в упомянутой седьмой главе второй части.
[417] Сколько же она сверх того перестрадала от бесов, так в двух словах и не расскажешь. Ибо во второй главе второй части мы коснулись в рассказе того, как она (по утверждениям заслуживающих доверия свидетелей, присутствовавших при том) была несколько раз ввергаема ими в огонь, хотя и ничуть не пострадала. Однако я лично видел и застал [вот что]: мы возвращались из нашего путешествия в город Сиену, и она ехала на осле, а когда мы уже приближались к городу, животное, внезапно взбрыкнув, сбросило её с себя, отчего она вниз головой сверзилась в изрядной глубины яму. Заметив сие, я призвал Пресвятую Деву и тотчас же увидел внизу Екатерину: она весело рассмеялась и сказала, что это устроил Мала-Таша, то есть бес. Ей помогли взобраться обратно на того же осла, но едва мы продвинулись на расстояние арбалетного выстрела, как тот же злой дух столкнул её вместе с животным в грязь, причём вышло так, что животное упало на неё. Тогда она, улыбнувшись, молвила: «Этот ослик погрел мне бок, как раз где у меня колики», – и так осмеяла врага, не претерпев никакого вреда. С трудом вытащив её из грязи, где она лежала под ослом, мы решили, что не стоит снова ей взбиралась на животное, и, поскольку мы были недалеко от города, то повели её пешком между нами двумя. Но и при этом древний враг не переставал дёргать Екатерину туда-сюда, так что, если бы мы не удерживали её, он, несомненно, упала бы наземь. Она же улыбкой и весёлым лицом выражала насмешливое презрение к врагу и пренебрежение им. Впрочем, за этими кознями последовал великий урожай душ, о котором упоминается в названной седьмой главе, а древний змий, предвидя его, выражал свою от того досаду упомянутыми досаждениями.
[418] Итак сии и иные досаждения от бесов свидетельствуют о её терпеливости в течение земной жизни, а также сделали её (если я не слишком ошибаюсь) явной мученицей, когда неимоверными муками довели её, по попущению Любви, до смерти, о чём пространнее и полнее рассказывается во второй главе третьей части.
И заметь, читатель, что блаженнейший Антоний, жаждавший мученичества и просивший его у Господа, был услышан так, что бесы жесточайше били его, но телесной сей жизни не лишили. Сия же преподобная дева, битая ими многократно и истязаемая, в конце концов лишилась жизни сей во время истязаний, в чём разумные люди усмотрят неоспоримое доказательство и истинное свидетельство её святости. Тем не менее, дабы показать её мужество, а также опровергнуть клеветнические речи, я вынужден тут добавить ещё кое-что, доказав её сходство с Женихом, по крайней мере, в Страстях. А поскольку я осведомлён о некоторых причинах её страстей, каковые неизвестны другим, то придётся мне присовокупить в конце сей последней главы следующую историю на славу и честь воплотившейся Истины и девственной Его невесты Екатерины, что бы там ни говорили клевещущие, которые приучили язык свой говорить ложь (Иер. 9:5).
[419] Как сообщалось в десятой главе второй части, где шла речь о пророческом духе сей девы, в год Господень 1375-й, город Флоренция, которая по множеству причин обычно считалась одной из особо любимых чад Святой Римской Церкви, то ли по вине церковных начальств, то ли, возможно, из-за гордыни самих флорентийцев, а то и по взаимному недоразумению, при содействии сеятеля плевелов, врага рода человеческого, вступила в союз с противниками оной Церкви и вместе с ними рьяно занялась низвержением всей светской власти её. По этой причине Римский понтифик, распоряжавшийся (как говорили) шестьюдесятью епархиальными городами в Италии и десятью тысячами укреплений, утратил почти всё, так что в его распоряжении почти не осталось земель.
Во время тех событий блаженной памяти папа Григорий, одиннадцатый из носивших сие имя, повёл против упомянутых флорентийцев страшный судебный процесс, так что почти по всему миру, везде, где они вели свои торговые дела, государи и правители хватали их и забирали всё имущество. И вот, устрашённые сим наказанием, они вынужденно стали хлопотать о заключении мира с Верховным понтификом при посредстве особ, которые, по их сведениям, были ему угодны. И стало известно им, что святая дева ради славы о святости своей была весьма угодна в очах Верховного понтифика. По этой причине они устроили так, что сначала я отправлюсь к упомянутому Верховному понтифику от имени оной девы Екатерины, дабы отвратить его гнев, а затем её пригласили подъехать к Флоренции.
И вышли к ней градоначальники, и умоляли её, всячески заклиная, чтобы она лично поехала в Авиньон к многократно упомянутому Понтифику, дабы договориться о мире между ним и ими. Тогда она, исполненная любви к Богу и ближнему своему, а также ревнуя о благе Церкви, отправилась в путь и прибыла в Авиньон, где мы и встретились. И я был толмачом между Верховным понтификом и оной девой, переводя на латынь то, что она говорила на своём народном тосканском наречии. И свидетельствую перед Богом и людьми, что благостный оный Понтифик отдал мир в руки девы, сказав: «Дабы ты ясно видела, что я хочу мира, просто отдаю его в твои руки, однако и о чести Церкви не забывай», – ну а я лично это слышал и переводил.
[420] Однако некоторые из мужей, что тогда управляли вышеназванным городом, хоть на словах и просили мира, внутри полные всяческого лукавства (ср. Мф. 23:25), не к миру стремились, а хотели бы довести в итоге Церковь до такого убожества, чтобы она не имела никакой светской власти и поэтому никоим образом не смогла покарать их, в чём я впоследствии убедился из их рассказа или от некоторых из них, кто спустя некоторое время раскрыл то, что они тогда тщательно скрывали. Поступили же они как настоящие, чтобы не сказать «совершенные», лицемеры; ибо народу они говорили, что добиваются, как могут, мира с Верховным понтификом и Церковью Божией, а с другой стороны, постоянно препятствовали миру, что ясно проявилось в том, как они тогда обманули преподобную деву.
Ибо когда они попросили оную деву предпринять столь трудное путешествие, то обещали ей, что пошлют вслед за нею своих послов или, точнее, просителей, которым дадут чёткое указание, чтобы даже не пискнули, пока она им не укажет и не скажет, что да как. Но неправда их солгала не преподобной деве, а себе самой (ср. Пс. 26:12. – пер. П. Юнгерова), ибо они так медлили с отправкой за вслед нею просителей, что Верховный понтифик в связи с задержкой их как-то при встрече сказал преподобной деве: «Поверь мне, Екатерина, обманывали они тебя и снова обманут; не пошлют никого, а если и пошлют, то таково будет это посольство, что ничего не даст».
Посему, когда упомянутые послы прибыли в Авиньон, преподобная дева пригласила их и в моем присутствии сказала им, что обещали ей начальники и правители города, пославшие их, и сообщила, что Верховный понтифик передал мир в её руки мир, из чего следует, что они смогут договориться о справедливом мире, если захотят. Они же, точно аспид глухой, заградив уши свои для речей примирительных, отвечали, что не получили никаких указаний ни совещаться с нею, ни делать, что она им говорит. Уразумев их ядовитое коварство, Екатерина признала, что Верховный понтифик оказался пророком, но и несмотря на это, не престала умолять оного судию поступать с ними не строго, а милосердно, являя себя более отцом, нежели судьёй.
Наконец, поскольку Наместник Иисуса Христа решил тогда по её побуждению отправиться на свою кафедру Римскую, что и сделал, все мы возвратились в пределы Италии. Дева же, завершив некоторые дела в Тоскане, касавшиеся спасения душ, через некоторое время послала меня в Рим к многократно упомянутому Понтифику с несколькими советами, которые, будучи поняты, могли бы принести благо Святой Церкви Божией.
Однако пока я там находился, мой Орден принудил меня взять на себя бремя приората в римской обители (которым я и прежде руководил – в то время, когда блаженной памяти владыка Урбан V был в Городе), из-за чего я не смог вернуться к деве. Но прежде чем я приехал в Город, довелось мне пообщаться с одним флорентийским гражданином, верным Богу и святой Церкви, которого звали Никколо Содерини, большим почитателем святой девы.
[Говорили мы] о делах города Флоренции, а больше всего – о вышеописанной подлости, когда [градоначальники] притворились, что хотят мира со Святой Церковью, которую так оскорбили, но при этом уклонялись от мира. Когда я посетовал на ту подлость, оный Никколо, человек добрый, благоразумный и достохвальный, ответил: «Будьте уверены, что народ флорентийский единодушно и все честные люди города желают оного мира, а препятствуют миру только несколько мерзавцев и те немногие, что нынче по грехам нашим правят нашим городом». Тогда я ему: «Нельзя ли исцелить сей недуг?» А он: «Да можно было бы, конечно, если бы кто-нибудь из добропорядочных граждан ревностно взялся за дело Божие и вместе с представителями и предводителями партии гвельфов добился лишения должностей этих нескольких как врагов общественного благополучия. И не пришлось бы сильно возиться: этих-то всего человека четыре, ну от силы шесть». Услышав это, я держал это при себе, но когда дева отправила меня к наместнику Христову, я, явившись к нему, рассказал всё, что услышал от оного мужа.
Ну а тот, кто мне это в городе Сиене рассказал, вернулся во Флоренцию, а я, как уже упоминал, отправился в Город.
[421] Там я несколько месяцев трудился в должности приора и в проповеди слова Божия, как вдруг однажды воскресным утром пришёл ко мне некий гонец от Верховного понтифика с повелением быть у Его Святейшества на обеде. Я послушался сего повеления, и, когда трапеза была закончена, Верховный понтифик, обратившись ко мне, молвил: «Мне написали, что если Екатерина Сиенская отправится во Флоренцию, я получу мир». Тогда я: «Не только Екатерине, но и все мы, сколько нас есть, готовы пойти даже на мученическую смерть ради послушания Вашему Святейшеству». Он же на то молвил: «Я не хочу, чтобы ты уезжал, потому что они дурно с тобой обойдутся, но ей – и потому, что она женщина, и также потому, что они питают к ней уважение, – я думаю, не сделают ничего плохого. А ты поразмысли, какие для этого нужно подготовить буллы, да принеси мне завтра с утра памятную записку, чтобы я побыстрее уладил дело». Что я и сделал, и принёс, а когда были готовы грамоты, послал их святой деве, которая, как истинная дочь послушания, без малейшего промедления отправилась в путь и, прибыв во Флоренцию, была принята там с немалым почтением верными Богу и святой Церкви мужами, а при содействии вышеупомянутого Никколо Содерини говорила с несколькими достойными гражданами, убеждая их ни в коем случае не оставаться в раздоре и вражде с Верховным пастырем душ своих, но как можно скорее с Наместником Иисуса Христа примириться.
[422] Ещё тот же муж устроил ей разговор с представителями партии гвельфов, которым она помимо прочего сказала, что если есть такие, кто препятствует миру и согласию между отцом и чадами, то они достойны лишения всех должностей, потому что их подобает не правителями называть, а разрушителями общественного благополучия и самого государства, так что вполне по совести будет избавить город от столь великого зла, сместив нескольких граждан. И добавила, что сей мир благодетелен не только для земной жизни и временного благополучия, но что он, как ныне, так и впредь, гораздо более необходим для спасения душ, какового они без сего мира никак обрести не смогут. Ибо же общеизвестно, как они вопиющим образом занимались неутомимым разграблением имуществ Римской Церкви и того, что ей совершенно законно принадлежит, а ведь даже если бы то было частное лицо, то перед Богом и любым справедливым судьёй флорентинцы были бы принуждены вернуть имущества, которое сами забрали или другим позволили забрать. Если же благодаря миру им удастся снискать прощение таковой провинности, то сие принесёт благо и телам их, и душам.
Сими и иными доводами и уговорами Екатерина убедила как упомянутых представителей, так и многих добропорядочных граждан ходатайствовать перед правителями и начальствами о том, что следует просить мира и заключить его (ср. Пс. 33:15) не только на словах, но и на деле.
[423] Поскольку же некоторые явно противились сему благу, а особенно те, что доселе были приверженцами усобицы с Церковью, числом восемь. Упомянутые представители партии гвельфов лишили должности одного из этих восьми, да нескольких других, впрочем, немногих – скольких смогли. Едва это произошло, тут же вспыхнули два пожара: один со стороны тех, кто был таким образом смещён, а другой в стане некоторых злонамеренных людей, которым не терпелось сместить несколько ненавистных им человек, чтобы вопреки всем велениям Божиим отомстить за какие-то личные обиды. И этот второй пожар нанёс больше вреда, чем первый, и многих возбудил против святой девы, ибо число смещённых стало столь велико, что почти весь город возопил о том. Но преподобная дева не призывала к сему, да и не хотела, мало того – крайне опечалилась, что не предотвратила сего, и тотчас многим сказала и другим велела передать, что они поступают хуже некуда, простирая руки на столь многих и таких [влиятельных граждан], и не должны они были из-за ненависти своей беззаконно доводить до внутренней усобицы дело, свершённое с мирной целью.
Однако поскольку они после всех злодеяний своих (Иез. 16:23) продолжали и приумножали злодейства свои, главные заводилы усобиц, набрав вооружённых наёмников и возбудив бедный люд против виновных в упомянутом самоуправстве, ввергли город в хаос. И так, взбунтовав толпы черни, сиречь бедного и подлого люда, они изгнали из города виновников упомянутых самоуправств и разграбили их имущество, сожгли их дома, а некоторых (как я слышал) перебили мечами (ср. Мак. 5:51).
[424] Ну а в этой смуте, поднятой людьми неразумными, пострадало множество невинных, и едва ли не все желавшие мира были вынуждены отправиться в изгнание. А главной злодейкой среди них сочли преподобную деву, приехавшую только ради установления мира – ведь, как было сказано, это она дала вначале совет сместить нескольких противников мира. И так оговорили её, что грубое простонародье во всеуслышание вопияло: «Схватим и сожжём эту треклятую бабу или мечами её порубим!»
Заслышав такую молву, хозяева дома, где она вместе со своими спутниками обитала, выставили её вместе с ними, сказав, что они не желают, чтобы им из-за неё спалили дом. Она же в сознании своей невиновности охотно принимая муки ради Святой Церкви, нисколько не утратила присущей ей выдержки; мало того – улыбаясь и подбадривая своих спутников, она в подражание Жениху своему пошла туда, где был сад (ср. Ин. 18:1), и там, уделив спутникам краткое увещание, предалась молитве.
[425] Наконец, когда она так, подобно Христу, в саду молилась, пришли неистовствующие слуги сатаны с мечами и кольями (ср. Мф. 26:47), крича: «Где эта дрянная баба?! Где?!» Заслышав их, она тотчас же приготовилась к долгожданной мученической кончине, словно бы приглашали её на упоительный пир. И вышла навстречу тому, кто с обнажённым мечом кричал громче всех: «Где Екатерина?!» Со счастливым лицом она преклонила колени и сказала: «Я Екатерина; делай, что Господь тебе попустит сделать со мною, но от имени Всемогущего повелеваю тебе не чинить вреда никому из спутников моих!»
Как прозвучали сии слова, негодяй пришёл в страшное замешательство и совершенно лишился сил, так что ни ударить не мог, ни стоять перед нею не смел. И хотя искал он её с таким яростным рвением, найдя, стал отгонять от себя, говоря: «Прочь от меня!» (ср. Вульг. Исх. 10:28). Но она, жаждая мученичества, ответила: «Мне и здесь хорошо, так чего же так сразу уходить? Я готова пострадать за Христа и Его Церковь, ведь именно этого я давно желала и всячески вымаливала. Неужто мне бежать как раз тогда, когда я обрела то, к чему стремилась? В жертву живую приношу себя Жениху моему вечному. Если тебе назначено пролить кровь сей жертвы, действуй спокойно, я с места не сдвинусь; однако не причини вреда никому из спутников моих!» Короче говоря, не попустил ему Бог далее и более свирепствовать против девы, но ушёл он в смущении со всеми своими сообщниками.
После того, когда духовные сыны и дочери окружили её, пытаясь поздравить с тем, что она избежала рук нечестивых, Екатерина выказала немалую горечь, сказав со слезами: «О горе мне! Я думала, всемогущий Господь нынче увенчает меня славою: даровав мне белую розу девства, соблаговолит даровать и красную розу мученичества. И вот, увы! Оказывается, что мечте моей не сбыться – а всё по бессчётным грехам моим, каковые по справедливому суду Божию лишили меня столь великого блага. О, как блаженна была бы душа моя, коль узрела бы она мою кровь, пролитую из любви к Тому, кто искупил меня Своей кровью!»
[426] Но хотя ярость та на время унялась, святая дева с соратниками своими ещё не обрела тогда полной безопасности; напротив, такой трепет объял всех жителей города оного, что, как бывало во времена мучеников, не нашлось желающих принять её в дом свой. По каковой причине духовные её сыны и дочери сказали ей, что стоит вернуться в город Сиену, а она им ответила, что не может уехать из этого края, пока не будет возвещён мир меж отцом и сынами, ибо таковое по её словам она получила от Господа приказание. Уразумев сие и не смея её возражать, они нашли доброго и богобоязненного человека, который принял её в свой дом без какого-либо опасения, однако тайно по причине ярости народа и людей негодных. Через несколько дней, когда ярость поутихла, целомудренная матушка с духовными сынами своими и дочерьми выехала за пределы города (но не за пределы края того) в некое уединённое место, где прежде обитали отшельники.
[427] Когда Божественное провидение наконец укротило ярость, а все бунтовщики были правосудно наказаны и рассеялись кто куда, дева возвратилась во Флоренцию, где сначала проживала тайно из-за правителей, которые её явно ненавидели, а жила открыто до тех пор, пока после смерти владыки Григория XI и избрания владыки Урбана VI между ним и упомянутыми флорентинцами не был обсуждён, заключён и подписан мир, который затем в вышеупомянутом городе и возвестили.
По завершении сего дева Господня сказала сынам и дочерям во Христе: «Вот теперь мы можем уезжать из этого города, поскольку милостью Христовой я добилась послушания Христу и Его наместнику, а тех, кого застигла в бунте против Церкви, оставляю в мире и единении с их столь милостивой матерью. Итак, вернёмся же в город Сиену, откуда мы пришли сюда!» Что мы и сделали.
Так она во имя Господне избежала рук нечестивых и добилась желанного мира; и сие соделано было не человеком и не людьми, но только Иисусом Христом, действовавшим незримо чрез ангелов мира, чему по наущению ангелов сатаны негодяи пытались препятствовать.
В сем любой, способный к рассуждению, может со всей явственностью увидеть и превосходное терпение, с коим Екатерина чуть ли не встретила смерть; и направляющую мудрость, которая научила её, что делать при таких неожиданностях и затруднениях. А паче всего – неутомимое дерзновение, с которым она постоянно стучалась в дверь Царя мирного (ср. Евр. 7:2), пока не добилась желанного мира как для Церкви, так и города сего. Посему, добрый читатель, коли не поленишься, то не одну лишь добродетель терпения [обнаружишь] в вышеописанном деянии, но просияет [в нём для тебя] блеск любви и настойчивого дерзновения.
[428] Увидев же сие, перейдём к последнему терпению, с каковым она перенесла жуткую и тяжкую смерть, сравнявшись в очах Христа и Святой Его Церкви со святыми мучениками по заслугам, а то и превзойдя (если я не слишком ошибаюсь) некоторых из них. Ибо же оные страдали от людей, которые иногда умеряются, умиротворяются и утомляются, а сия – от бесов, которые в своей жестокости никогда не остывают и не ослабевают, никогда жестокостей творить не престают. Некоторые из оных [мучеников] завершили свою мученическую кончину кратким подвигом и менее суровой смертью, сия же неимоверно терзалась тринадцать недель, от воскресенья Шестидесятницы до предпоследнего дня апреля, причём с каждым днём прибавлялись муки её, а она всё с душевной радостью терпеливейше перенесла, неизменно благодаря, и охотно отдала телесную свою жизнь, дабы примирить Христа с народом Его и охранить святую Церковь от соблазна, а потому не миновала она ни истязаний, ни мук настоящего мученичества, что пространнее описано во второй главе третьей части, а повторяется в дальнейших главах – третьей и четвертой.
Из чего явственно следует, что удостоилась она в небесах не только награды за стремление к мученичеству, но и вознаграждения за действительно перенесённое мученичество. Откуда человек рассудительный может дальше сделать вывод, что при её канонизации надёжнее и быстрее будет действовать, как принято при церковной канонизации мучеников, ибо терпение тех, кто проявил мученическое мужество, не подлежит сомнению, более того, даже и не обсуждается. А свидетели, перечисленные в первой главе третьей части, ясно свидетельствуют о том, что было сказано выше во второй главе той же части и в последующих.
Из чего, наконец, заключаем, что Церкви воинствующей подобает сию преподобную деву и мученицу внести в святцы, чего да сподобит меня и прочих её сынов и дочерей вечная Благость, что единая в Троице и тройственная во Единице живёт и царствует во веки веков. Аминь.