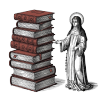
Пер. с лат. Josephus a Cupertino, Ordinis Minorum Conventualium S.
Francisci presb., Auximi in Marchia Anconitana; Vita, auctore
Angelo Pastrovicchio. // AASS, Sept. T. V, pp. 1012-1044
Корр. О. Самойлова
[1] Блаженный Иосиф, как говорят, происходит из Копертино, местечка епархии Нардо в Неаполитанском королевстве, где 17 июня 1603 г. ему было суждено неприметно родиться у бедных, но достойных и благочестивых родителей Феличе Деза и Франчески Панара, причём по примеру Серафического отца он явился на свет в хлеву, где мать его застигли родовые муки. Она же и воспитала его по-христиански да со святой строгостью, а поскольку упреждала его сладость даров божественных, то с самого раннего детства он стал являть многие признаки будущей святости, так что на восьмом году жизни, предаваясь молитве и иным благочестивым занятиям, он часто пребывал как бы в экстазе, обездвижев телом, с устремлёнными к небу глазами и с приоткрытым ртом, а поэтому другие дети прозывали его Ротозеем – в насмешку, как обычно бывает в таком возрасте, или, вернее сказать, в предчувствии продолжения такого рода экстазов и дивных восхищений духа.
[2] Вскоре после этого Бог начал упражнять его добродетель чрезвычайно болезненными гнойниками и язвами, которые добрый отрок переносил с необычайным терпением в течение четырёх лет, в течение которых ничто не могло его утешить, кроме присутствия при божественной Жертве, о чём он каждый день со слезами умолял мать свою, которая, движимая состраданием, брала его на руки и несла в ближайшую церковь.
Некий сведущий копертинский отшельник пытался его лечить с помощью железа и огня, но затем из-за неловкости его мальчик стал почти неизлечим. Наконец божественная длань явилась исцелить его, ибо когда тот самый отшельник, обитавший при церкви св. Марии Благодатной, что в Галатоне (место в девяти милях от Копертино, куда мать наподобие лошади таскала его, уложив в мешок, чтобы было по возможности удобнее), помазал его чуть-чуть елеем, он вдруг почувствовал, что недуг его полностью прошёл, и на следующий день смог вернуться в Копертино на своих ногах без чьей-либо посторонней помощи, лишь опираясь на посох.
[3] Здесь слишком мало места, чтобы описывать, какую глубокую благодарность проявлял маленький Иосиф за милости божественные и насколько горячей любовью ответил он Богу и сколь верным Ему служением. Несмотря на свой возраст, он умерщвлял свою плоть весьма строгим образом жизни: часто посещал церкви, присутствовал при литургической Жертве, опоясывал бока чрезвычайно колючим вретищем, воздерживался от вкушения мяса и ел только овощи да травы, приправленные горчайшим полынным порошком, и это сочеталось с таким строгим постом, что он порой выдерживал по два-три дня без еды, причём ум его так возносился к Богу, что не раз, когда его спрашивали, почему он не поел, он добродушно отвечал: «Позабыл».
На семнадцатом году жизни, с величайшею силою воспылав желанием оставить лукавый мир, дабы, причастившись святой вечности, как можно глубже соединиться с Богом в какой-нибудь священной обители, он прежде всего обратил мысленный взор на францисканский орден Братьев меньших конвентуальных, а чтобы быть принятым туда, открыл желание своё отцу Франческино Деза, своему дяде и иноку оного ордена. Однако тот, ни по какой другой причине, как только потому, что считал своего совершенно неучёного племянника непригодным к священническому сану, ни за что не желал согласиться на его поступление в послушники.
[4] Сей отказ огорчил Иосифа, но всё же твёрдо намереваясь тем или иным образом воинствовать под знаменем святого патриарха Франциска (ибо чувствовал непрестанный зов Бога, побуждающий следовать за ним), он смиренно попросил отца-провинциала братьев меньших капуцинов принять его в число светских братьев сего преблагоговейного ордена и, будучи с величайшей благосклонностью услышан, в 1620 году в монастыре Мартина облачился в священный хабит под именем Стефана.
Однако то ли в то время его подводило зрение, как некоторые полагали, то ли, скорее, потому, что в его сердце по обычаю, наущению и примеру лучших иноков прошлого огонь небесной любви воспылал ещё сильнее, он, всё глубже соединяясь с Богом, восторгался в экстазе, отчего по мере совершенствования в духовном делании он менее ловко исполнял телесные обязанности.
Случалось, что он не мог отличить белого хлеба от чёрного; горшки и плошки часто выпадали у него из рук и разбивались, а когда он подкладывал дров в очаг, переворачивал котлы. Совершал он и другие подобного рода промахи, из-за чего оказался непригоден исполнять обязанности, требуемых от него иноческим званием, и после восьми месяцев долгого испытания в послушничестве (по попущению Бога, дивного в путях Своих) его изгнали, лишив священного облачения. Это причинило ему острую боль, ибо даже в старости он говаривал, что тогда словно бы чувствовал, будто вместе с рясой с него снимают кожу и отдирают плоть от костей.
[5] Иосиф остался без шапки, чулок и башмаков, которые носил до того, как был облачён в вышеупомянутой обители, а потому, надев оставшуюся у него мирскую одежду, он оказался полуголым и, чтобы поменьше позориться, решил не возвращаться в Копертино, а пойти в Ветрару, где в ту пору читал проповеди упомянутый его дядя-инок. По дороге ближе к вечеру он подвергся довольно серьёзным опасностям; сначала на него набросилась свора свирепых псов, готовая растерзать его, а затем – разъярённые пастухи, которые, хоть и спасли его от собак, но, обвинив в том, что он воровской лазутчик, тут же задумали убить его. Однако, когда Иосифа опознал один из пастухов, они решили отпустить его и даже подкормили краюшкой хлеба.
Но тут он подвергся опасности от беса, который, издав страшный крик: «Стой, лазутчик», - явился в видимом облике человека верхом на коне, с жутким лицом и обнажённым мечом в руке. Он тоже обвинял Иосифа: в том, что он явился сюда как лазутчик от королевского правительства. Но едва блаженный сделал несколько шагов и без малейшего страха, сделав полный оборот, обвёл взором ту обширную равнину, то обнаружил, что бес скрылся из виду; после чего сказал себе: «Это был Малаташа, – так он обычно называл дьявола в подражание св. Екатерине Сиенской, – который хотел напугать меня и привести в отчаяние».
[6] Преодолев таким образом вышеупомянутые опасности, он прибыл в Ветрару, где, пав на колени у ног своего дяди, терпеливо выслушал его, пока тот упрекал его, называя ничтожеством и бродягой, а на вопрос, чего же он хочет, со смиреннейшей простотою ответил: «Отцы-капуцины лишили меня хабита, потому что я ни на что не годен». Тогда дядя, движимый состраданием, продержал его у себя до Пасхи, а затем тайно привёз обратно в Копертино.
Там же Иосиф снова с непобедимым терпением сносил неприятные колкости матери, которая всегда делала суровый вид, но внутри питала любовь к сыну. А для того, чтобы избавить его от тюрьмы, в которую он наверняка бы угодил за долги покойного отца, она отправилась ради него в обитель Братьев меньших конвентуальных в Гроттелло, что в шести с половиной милях от Копертино, и мольбами да слезами добилась того, что иноки обители той и прочие члены общины наконец согласились иоблачили Иосифа в хабит облата-терциария.
[7] И возликовало тогда сердце бл. Иосифа, хотя в обители его поставили погонять мула и выполнять другие низкие монастырские обязанности, а ещё больше он возрадовался, когда был дан в помощники отцу-наставнику Иоанну Донату, своему дяде по матери, иноку великого благочестия и учёности. Сие утешение придало нового пыла его духовному рвению, уже и так зажжённому божественной любовью. Ибо когда он собирал милостыню на монастырские нужды, то бедностью своей одежонки, скромностью поведения, кротостью и простотою речей, проникнутых одной лишь любовью к ближнему, он получал от народа куда больше, чем только хлеб, добиваясь отвращения к порокам, почтения к добродетелям и проявлений любви к Богу. Пребывая в обители, он с величайшим смирением неутомимо занимался самыми низкими и трудоёмкими службами, всегда будучи готов повиноваться не только слову, но и намёку иноков. Наконец, в том, что касалось его самого, он так смирял своё тело, что прибавил к своей обычной власянице железную цепь, чрезвычайно туго затянув её на поясе. Непрестанны и крайне суровы были посты его, а для того, чтобы побольше времени проводить в молитве, он до предела сокращал время сна, причём спал на ложе, сложенном из трёх досок и покрытом истёртой медвежьей шкурой с грубым набитым соломой мешком [вместо подушки].
[8] Бог, Который предназначил его ко священству в Ордене братьев меньших конвентуальных, открыл глаза сим инокам на столь дивное сияние добродетелей, а уж они постарались и добились, чтобы на съезде провинциалов, состоявшемся 19 июня 1625 года в Альтамуре, он был принят в число клириков своего ордена. Итак, облачённый в хабит иноческий, под руководством настоятеля вышеназванной обители Гроттелльской, он к величайшему своему утешению стал в том монастыре послушником, сохранив собственное имя [и назвавшись] братом Иосифом.
Но затем он основательно занялся двумя задачами, а именно: жить всецело для Бога и вдоволь овладеть науками, необходимыми для священства. И первую задачу он в совершенстве исполнил благодаря полному устранению от человеческого общества, постоянному беседованию с Богом в созерцании, смирению (ибо он считал себя злейшим и самым гнусным грешником на целом свете, часто повторяя, что хабит иноческий был дарован ему из милости), терпению (ибо он выслушивал крайне резкие упрёки даже за те оплошности, которых сам не совершал), послушанию (ибо он выполнял приказы не только трудные, но и диковинные, даваемые начальством ради испытания его добродетели), умерщвлению плоти своей всё более и более суровыми средствами – одним словом, всякого рода добродетелями, что вызывало всеобщее восхищение им как образцом святости.
[9] Но что касается наук, то в них он мало преуспел, а поэтому часто в ответ наупрёки наставника пристыженно просил: «Имейте терпение, дабы паче угодить Богу». Несмотря на это, ради благоухания добродетелей своих он был допущен к торжественным обетам и со слезами умиления произнёс уставную присягу.
После этого, всецело положившись на Бога и Деву-Матерь, чьего владычного покровительства он и прежде усердно просил, 30 января 1627 года Иосиф без предварительного экзамена был посвящен в малый чин, затем, 27 февраля того же года – в субдиаконы и, наконец, 20 марта – в диаконы, причём после экзамена, сопровождавшегося своего рода знамением. Ибо когда епископ Нардоский велел Иосифу истолковать Евангелие, ему по счастью попался отрывок, где в начале есть слова: «Блаженно чрево, носившее Тебя» (Лк. 11:27), и он успешно истолковал их, поскольку то был единственный отрывок, который он понял в итоге долгой учёбы.
Наконец, преосвященный владыка Джамбаттиста Детти, епископ Кастро, несмотря на свою строгость и глубокое рвение, оказавшись удовлетворён тем, как прочие младшие иноки сдали экзамен на предмет вероучения, решил, что, значит, и остальные, среди коих был и бл. Иосиф, столь же сведущи, а потому без какой-либо дополнительной проверки уделил ему таинство священства 28 марта следующего 1628 года.
[10] По принятии хиротонии он вернулся в свою обитель в Гроттелле, и, смиренно вознеся перед [образом] Пресвятой Девы Марии, который там почитается, благодарственные молитвы за дар священства, он служил свою первую мессу с таким рвением, с такой верой и такой устремлённостью ввысь, что, прикоснувшись к Святейшему Телу Иисуса Христа, он проникся священным ужасом и, считая себя недостойным столь высокого служения, возжелал, дабы не только сердце его было чисто (ср. Пс. 50:12), но также и пальцы, и уста, коими ему надлежало вкушать страшную Жертву.
И тогда, ещё сильнее возгоревшись огнём любви и решив полностью умереть для мира и для себя, он начал вести жизнь скорее небесную, чем человеческую. Ибо ему показалось мало пребывать в тесной и темной келье, совершенно удалившись от человеческого общества, так он даже самих иноков стал сторониться, часто ища уединения в некоем углублении над сводом церкви или в крошечной часовенке св. Варвары в оливковой роще при обители.
[11] В том месте он предавался непрерывным молитвам и глубоким созерцаниям, от коих и происходили те сладостные его экстазы и поразительные восхищения, что сделали его, по общему мнению, человеком удивительным и необычайным. А поскольку оные явления были слишком часты, причём не только в течение шестнадцати лет, когда он обитал в монастыре Гроттелла, но и на протяжении всей его жизни (по свидетельству, приводимому на канонизационном процессе, «более тридцати пяти лет настоятели не допускали его находиться вместе с прочими братьями в хоре, на процессиях и в трапезной, потому что с ним случались экстазы и мешали ходу служб»), то, чтобы они не прерывали беспрестанно ход повествования, да и ради краткости, я подробнее поговорю о них в другом месте.
Теперь же подобает поведать кое-что о его благочестивой жизни, которая в то время была более чем когда-либо прежде отчуждена от всех привязанностей к мирскому и умерщвлена суровейшим подвигом. Ибо, одолев естественные порывы сердца героическим мужеством, он отказался от тех немногих предметов и средств, которые по воле начальства обычно предоставляются в пользование каждому иноку.
[12] После этого он снял даже нижнюю одежду, включая бельё, и, вернув их своей матери, так молвил у подножия Распятия: «Вот, Господи, я лишился всего, и коль Ты – мое благо, то всякое другое благо я считаю опасностью, ущербом и пагубой для души моей».
И в ту пору, пока он оставался в таком виде, одетый только в рясу, поразила его великая сердечная скорбь, а когда за тем последовало отъятие утешений от духов небесных, он доведён был чуть ли не до предсмертной муки и постоянно терзался ею целых два года. Наконец изволил Бог утешить слугу Своего, верного даже в столь великой скорби, ибо однажды, когда тот, думая, что исцеление недостижимо, затворил дверь и окно своей каморки и, легши на постель, со вздохами и слезами воскликнул: «Господи, для чего Ты меня оставил? (ср. Мф. 27:46), - Он тут же даровал ему исцеление. Ибо неизвестный инок (коего Иосиф счёл ангелом в иноческом хабите) принес ему новую рясу, и, едва блаженный надел её, как вся тьма рассеялась в душе его, и в сердце его вновь воцарилось веселие духа.
[13] Но чем больше была внутренняя радость от общения с Богом, тем суровее он относился к своему телу, дабы подчинить его духу. С этой целью он после получения священного сана пять лет не вкушал ни крошки хлеба, а вина не пил вина в течение десяти лет, довольствуясь только травами, или сушеными плодами, или бобами, приправленными невыносимо горьким порошком, в чём убедились некоторые иноки, подумавшие было, что это перец. Трава же, которую он обычно ел по пятницам, была так невкусна и тошнотворна, что когда некий инок лизнул её кончиком языка, то почувствовал, как у него взбунтовался весь желудок, и три дня его тошнило от любой еды.
Предаваясь непрерывным постам по примеру святого патриарха Франциска, он с такой строгостью соблюдал семь четыредесятниц, что, за исключением четвергов и воскресений, часто проводил их без пищи, питаясь тем временем пищей евхаристической, которой он подкреплялся каждый день; поэтому, прежде вкушения оной он казался бледным и до крайности ослабшим, но, вкусив её, румянился и укреплялся.
[14] Из-за этого стало так, что его ослабевший желудок уже не мог выносить мяса, которого, впрочем, он однажды по приказанию настоятеля поел, но тут же его им и стошнило. Из-за этого же глотка его порой так плотно смыкалась, что ему с трудом удавалось проглотить что-нибудь из пищи.
К столь необычным последствиям прибавился сверх того чрезвычайно короткий сон (причём на кровати, которую нельзя было назвать «ложем сна», но, скорее, «одром болезни» (ср. Пс. 40:4)) и жестокие истязания, коими он упражнял своё тело с помощью бича со вплетёнными иголками, булавками и стальными звёздочками, отчего кровь изливалась так обильно, что стены в келье и в других вышеупомянутых местах, где он уединялся, были забрызганы ею; более того, покрылись коркой, что было заметно ещё несколько лет потом.
К сим бичеваниям, а также к цепи и вретищу, коими он уже многое время томил себя, прибавил Иосиф огромную железную пластину. Из-за того что вместе с вретищем и цепью он всё сильнее и сильнее затягивал её, она жутким образом проникла в плоть его, так что когда настоятель однажды велел ему раздеться, обнаружилась сплошная рана. По этой причине настоятель, увидев, Иосиф довёл себя этим до полусмерти, удалить с тела эти жуткие орудия покаяния.
[15] За таковую жизнь, украшенную венцом, сплетённым и из всех прочих добродетелей, он удостоился от Бога не только постоянных экстазов и восхищений духа, о которых я упоминал выше, но также и множества чудес и других небесных даров, о коих, как и о главных его добродетелях, я поведаю отдельно в другом месте, чтобы не возникло путаницы.
Между тем, повсюду ширилась молва о столь великой и выдающейся святости; особенно после того, как бл. Иосиф, сопутствуя из послушания своему отцу-провинциалу, объехал всю провинцию Бариана. Из окрестностей, равно как и из далёких мест, стекались люди, чтобы увидеть его, принять его святые увещания и попросить о молитвенной помощи. И прозывали его в народе равноапостольным, приводя тому в подтверждение творимые им знаменательные чудеса.
А викарий некоего епископа, которому не была ведома истинная святость блаженного, воспользовался случаем, чтобы обвинить его перед Священной канцелярии Неаполя, написав: «По сей провинции расхаживает человек тридцати трех лет от роду, и сей «новый мессия» увлекает за собою целые деревни, творя на каждом шагу знамения, вызывающие восхищение у легковерного простонародья. По сей причине я сообщаю об этом его начальству, дабы оно врачеванием предотвратило назревающий недуг, а не то болезнь, усилившись, станет неисцелима».
[16] Приняв к рассмотрению сие обвинение, Священный трибунал тотчас же отдал приказание отцу-гвардиану обители Гроттелла отправить бл. Иосифа в Неаполь.
Блаженный сам предсказывал это три года назад, ибо, когда один инок спросил его, не желает ли он посетить город Неаполь, ответил: «В своё время я поеду туда, но по распоряжению Священной канцелярии».
К тому же незадолго до того, как его вызвали туда, сам Иисус неприкровенно предсказал ему грядущие испытания, один раз явившись ему во время созерцательной молитвы в облике нагого мальчонки, несущего крест на плече, а в другой раз, позднее, когда он занимался установкой нескольких поклонных крестов при дороге, ведущей из Гроттеллы в Копертино, достигли его слуха слова: «Оставь мёртвые кресты и прими живые».
Соответственно, как только он получил письмо от Священного трибунала, он благоговейно поцеловал его и отправился в Неаполь. Все копертинцы плакали, восклицая: «Ах, на кого ж ты нас покидаешь, ах, на кого ж ты нас покидаешь!»
[17] А бл. Иосиф со спокойным сердцем и безмятежным ликом уехал и, беспокоимый в дороге не столько неудобствами путешествия, сколько постоянными своими экстазами, прибыл в Неаполь и остановился в обители Св. Лаврентия, где те иноки, которым была известна причина его прибытия, встретили его с мрачным видом и приняли неохотно. Тогда Иосиф и сам опечалился, видя, что, несмотря на невиновность, стал причиной беспокойства для собратий своих.
Однако, когда он в таковом расстройстве вместе с постоянным своим спутником братом Людовиком направлялся к палатам Священной инквизиции, внезапно присоединился к нему некий юный инок с благовидным и безмятежным лицом, который по дороге утешил его такими ласковыми словами, что святой после этого пребывал в блаженном спокойствии. Но так как бл. Иосиф, войдя во дворец Священной канцелярии, больше его не видел, а брат Людовик утверждал, что никогда не видел его вообще, он благоговейно предположил, что это был св. Антоний Падуанский, который явился, чтобы доставить ему утешение.
[18] Итак, блаженный Иосиф предстал Священному трибуналу с весёлым сердцем и ликом, где его задержали примерно на пару недель и, проведя три допроса, не только не обнаружили и тени преступления, но объявили, что образ жизни его достоин похвалы и восхищения. Тогда вышеупомянутые иноки, вразумлённые тем, что его направили обратно так скоро и с честью, чрезвычайно обрадовались, что святость их брата наконец-то удостоверена, оказавшись не поддельною и не притворной, но истинною и искренней.
Итак, блаженный Иосиф с весёлым сердцем и ликом предстал Священному трибуналу, где его задержали примерно на пару недель. А поскольку тогда святость сия ещё более воссияла и стала известна, стали стекаться к нему простолюдины, а также и знатные господа неаполитанские, желавшие с Иосифом познакомиться. Он один, будучи паче всех смиреннее, не одобрял славословий в свою честь, говоря, что он грешник, недостойный жить среди иноков, а достойный обитать со скотиной, что, например, он по некоторым свидетельствам [сказал] инокиням неапольского монастыря св. Лигория, когда после мессы, отслуженной им по велению судьи Священной канцелярии в их церкви св. Григория Просветителя, в поразительнейшем восхищении духа взлетел и поднялся над алтарём. Благодаря этому событию внимание к его святости возросло настолько, что молва о ней дошла до королевских палат, и сам вице-король со своею супругой и королевским двором пожелал, чтобы святой в их присутствии служил мессу в дворцовой капелле, что по причине внезапных затруднений исполнено но не было.
[19] Это же самое событие побуждало Иосифа поскорее покинуть Неаполь, что он и сделал по предписанию достохвального Священного трибунала, который направил его в Рим с письмом к отцу-генералу своего ордена.
Сей путь он проделал, скорее, духом по небесам, чем ногами по земле. Помышляя, однако, помимо прочего о Городе – столице католичества, он пожелал вступить в него совершенно нищим, как когда-то вступил в него святой патриарх Франциск. Поэтому у его стен он приказал спутнику своему брату Людовику положить на какой-то валун мелкую серебряную монету, которую ему дали на его скромные нужды, чтобы досталась она первому же из прохожих.
Когда он прибыл в обитель свв. Двенадцати Апостолов к отцу-генералу, муж сей, который прежде был с ним совсем не знаком, а тут увидел, что он послан Священной канцелярией Неаполя с указанием ради пущей осторожности в столь важном деле направить его в какой-нибудь скит, принял его поначалу грубовато и с изрядным пренебрежением. Он поместил Иосифа в какую-то каморку вдалеке от обители и велел держать его там до тех пор, пока не поступит иных распоряжений.
[20] Между тем, пока он раздумывал, в какой из скитов его лучше послать, Бог, дабы вознаградить смиреннейшую готовность слуги своего среди столь многих и таких тяжких скорбей подчинить свою волю божественной, изволил явить святость его в самом Риме на удивление не только инокам, но и кардиналам, да, наконец, и самому Понтифику. Когда же сей последний повелел отцу-генералу препроводить Иосифа в какую-нибудь обитель с безукоризненным соблюдением устава, тот направил его в священную обитель в Ассизи, что как нельзя лучше подходило блаженному, так как он давно и горячо желал обитать рядом со святым отцом своим. Поэтому, отправившись в путь вместе со своим всегдашним спутником братом Людовиком, он с величайшей радостью поехал Ассизи. Но сие утешение было недолгим, поскольку Бог изволил ради вящего совершенства вновь испытать его огнём опустошения, гонений, искушений и сухости, который оказался куда более палящим и сильным, чем тот, который он претерпел в монастыре Гроттелла.
[21] Недолго пробыл бл. Иосиф в святилище Ассисзца, и кустодом сей обители был назначен отец-магистр бр. Антоний св. Мавра. Сей муж, который поначалу нежно любил его и брал с собою в поездки, когда ещё исполнял обязанности провинциала Бари, неизвестно по какой причине, но точно по божественному провидению, повёл себя иначе и стал теперь относиться к Иосифу с угрюмой суровостью, затем – с презрением и, наконец, принялся беспрестанно досаждать угрозами и тяжёлыми взысканиями, то называя его лицемером, то – даже публично – упрекая в небрежении уставом. А блаженный, неизменно в добром умонастроении, обращал это себе на пользу душевную, не только молча выслушивая, словно виноватый, язвительные выговоры, но всё более при этом смирения и покорности проявляя к своему настоятелю. Однако, в то время как кустод продолжал его так огорчать, Бог тоже начал постепенно отнимать утешения, пока не лишил его их совсем; и вот с ним уже не случалось больше ни экстазов, ни восхищений духа, ни блаженства небесного, но овладела им сухость при псалмопении, сухость при священнодействии, сухость при чтении, короче, сухость во все делах божественных – посему он стал как бы глух к гласу Божию, неспособен к слезам, после продолжительных молитв бесчувствен.
[22] Вот уж тогда несчастный Иосиф почувствовал себя словно бы погребённым под тяжестью меланхолии, которая, казалось, душила его сердце и даже прорывалась наружу, так помутив и отягчив глаза его, что он едва мог поднять веки. Наконец дошло до того, что бес, постоянно осаждая его в то время ужаснейшими своими искушениями, то гнусные помыслы внушал ему, то сон его тревожил многомерзкими видениями. Впрочем, даже будучи доведён до сего бедственного состояния, Иосиф по накалу тайной брани своей ясно осознавал, что среди этих нападений, продлившихся два года, внутренняя крепость души его стояла в целости и сохранности, ибо ограждала её благодать Божия, которая тем паче обиловала в нём, чем горше возрастали скорби. Вспомнив, однако, об усладах духовных, коими он в былые времена утешался пред ликом Св. Марии Гроттелльской, Которую имел обыкновение называть своей мамой, возжелал он вернуться туда и сказал некоему иноку: «Хочу вернуться ко Св. Марии Гроттелльской, ведь Она мама мне».
[23] Когда генерал ордена доподлинно узнал (впрочем, не от Иосифа) о его духовных тяготах, то решил отозвать его в Рим (что и сделал), дабы он провёл там Четыредесятницу того года. Итак, пока слуга Божий вместе со своим спутником был на обратном пути в Рим, росло в нём желание вновь посетить вышеупомянутый образ Девы Марии, испросив на то позволения у своего настоятеля, но тут он услышал внутренний голос, упрекающий его за это безобидное, но бесполезное пожелание: «Чего ты хочешь? Чего ищешь? К чему стремишься? Разве Я не тот же здесь, как и там?» Вразумлённый сими словами, Иосиф, устремив взор в небо, резко остановился и, внезапно повернувшись к спутнику, молвил: «Приятель, мы возвратимся в Ассизи».
И в самом деле вернулся в Ассизи – после недолгого пребывания в городе Риме, где Бог вновь отверз щедрую руку и излил в сердце его небесную сладость, вернув прежнее умиление любви. Иноки и жители Ассизи были так счастливы видеть Иосифа у себя, что первые вписали его в члены своего Сакро-Конвенто (главный монастырь францисканского ордена. – прим. пер.), а последние даровали ему гражданство. Блаженного сия весть тоже возвеселила, ибо он, как сам говорил, стал считать себя «земляком святого Франциска», так что даже воспарил под свод своей келлии, лишившись чувств от пылкой любви и радости.
[24] Уже входя в священную обитель, он чувствовал, как пламя божественной любви вновь разгорается в его сердце, а когда его вскоре провели в церковь и на своде её он увидел нарисованный образ Пресвятой Марии, подобный тому, что почитается в Гроттелле, он воскликнул: «Ах, мамочка, ты последовала за мной!», - и тут же поднялся в воздух на восемнадцать шагов, будто собирался обнять Её.
Затем через несколько дней, когда тогдашний помощник генерала Ордена отец Михаил-Ангел Каталано при сходных обстоятельствах показал ему другой образ Пресвятой Девы, особенно точно воспроизводящий чтимую в Гроттелле икону, Иосиф, повторяя, «Ах, мамочка», внезапно перенёсся к ней одним прыжком и, погрузившись в экстаз любви, долго оставался лицом к лицу с Нею.
Таковы были счастливые предзнаменования пламенеющей божественной любви, которая до конца жизни росла в его сердце, переходя все пределы. Ибо почувствовал он эту любовь, когда после былых бурь к нему вернулся совершенно безмятежный покой, и оказалась она столь пылкой, столь крепкой, столь сильной, что блаженная душа его чаще пребывала в единении с Богом, чем с собственным телом, и была как бы погружена в необъятный океан любви этой.
[25] Из-за этого стало так, что стоило ему заслышать пение и музыку в церкви, или проповедь о Боге, или имя Иисуса либо Марии, душа его тут же истаивала от умиления, а часто, побуждаемый пламенем внутренним, он то восклицал: «Ах, любовь! ах, любовь!», то воспевал благочестивые песни. Среди них была одна, написанная св. Екатериной Сиенской, его особой покровительницей, и когда в этой песне он доходил до слов «И небесной любовью были изранены Его руки, ноги и сердце», то сперва разражался громким плачем, потом безудержно рыдал, содрогаясь всем телом, и, словно бы пытаясь сорвать с себя плоть, восклицал: «Отвори мне грудь сию, разверзни мне сие сердце!». Наконец, когда его спрашивали, чего он хочет паче всего в мире, отвечал: «Чтобы Бог взял себе моё сердце, целиком и полностью!» Поэтому, обращаясь к Распятию, он обычно говорил: «Алчу разрешиться и быть со Христом» (ср. Флп. 1:23), или: «Иисусе, Иисусе, Иисусе, влеки меня вверх; мочи нет оставаться здесь внизу; влеки меня вверх – туда, где Ты!»
[26] Также при воспоминании о тайнах жизни Иисусовой, которые празднует Святая Церковь, он порой, радуясь (в Рождество), предлагал всем спеть вместе с ним: «Малыш мой, Малыш, дай мне хоть капельку любви Своей!»; порой, скорбя и стеная (особенно на Страстной), молвил каждому встречному: «Представляешь, сынок, бичевали Иисуса, распинали Иисуса, умер Иисус; умер – из-за любви», - а после иных любвеобильных слов, итожил: «Я хуже иудеев, ведь распинаю Тебя, зная, кто Ты». Часто в таковые дни он, словно бы обескровленный и бездыханный от пронзительной боли, истаивал от сладчайшего умиления. А когда затем наступали дни Пасхальные, по многу часов пел и ликовал, а в праздник Пятидесятницы, исполнившись Огня небесного, чувствовал внушения сего Духа.
Такого рода проявлениями святой любви он также сердца других будоражил и старался пробудить их, говоря: «Любите Бога, ибо кто любовь имеет, богат, хотя и не знает о том». И поскольку алкал он, чтобы все любили Его, то горько плакал, видя, как часто люди Его оскорбляют, и так жестоко его мучила из-за этого скорбь, что от муки сей у него время от времени шла ртом кровь.
[27] Впрочем, он охотно бы всю её из жил своих пролил, приняв мученичество, которого так жаждал, что готов был поступить в спутники или слуги какому-нибудь провозвестнику Евангелия среди неверных. А поскольку он алкал, чтобы все воспылали этим желанием, то по-дружески вопрошал каждого инока, включая послушников: «Любо ли тебе было бы умереть за Иисуса Христа?», и когда они отвечали положительно, ликовал в сердце своём и проявлял радость необыкновенную. Ну а поскольку полное самоотречение – это непрерывное мученичество, он достиг в нём таких высот, что говорил, охваченный дивной любовью: «Господи, я люблю Тебя, и если бы я знал, что Ты, сотворив меня, предназначил для преисподней, я обязательно пытался бы вершить все те труды послушания и служения, кои первейшими на небесах Святыми когда-либо совершались». Единственное чего он, однако, хотел бы тогда – оказаться в аду где-нибудь отдельно от остальных, где не слышно, как отверженные проклинают и кощунствуют. При этом он добавлял: «Я готов оказаться в преисподней, но где-нибудь отдельно от остальных, чтобы не слышать проклятий и богохульств, и там отдельно, погрузившись в преисподнюю, я всё-таки пытался бы благословлять Его и восхвалять».
[28] Кроме того, та любовь, о которой Дионисий Ареопагит говорит: «Божественная любовь, вызывающая экстаз» (ср. Дионисий Ареопагит, О божественных именах, 4, 13), послужила неистощимым источником, из которого Иосиф всегда пил, утоляя сердце своё сладостью экстазов и достодивных восхищений, о которых я теперь сжато поведаю, как того требует краткость сего жизнеописания.
Итак, поскольку божественная любовь возгорелась в душе бл. Иосифа с самого детства, тогда же и обнаружились у него экстатические порывы и восхищения духа, которые после принятия им священства переросли в более глубокие экстазы и продолжались до самой смерти. А случались они так часто, что их можно было назвать почти непрерывными, ведь они то и дело следовали один за другим, и бывало достаточно любого упоминания о божественном, даже вскользь, чтобы он, внезапно издав громкий крик, лишился своих чувств и соединился с Богом. И невозможно было усомниться в том, что истинно охватывала его могучая любовь божественная, ведь когда он переживал сие, можно было колоть его иглами, бить кочергой, прижигать лучиной и касаться пальцем зрачков его открытых глаз – он не двигался. Обычно он приходил в чувства только тогда, когда Бог разрешал или повелевал настоятель.
[29] Достойно удивления уже одно то, что любовь его вызывала такие восхищения духа, а уж тем более – порывистые восхищения тела, такие же частые и столь при этом поразительные, что не найти в писаной истории Святой Церкви ни одного героя, равно одарённого в этом отношении.
Но чтобы насытить благочестивую любознательность читателей и добавить ярких подробностей сему краткому очерку, я расскажу о некоторых из бесчисленных его восхищений, когда с душой воспаряло и тело нашего дражайшего блаженного. Описывать я буду их в том порядке, как они случались в различных местах, где он жил.
А начнём с Копертино, где в ночь накануне Рождества Христова Иосиф, услышав, как какие-то пастухи играют на свирелях и дудочках, позвал их отпраздновать рождение Небесного Младенца. От бурной радости он пустился в пляс и тут, издав глубокий вздох, сопровождаемый громким воплем, как птица, перелетел по воздуху из середины храма аж до главного алтаря расстояние более пяти пертик (т.е. прибл. 15 м. – прим. пер.) и провёл там в тихом восхищении около четверти часа, обнимая дарохранительницу со Св. Тайнами, причём не скинул ни одной из горящих свечей, которыми был заставлен алтарь, и ни краешек одеяния его не был затронут с огнём.
[30] Те пастухи изумились сверх меры, но не меньшим было удивление иноков и жителей Копертинских, когда бл. Иосиф, одетый в альбу, чтобы прислуживать при молебне в торжество св. Франциска, на виду у всех воспарил над кафедрой, поднявшись на пятнадцать ладоней от земли, и долго чудесным образом пребывал в экстазе на одной и той же высоте с раскинутыми руками и согнутыми коленями.
Поразительно также было восхищение однажды ночью Страстного четверга, когда он с прочими иноками молился у подножия Гроба Господня, воздвигнутого при главном алтаре, который был овеян дымом зажжённых кадильниц и украшен множеством лампад. Ибо блаженный внезапно подлетел с распростёртыми объятиями прямо к вместилищу Сокровища своего Божественного, не задев ничего из украшений, а через некоторое время по зову настоятеля точно также вернулся туда, откуда прилетел.
Подобным образом он иногда подлетал к алтарям св. Франциска и Пресв. Марии Девы Гроттелльской во время чтения литаний.
[31] Паче прочих, однако, чудесно было и мило взору то его восхищение любви, когда Иосиф пожелал соорудить кальварию на некоем возвышенном холме между Копертино и обителью Гроттелльской. После того, как там уже воздвигли два креста, блаженный увидел, что десятеро мужчин общими усилиями тщетно пытаются поставить в назначенном месте третий, что был больше остальных и имел высоту пятьдесят четыре локтя. Движимый огнём внутренним, святой перелетел от монастырских врат к оному кресту на расстояние около восьмидесяти шагов и, подхватив его, будто лёгонькую легкую соломинку, поместил в заранее подготовленное углубление. Позднее он то и дело молился перед этими крестами, и часто случалось, что в восхищении Любовью своей распятой, он пролетал то шагов десять, то двенадцать, порой до гвоздя в середине креста, порой до верхушки его.
[32] Помимо того он пролетел четыре шага по воздуху, подхваченный огнём Святого Духа, когда, говоря о сошествии Оного на апостолов, увидел проходившего мимо монаха с зажжённой лампадой в руке.
А ещё он взлетел на оливу, когда один священник сказал ему: «Брат Иосиф, какие прекрасные небеса сотворил Бог!» Он провёл на этой высоте полчаса, и, что странно, ветка, на которой он стоял на коленях, казалось, лишь слегка прогнулась, не иначе, будто на неё села птица.
Однако наибольшее, чем когда-бы то ни было ещё, изумление Иосиф произвел на собравшихся в церкви св. Клары в Копертино, где в его присутствии несколько посвящённых дев принимали облачение в иноческий хабит. Когда хор запел [антифон]: «Приди, невеста Христова», заметили, что блаженный из своего угла, где он коленопреклонённо молился, стремительно перебежал к некоему отцу из Братьев-меньших реформатов, духовнику того же монастыря, и, схватив его за руку, со сверхчеловеческой силой оторвал от земли и во всерадостном восхищении, крутясь с ним в танце, увлёк с собою в воздух; а значит, вышло так, что настоятель был движим Иосифом, а Иосиф – Богом (ср. Деян. 17:28).
[33] Я бы сильно нарушил равновесие, если бы стал повествовать здесь обо всех восхищениях и шумных полётах блаженного по воздуху, о которых с изумлением сообщали копертинцы; а потому, чтобы не выйти за рамки краткого отчёта, достаточно сказать, что их, как следует из материалов беатификационного процесса, было более семидесяти, не считая тех, которые случались каждый день во время служения мессы, отчего, кстати, у него на неё обычно уходило два часа (традиционная месса обычно длилась немногим больше часа. – прим. пер.). Кроме того, при отъезде из Копертино он вместе с могучим своим огнём внутренним внешние его чудесные действия тоже возил всюду с собою, так что благочестивому читателю, возможно, будет угодно послушать о некоторых из множества других чудес, которыми он вплоть до самой смерти удивлял людей и в других местах.
Итак, выехав из Копертино, он ненадолго задержался в Нардо, где в церкви св. Франциска на виду у свидетелей, приведя их всех в священный ужас, был восхищён в состоянии экстаза; затем в некоем доме, куда пришёл ради исцеления больного, увидев образ, представлявший [евангельскую сцену] «Се, человек», замер наподобие статуи; ну а в другом помещении, заслышав какую-то деревенскую песню, издал свой обычный крик и, взлетев с земли на край стола, преклонил колени.
[34] После этого, направляясь в Неаполь, он заехал в Монополи, где собратья по ордену пригласили его зайти в их церковь, чтобы посмотреть на новую и прекрасную статую св. Антония Падуанского. При взгляде на неё Иосиф внезапно поднялся над землёю на пятнадцать ладоней и подлетел к образу названного святого, поставленному на алтаре; откуда возвратился на прежнее место тем же путём по воздуху.
Едва прекратилось первое восхищение, как нагрянуло второе, ибо во время чтения литании он подлетел к алтарю Непорочного Зачатия, откуда таким же образом вернулся по воздуху на первоначальное место.
Город Неаполь тоже дивился его необычайным восхищениям; именно там ему было велено инквизитором, как мы сказали выше, отслужить мессу в церкви св. Григория Армянина, относящейся к женскому монастырю св. Лигория, и там же, в углу той самой церкви, погрузившись в молитвы, он, внезапно с громким криком поднёсшись, перелетел к алтарю и стал над ним прямо, раскинув крестообразно руки, причём его конечности оказались среди цветов и горящих свечей, так что инокини раскричались: «Загорится! загорится!» Но он, издав крик ещё раз, невредим возвратился тем же воздушным путём на середину церкви, где, преклонив на полу колени, вскочил, а потом стремительно закружился, напевая: «Ах, Пресвятая Дева, ах Пресвятая Дева!».
[35] Бог же, решив явить дивную святость его также и пред особами высшего достоинства, сделал так, что, пока он находился в Риме, отец-генерал взял его с собою облобызать стопы Верховного понтифика Урбана VIII. Во время сей церемонии Иосиф, прозрев Иисуса Христа в наместнике Его, был охвачен экстазом и, оторвавшись от земли, парил, пока не отозвал его генерал, обратившись к которому, Понтифик в великом изумлении молвил: «Если Иосиф умрёт во время моего понтификата, я сам буду свидетельствовать об этом происшествии».
И нелегко сказать, сколько было такого рода восхищений, коими Бог соизволил удостоить его в те тринадцать лет, что он провёл в Ассизи, однако из наиболее замечательных случаев (помимо тех, которые мы уже упоминали в других местах сего жизнеописания) на первом месте стоит поставить нижеописанный.
После того как Верховный адмирал королевства Кастилии, посол Испании при Апостольском престоле при проезде через Ассизи в 1645 году побеседовал с Иосифом в его каморке, отец-кустод Сакро-Конвенто приказал блаженному спуститься из каморки в церковь, где ожидала супруга адмирала, преисполненная желания увидеть его и побеседовать с ним. Иосиф ответил: «Повинуюсь, но я не знаю, удастся ли с ней поговорить».
[36] В самом деле, едва он, вошедши в церковь, бросил взор на статую Непорочного Зачатия на алтаре, тут же пролетел над головами всех присутствовавших двадцать шагов, дабы обнять стопы Св. Марии. Поклонившись Царице Небесной, он через некоторое время перелетел с обычным своим криком на прежнее место и тотчас же бросился обратно в свою келлию, повергнув адмирала с женою в изумление, а их многочисленную свиту – в священный трепет.
Равным образом были ошеломлены в другой раз несколько художников, ибо, когда они сказали в присутствии Иосифа, что собираются писать в его часовенке тайну зачатия Пресвятой Девы Марии, то прежде всего услышали, как он, разволновавшись, воскликнул: «Что? Зачатие Девы Марии? Непорочное зачатие?!», а затем увидели, как он внезапно лишившись чувств, впал в нежный экстаз и провёл более получаса с раскинутыми руками и лицом, обращенным к небу, в созерцании столь великой тайны.
Ещё большим было удивление одного священника, который, войдя вместе с Иосифом в деревенскую церковь и будучи спрошен им: «Как вы думаете, хранят ли здесь Св. Тайны?», - не увидев там ни одной горящей лампады, ответил: «Кто знает?», - но тут же услышал, как блаженный разразился громким криком, и увидел, как он летит к дарохранительнице, обнимает её и поклоняется Св. Тайнам, ибо хотя они были сокрыты, он узнал, что они там хранится, что впоследствии и выяснилось.
[37] Точно такое же изумление испытали те, кому было поручено вскрыть реликварий и переложить хабит святого патриарха Франциска, ибо, когда они занялись своим делом, то увидели, как Иосиф взлетел высоко над их головами спиною вверх; а также те, что наблюдали, как он в созерцательном восхищении поднялся над землёю на шестнадцать ладоней и парил в воздухе над карнизом часовни того же Серафического патриарха.
Не меньшим, наконец, было удивление и других, наблюдавших в часовне св. Урсулы, как блаженный, издав крик, постепенно взлетел вверх к маленькой подставке, на которой хранились Св. Тайны, и коленопреклонённо замер прямо в воздухе, обратив сияющее лицо к дарохранительнице. Наконец, отозванный настоятелем, он тем же путем возвратился на место.
Отец-кустод, однако, был ещё более удивлен и изумлен, когда после праздничной вечерни Непорочного Зачатия в послушнической часовне Ассизи Иосиф попросил его повторить вместе с ним: «Прекрасная Мария», ибо в итоге блаженный схватил отца, прижал к груди и, часто наперебой с ним восклицая: «Прекрасная Мария, прекрасная Мария!», поднял его в воздух.
[38] Был, однако, один случай не просто удивительный, но и паче всех благодетельный, а потому, пропустив ради краткости множество остальных, расскажем, что приключилось с одним человеком, полоумным и буйным, несмотря на знатность. Его привязали к стулу и доставили к Иосифу, чтобы он помолился Богу об исцелении его. Когда его освободили от пут и силой заставили преклонить колени в часовне, слуга Божий стал на цыпочки и, возложив руку на голову ему, молвил: «Дон Бальтазар, не бойтесь; вверьтесь Богу и Его Пресвятой Матери!». Сказав это, он схватил его за волосы и с обычным своим восклицанием «Ах!» оторвался от земли, подняв его с собою за волосы, и ненадолго завис в воздухе к огромному изумлению окружающих, которые вместе с сим дворянином, теперь уж пришедшим в здравый ум, возблагодарили Бога, столько чудес творящего чрез слугу Своего.
[39] Несомненно, что подобного рода экстазы и восхищения были чудесными
следствиями божественной любви, которой пылало сердце Иосифа. Любовь же сию
распаляла величайшая сила единения, коей сердце его прилеплялось к Богу. Оттого
благочестивый и учёный отец Иероним Родригес из Общества Иисуса после беседы с
Иосифом утверждал, между прочим, что «он находится в глубочайшем единении с
Богом, а сердце его в любой миг готово к единению с Богом – быстрее, чем порох воспламеняется от любой искорки». В
самом деле, Иосиф постоянно углублял единение с Богом чрез непрестанную
молитву, возвышенную и совершеннейшую, в которой одновременно и сам возносил ум
свой к Богу, и Он был рядом, готовый просветить его, воспламенить и к Себе
привлечь; не иначе, будто стоило блаженному обратить взор к небесам, как ему
немедля представали все превозвышенные красоты рая. И поистине, как он сам засвидетельствовал
перед кардиналом Лаурийским (Франческо
Лоренцо Бранкати, 1612-1693 гг., францисканский богослов. – прим. пер.), словно бы говоря о другом человеке, виделось ему, будто
находился он «в сокровищнице, полной прекрасных вещей, и в каком-то
кристально-чистом зеркале, что висело там, одним взглядом охватил совокупность образов
всех их одновременно, то есть постиг в некоем подобии сокровенные тайны, кои
Бог при том глубоком единении изволил открыть ему».
[40] Кроме того, крики и вопли, что он издавал, были последствиями внутреннего огня, который, не в силах оставаться взаперти, извергался вовне, прорываясь через уста его, подобно тому, как «извергается и грохочет воспламенённый порох, исходя из огнестрельного орудия» (сравнение, приведённое им – опять же с использованием третьего лица – в ответ на вопрос). От этих же чрезвычайно мощных порывов так часто вместе с душою поднималось тело его и всё, что к нему было прикосновенно.
Часто также он пел и плясал в мгновения восхищений, каковые сам, ссылаясь на их причину и следствие, справедливо называл «ликующими». И хотя он не всегда был в восхищении или в отстранении от внешних чувств, дух его, однако, всегда был вознесен к небесам, отчего часто случалось так, что при разговоре с другими он не понимал о чём идёт речь, а уж если отвечал, то становилось ясно, что всё естественное служит ему лишь лестницей, ведущей к созерцанию того, что естество превосходит. Например, когда в пути встречались разные женщины, на вопросы одного инока «кто это такая?», блаженный отвечал то «Пресвятая Дева», то «Святая Клара», то «Святая Екатерина», а когда его спрашивали таким же образом о мужчинах, называл то одного, то другого святого.
[41] Ещё он читал канонические часы и другие частные молитвы с величайшим вниманием и усердием, что явственно подтверждалось его глубочайшими вздохами, издаваемыми им при этом, и отпечатками от колен, оставшиеся после него на подножии алтаря и полу его часовни. А поскольку молитва его была вдохновлена живой верой и твёрдым упованием на Бога, он обычно говаривал другим: «Дети мои, верьте Богу, ибо Он может позаботиться о вас. Люди обещаний не держат, а Бог никогда не подведёт». Иногда он даже выкрикивал: «Кто веру имеет, тот над миром господствует!» О себе же молвил: «Мне только на Бога остаётся уповать», добавляя, что подобен тому, кто, будучи брошен посреди моря на утёсе, окружённом волнами, не ожидает помощи ни от кого, кроме Бога; и что при необходимости горы перенёс бы силою этой твердой веры с одного края мира на другой. Поскольку же, как я говорил, молитва его была так одухотворена, оказывалась она всегда и действенной чрезвычайно.
[42] Он помолился об отвращении от города Копертино и окрестностей гибельного опустошения, которым грозил внезапный смерч, и тот немедля выдохся.
Также он помолился об отогнании жутчайшего ненастья и внезапной бури, что вредила жителям и чинила ущерб ближайшей к городу обители Гроттелла; и выйдя после молитвы из церкви, воскликнул: «Ах, ты ж драконище!» И куда бы он ни пошёл, облака рассеивались, а небо вновь прояснялось.
В том же краю он помолился о дожде для иссохших полей; и едва закончился молебен, который он отслужил о том, как свершилось то, что обещал [жителям].
По молитве его хирург Альчиде Фабиани при возвращении из Ассизи в Спелло оказался невидим для шести головорезов, которые подкарауливали его, чтобы убить.
Молитвой он спас отца-генерала своего ордена от серьезной опасности утонуть во рву Каннара близ Монтефалько, изрядно глубоком и полном воды, упав в который с моста вместе с перепуганным мулом, генерал вверил себя бл. Иосифу, который тогда был ещё жив. Позднее, при первой же встрече с ним блаженный сказал: «Надо же, отец-генерал, как крепко ты напугался! Счастье, что ты упал около десятого часа, когда я служил мессу – тут-то я вверил тебя Богу».
[43] Не менее очевидно проявилась сила молитвы его в привлечении к католической вере Иоганна-Фридриха, принца Брауншвейгского (1625-1679 гг.; из династии Вельфов; правил с 1665 г. в Ганновере. – прим. пер.), от лютеранской ереси. Когда в 1649 году этот двадцатипятилетний принц навещал главные дворы Европы, то, ведомый любопытством, нарочно завернул из Рима в Ассизи, чтобы повидать Иосифа, о котором ещё в Германии узнал по слухам. По прибытии в Сакро-Конвенто, он был принят и размещён в покоях, предназначенных для знатных гостей. Там он сообщил о своём желании поговорить с Иосифом и сразу же затем уехать; и вот на следующее утро его с двумя спутниками из состава свиты (один из них был католиком, другой – еретиком) привели к воротам церкви, где блаженный тогда служил мессу. Он ничего не знал об этом, однако, когда попытался преломить освященную гостию, почувствовал, что она стала чрезвычайно жёсткой. После тщетных усилий сломать облатку он положил её обратно на патену и, уставив взгляд на Св. Тайны, сперва разразился оглушительным криком, а затем с громким воплем отлетел, согнув колени, по воздуху назад на расстояние пяти шагов и после такого же возгласа, вернувшись к алтарю, наконец разделил священную гостию, хотя и с большим трудом.
[44] Когда ввиду этого настоятель по велению принца спросил Иосифа о причине его рыданий, тот ответил: «Земляк, те, кого ты сим утром прислал ко мне на мессу, жестокосерды, ибо не верят во всё, во что святая мать-Церковь верует; поэтому-то нынче утром Агнец затвердел в моих руках, и я не мог разделить Его». Потрясенный таковым событием и ответом, принц, уже отнюдь не помышляя об отъезде, захотел после обеда побеседовать со слугою Божиим – чем и был занят аж до самого повечерия. Поскольку же благодать Божия всё сильнее влекла его, пожелал он назавтра вновь посетить мессу, [которую служить будет бл. Иосиф].
И вот на сей мессе при вознесении святой гостии, крест, изображённый на ней, всем одновременно вдруг показался чёрным, а священник, восхищенный при этом в воздух с обычным своим криком, провёл примерно четверть часа на высоте ладони над подножием алтаря с гостией в руках. При виде столь чудесного знамения принц горько расплакался. А позднее один из его спутников – тот, что был еретик, – молвил с негодованием: «И дёрнул же меня чёрт поехать в эти края! На родине я был спокоен, а тут злюсь и мучаюсь совестью» (Генрих Юлиус фон Блюме (1622-1688) – майнцский, а позднее австрийский дипломат, теолог, университетский профессор; обратился в католическую веру в 1653 г. вслед за принцем. – прим. пер.).
[45] Позднее Иосиф, который всё видел взором, просветлённым вышним светом, заверил одного из близких друзей в будущем приобщении принца к вере, молвив: «Возрадуемся: олень ранен».
И в самом деле, после того, как принц проговорил с ним до обеденного часа, а после вечерни направлялся к себе в комнату, Иосиф, заметив это, выбежал ему навстречу, опоясал его своим опоясанием и с великим пылом духовным сказал: «Вот я тебя и поймал в силки райские! Теперь ступай поклонись св. Франциску, сходи на повечерие, благоговейно поучаствуй в крестном ходе и что монахи будут делать, то и ты делай». Всё это добрый принц смиренно исполнил, после чего заявил, что станет католиком, а сверх того собственноручно записался в члены Товарищества вервиеносцев св. Франциска.
Однако прежде чем публично отречься от своей ереси, он решил вернуться в своё княжество, чтобы уладить дела, после чего в следующем году, как и обещал, вернулся в Ассизи и, преклонив колени перед Св. Тайнами, в присутствии двух кардиналов – Факкинетти и Рапаччоли – отрёкся от своих прежних ошибок в объятиях бл. Иосифа, каковой силою молитвы своей доставил славу Богу, радость Верховному Понтифику и спасение упомянутому принцу, который потом всегда с большим почтением относился к человеку, столь много сделавшему для него.
[46] Бесчисленны знамения, которые Бог сотворил по молитвам слуги Своего, по каковой причине здесь достаточно привести обобщающие слова из беатификационного процесса: «Его молитва никогда не была напрасной, но чего бы он ни просил ради спасения душ и тел, всегда был услышан. Те же, кто вверял себя его молитвам, обнаруживали, что обретали просимые блага в то самое время, когда вышеназванный отец молился о них». Потому-то он, сознавая, что от молитвы проистекает всякое истинное благо, и всякого блага ближнему горячо желая, часто твердил: «Молитесь, молитесь!». Однако томимый огромной своей любовью к ближнему, он и сам не переставал молиться за всех, чтобы праведные укрепились в божественной благодати; чтобы грешники опомнились и покаялись. А дабы подкрепить молитву свою, он то упрашивал божественную Милость потерпеть как былые, так и нынешние грехи человеческие; то тело своё сурово смирял, чтобы хоть в какой-то мере воздать божественной Справедливости за провинности других.
[47] Когда другие просили его о молитвах, он ласково отвечал: «Вы уж на Бога-то благословенного положитесь, а я точно в стороне не останусь».
Когда к нему прибегали те, чью совесть терзали навязчивые сомнения (scrupuli), он повторял прекрасную поговорку: «В доме моём не потерплю ни тоски, ни сомнений!»; а затем, дав дельный совет и утешение, он иногда в шутку хватал веники и обметал их с головы до ног, приговаривая: «Вот, я подчистил все твои сомнения; твори добро, вырабатывай благое намерение и не бойся».
Если же он когда видел или узнавал о возникновении распри, то тотчас же сам разрешал спор и добивался согласия как заправский мировой судья; а так как его речь была естественной, ученой и весьма спокойной, то он пленял души всех, кто его слушал. И хотел он, чтобы все так же были искренни, обращались друг с другом любезно, а притворство, гордость и хвастовство – ненавидели. По этой причине он всем, даже вышестоящим своим, советовал пестовать милосердие, кротость и любовь, а потому они постоянно были у него на устах, что выражалось в пламенных словах его: «Любовь, любовь… Кто любовь имеет, тот богат, сам того не зная, а кто любви не имеет, тот ничего не имеет, тот несчастен, сам того не зная. Любовь и милость — это великое счастье».
[48] Поэтому же, когда он наблюдал старательное исполнение сих советов своих, радовался и того, кто так поступил, нежно обнимал. Так было с одним иноком, который уладил какую-то ссору и успокоил смятенные души, – Иосиф молвил ему: «Дорогой сынок, будь благословен; да благословит тебя святой Франциск; ты совершил поступок истинного сына святого Франциска!»
И хотя он старался научить любви других, а сам проявлял её даже и к тем, кто его обижал (одному из них святой за оскорбление воздал чудесным [исцелением?]; другого, что в ответ на упрёк ранил его ножом, укротил своей кротостью и, дав прощение, предсказал скорую смерть; ну и, наконец, ещё одного, кто, словно бешеный, готов был изувечить блаженного, нежно обнял и, внушив раскаяние, вернул его к Богу). Эта же любовь к ближнему время от времени воспламеняла его сердце священной ревностью, из-за которой в обителях он иногда горячо порицал преступавших устав даже в самой малой его части и призывал настоятелей памятовать о бдительности.
[49] Иногда он пылко противостоял наглецам; так он противостал в Ассизи двум особам, заметив, что они болтают в церкви св. Франциска, не принимая во внимание ни святости места, ни соображений приличия.
Бывало, что он открывал тайные пороки душ, кои прозревал силою небесного света, тем, кого ему хотелось от оных избавить. Так он открыл некоему Альфонсо из Монтефусколо его нечистые искушения и тотчас же отвратил его от них. Так он остерёг одну женщину из Велье, проживавшую в Копертино, относительно колдовского средства, которое она заготовила, а когда она в этом раскаялась, убедил передать ему оное для сожжения. Он также указал знатному юноше на пятна души его, спросив о нём у одной почтенной особы, приведшей его с собою в гости: «Что за арапа ты привёл сюда ко мне? Разве ты не видишь, какой он чёрный?» Затем обратился к молодому дворянину, молвив: «Поди-ка, сын мой, умойся». Когда же тот вскоре вернулся, омывшись в таинстве исповеди, Иосиф, увидев его, исполнился радости и, обняв его, молвил: «Ну и красавчик же ты, сын мой! Умывайся почаще, а то вчера ты был страхолюден, подобно арапу». И сколько бы ни встречал он людей с запачканными душами, молвил: «Ух, ну и страхолюдище же ты! Поди-ка поправь камнемёт» (под этим он подразумевал совесть).
[50] Причём он как с христианским дерзновением изящно открывал людям грехи их, даже тайно совершённые, дабы они могли исправиться, так и с равной любовью помогал искушаемым, дабы не упали. Действие этой любви особенно испытал на себе некий священник из Спелло, который уже был близок к тому, чтобы запятнать свою душу тяжким грехом, ибо на него напали два могучих врага, сиречь сильное искушение и готовность согласиться. Но на счастье он встретил Иосифа, который схватил его за руку и прошептал ему на ухо с сердечным запалом: «Сынок, а сынок, мужественно противостань таковому искушению (и назвал его), ведь Бог хочет, чтобы ты не оскорблял Его; серьёзно тебе говорю, сынок, серьёзно тебе говорю!». Благодаря сему знаменательному увещеванию священник вышел победителем.
Чтобы паче укрепить всех искушаемых бесом, он увещевал их часто принимать таинства: «Ибо, – молвил он, – где постоянно бывает Бог, не может постоянно быть и враг Божий; Бог в итоге всегда побеждает, ибо Он больше может сделать Своей благодатью, чем диавол – своими искушениями». Но поскольку главная причина любви к ближнему – единственно Бог, Который является средоточием сей святой силы (ведь в этом все согласны в учении со св. Фомой: «Причина любви к ближнему есть Бог»), поэтому пламенное человеколюбие Иосифа было обращено не только к приобретению верующих для Бога, но по указанной причине равно распространялось и на всех неверующих.
[51] Поэтому он говорил о них с искренней нежностью, глубоко опечаленный их состоянием и готовый сделать всё что угодно для их спасения. От сего случилось, что, молясь о них и проникая иногда в глубокие тайны Божии созерцанием, он переживал длительные экстазы, приходя после которых в чувства, много скорбел, говоря присутствующим: «Чада, молитесь за добрых, молитесь за грешников, молитесь за еретиков, за турок, за неверных и, наконец, за всех, ибо все мы искуплены драгоценнейшей Кровью Иисусовой».
От душевных нужд ближних он обращал милость свою на утоление их телесных страданий, насколько начальства позволяли ему заниматься этим; причём, хотя он и уединялся в своей келлии, однако, озарённый божественным светом, знал, кто в чём нуждается, и поддерживал молитвой. Более того, когда ему позволяли, он, едва заслышав, что кто-то в обители или же вне её болен, тотчас мчался к ним, увещевал всецело ввериться воле Божией и после других благочестивых наставлений, если они боялись смерти или по какой-либо другой причине печалились, ласково улыбаясь, утешал их своим нежными речами, говоря: «Ты молодец; Бог всё устроит».
[52] Помимо того он полностью посвящал себя им, выполняя даже самые унизительные услуги: придерживал больных на руках, клал пищу им в рот, перевязывал и, чтобы побороть естественную тошноту, однажды с героическим мужеством духа съел листья, послужившие припаркой к невероятно мерзкому нарыву на теле одного раненого. Одним словом, его милость к больным была столь исключительна, что иноки говаривали: «При Иосифе лучше болеть, чем здравствовать, так как стоит заболеть – и он целиком твой, а когда ты в добром здравии, он целиком принадлежит себе самому».
Причём его милость к болящим привела к тому, что даже при жизни была ознаменована чудесными исцелениями от Бога.
Равным образом проявил Иосиф нежнейшее милосердие и во время ужасного голода, который долгое время терзал Ассизи и соседние провинции, в каковую пору он слёзно умолял Бога о помощи. А когда не получил разрешение собирать на голодающих подаяние вне обители, неустанно кружил по монастырю, стараясь хотя бы собратьев своих по мере сил утешить.
Ко всему этому присоединялось у него исключительно признательное отношение к благодетелям, ещё и усиливаемое всё тем же человеколюбием, и поскольку по нищете своей он ничем иным не мог воздать им, то обещал, по крайней мере, хранить особую память о них, благодаря, благожелая и молясь. «Будь благословен за ту милость, что ты мне оказал, – с величайшей нежностью говаривал он хирургу, что лечил его, – Господь Бог воздаст за неё, но и я никогда не забуду молиться за тебя, коль достигну обители спасения».
[53] Потом, с особенно глубокой благодарностью бл. Иосиф относился к Марии, чьему заступничеству приписывал все блага, которые стяжал от Бога, за что воздавал Ей искренней любовью, нежнее и сильнее которой не представить. Ещё в детстве приученный родительницей почитать Богородицу, он обычно называл Её своей мамой и всегда к Ней, как к матери, относился, равно как и Она к нему – как к чаду. Поэтому невозможно перечислить всех знаков почтения, какие он оказывал Матери небесной. Он украшал Её образа розами, лилиями и другими цветами, а вместе с этими и подобными украшениями он приносил Ей в дар своё сердце и пылкость чувств. «Мама, – говаривал он, пошучивая, – не в духе; принесу Ей цветов, говорит, что не хочет; принесу вишен, тоже не хочет… Тогда спрашиваю: «Чего ты хочешь?» А Она молвит: «Сердца хочу, ведь ничто иное меня не питает!»
И, конечно, сердце его всецело принадлежало Марии, что откровенно проявлялось в благоговейных молитвах, которые он непрестанно произносил в Её честь; в нежных словах, которые он изрекал о Ней, называя Ёе Заступница, Владычица, Защитница, Матушка, Невеста, Помощница; в безыскусных весёлых песенках, которыми он часто восхвалял Ее; но прежде всего – в экстазах и чрезвычайно частых восторгах, которые он испытывал при виде образов Её или при возглашении хвалений Ей.
[54] Так, однажды при словах «Святая Мария» он пролетел над тремя парами иноков, которые, расположившись рядами, читали литанию в церкви. Подобным же образом и в других случаях он бывал восхищаем, когда звучало то «Святая Богородица, то «Матерь благодати Божией», то «Дверь Небесная». Более того, даже одно лишь имя Марии услышав, он часто впадал в экстаз и нередко возносился от земли, что, как прекрасно известно, случалось на протяжении всей его жизни. А порой, созерцая красоту Царицы Небесной, он изнемогал от любви к Ней, что и сам обнаружил однажды, ибо, когда он служил мессу у Её алтаря, многие увидели, как, захваченный экстазом, он поднялся в воздух, и услышали, как со слезами он произнёс слова: «Хвалите Её, святые ангелы в песнях своих; ибо хоть и пылаю я целиком, не могу восхвалить Её достойно!» И недостаточно было ему, чтобы Её любили и восхваляли все сущие в небе святые и ангелы; желал он, чтобы Её любили и восхваляли также все сущие на земле человеки.
[55] У нескольких копертинцев, пришедших в Гроттеллу посмотреть на него, он спросил: «Зачем вы пришли сюда? Наверно, навестить мою Владычицу?» После их положительного ответа, продолжил: «А что вы принесли Ей в подарок?» И когда копертинцы сказали: «Службу часов и розарий», - он, почувствовав, что пришли они из простого любопытства, воскликнул: «Какую службу, какой розарий? Моей Владычице нужно сердце и воля». Этими пламенными словами Иосиф пробудил в их сердцах любовь к Пресвятой Марии, а затем повелел им преклонить колени и прочёл вместе с ними литанию, что имел обыкновение делать со всеми, приходившими в его келлию.
Ещё же он учил всех как можно чаще говорить Марии: «Прибежище грешных, Матерь Божия, помяни меня!», и такова была его постоянная краткая молитва, которая, по его утверждению, наипаче угодна Пресвятой Деве, ведь не зря Её зовут Прибежищем грешных.
Иосифу до того по было сердцу величать Владычицу частым повторением славословий, перечисленных в Литании, что когда пастухи, с которыми он читал её каждую субботу в часовенке близ обители Гроттелла, не смогли прийти из-за жатвы, блаженный, увидев овец, сказал: «Тогда вы идите сюда, идите сюда; почтим Матерь Божию – мою и вашу!»
[56] Сей зов Иосифов, донёсшийся на расстояние большее, чем может достичь человеческий голос, чудесным образом заслышали овцы и тотчас же сбежались из разных загонов к часовенке, несмотря на тщетные оклики маленьких пастушков, что их стерегли. Когда они прибыли, бл. Иосиф, исполненный радости, начал литанию, и овцы (неслыханное доселе чудо!) вторили ему хором, отвечая на каждый стих своим голосом, так что, когда Иосиф произносил «Святая Мария», они блеяли в ответ: «Бе-е»; и так на каждое из славословий до конца литании. По окончании молитвы, получив от блаженного благословение, они, весело прыгая, вернулись на пастбища, которые прежде оставили. С той поры слуга Божий возымел такое упование на великую Матерь, что с помощью её Литании изгонял бесов и исцелял одержимых. Он также советовал Литанию при опасных родах, и они проходили благополучно. При распрях он говорил спорщикам: «Ступайте-ка к Матушке, к Матушке!» – и немедля их примирял.
[57] Во имя Матери Божией, заступничеству Которой он приписывал всякое обретённое благо, он часто обещал чудеса, которые тотчас же случались.
Слепая женщина прозрела в тот самый миг, когда бл. Иосиф, коснувшись её глаз, сказал: «Матерь Божия исцелит тебя».
Генеральный викарий Нардо не хотел проводить обряд освящения трёх крестов, которые Иосиф распорядился воздвигнуть близ Гроттеллы, пока держался обычный для той поры года зной, поскольку место было на солнцепёке, но, уступив, наконец, уговорам блаженного, заверившего: «Моя Матушка не допустит, чтобы ты пострадал от зноя», - облачился в каппу и провёл обряд, затянувшийся на три с половиной часа, причём не претерпел от жары ни малейшего неудобства.
Обращалась порой к Иосифу за поддержкой и обнищалая мать его, которой он отвечал: «Моя мать — Мария, ну а у меня самого ничего нет, ведь я нищ. Вверься Марии; она поможет тебе». И Она в самом деле всегда ей чудесным образом помогала.
[58] «Не бойся! – сказал Иосиф одному тяжко хворавшему священнику. – Сколько уже времени ты не ходил в Гроттеллу, не видался со своею Матушкой?» «Ах, – ответствовал больной, – разве ты не видишь, брат Иосиф, каково мне, что я даже не могу пошевелиться?!» И тогда слуга Божий перевязал ему язвы и стал поглаживать их рукой, говоря: «Неужели ты не надеешься на свою Матушку?» А в то самое время, когда Иосиф так поглаживал язвы больного, они подсыхали, и когда тот исцелился, наконец, совершенно, блаженный оставил его.
Был также услышан Марией и другой священник – после того как он, сомневаясь, можно ли просить Её о какой-либо милости, услышал от блаженного, проведавшего о его тайных сомнениях: «Проси у Неё, Она подаст тебе».
Одному умирающему Иосиф собственноручно раздвинул губы и влил в рот, уж не знаю, какую, жидкость, спросив затем: «Ну как, получше?» Тот же ответил: «Превосходно». Тогда бл. Иосиф вновь молвил: «Смотри не говори никому обо мне ничего, а рассказывай, что исцелила тебя Матерь Божия – твоя и моя Матушка».
Подытожу, наконец, ради краткости: как святость Иосифа проистекает, по его собственному признанию, из почитания Марии, так и слава его святости проистекает от множества благодеяний, которые другие люди обрели у Марии по молитве Иосифа.
[59] Из-за этого стало так, что при постоянном росте сей взаимной любви Мария всегда относилась к Иосифу как к дражайшему сыну своему (и некая раба Божия в экстазе видела, как на празднике [Матери Божией Ангельской] Порциункулы Она с нежностью его так называла), а Иосиф всегда почитал Марию вселюбезной своей матерью; и как он называл Её Матушкой своей в течение жизни, так и на смертном одре призывал её сладким именем Матушки, говоря: «Покажи, что ты мама мне!».
Видя сию любовь блаженного к Матери чистоты, можно представить с какой любовью он стремился к чистоте. Хотя в отличие от некоторых других он не был свободен от нечистых искушений, которые, как было сказано выше, его яростно осаждали, однако, чем мощнее шли нападения, тем славнейшую он над ними победу одерживал с помощью Бога и «мамы Марии». Тем не менее сомнения и страхи терзали его, так что однажды он вслух воскликнул: «Ах, Боже ж мой! Я, конечно, знаю, что Ты всё делаешь во благо и что по благодати Твоей я в этих искушениях не согрешу, однако вот бы мне не чувствовать их и не испытывать!» Но Бог изволил, чтобы он при всей своей чистоте оказался среди оных нечистых прилогов, стяжая более заслуг.
[60] Во всяком случае, духовники его и многочисленные другие свидетели утверждали, что в нём никогда не наблюдалось и тени нечистоты, но всегда обнаруживалась величайшая чистота сердечная и телесная, отчего душа его казалась скорее ангельской, нежели человеческой. Поэтому он и сам, величайший поборник целомудрия, желая всем дать почувствовать ценность её, говорил, что «целомудренная душа подобна хрустальному сосуду, чистому и ясному, полному холодной и совершенно прозрачной воды, которая всякому мила в разгар дневного зноя и которой в ту пору ничего нет приятнее для человека; но стоит влить в неё хоть каплю масла, как она вся портится и становится противной».
По той же причине он побуждал (прежде всего примером, а затем и наставлением) избегать всякой опасности чистоту утратить, ибо и сам отказывался, кроме как из послушания, иметь дело с женщинами, и учил тому: «Опасное это дело - иметь дело с женщинами, которые только вред приносят желающим принадлежать Богу; бежать, бежать от них нужно, и только из послушания с ними можно общаться».
Точно так же благодаря своей незапятнанной чистоте он удерживал верных от постыдных искушений; иногда наложением каких-нибудь своих вещей, как он вмиг избавил одного юношу от сильного искушения, обвязав ему чресла своим поясом; иногда – просто словом, что случилось, например, с другим человеком, недавно обращённым из магометанства в католическую веру, ибо когда он посетовал, что его крепко осаждают искушения, причём такие, каковых он прежде не испытывал, услышал от Иосифа, что так происходит оттого, что его лжеучение не запрещало разврата, а бесу незачем пытаться захватывать тех, кем он и так уже владеет. И с той поры он немедля почувствовал себя от искушений свободным и в католической вере окрепшим.
[61] Однако более надёжным и куда более удивительным признаком ангельского его целомудрия было то, что он чуял зловоние от тел людей распутных, а его собственное тело источало сладостнейшее благоухание, которое обоняли другие. Стоило ему только глянуть на сластолюбца, как он распознавал его по зловонию. Однажды его увидели в беспокойстве и волнении, а на вопрос, в чем причина, он ответил, что, мол, только что поговорил с особой, загрязнённой чувственной похотью, после чего в ноздрях его осталось столько зловония, что он не мог перебить его даже нюхательным табаком». Ну а чтобы внушить всем отвращение к нечистоте, он часто молвил: «Распутники смердят пред Богом, ангелами и людьми». Он же, напротив, за целомудрие своё одарён был Богом небесным благоуханием, которое, как учат наставники подвижничества в согласии с ученейшим и благочестивейшим кардиналом Лаурийским, является верным признаком истинной чистоты.
[62] «Его знаменательный дар чистоты, – говорит сей прелат, – был очевиден для всех, кто общался с ним или брал какую-нибудь вещь, которой он пользовался, ибо и сам он источал сладчайшее благоухание, и предметы, которых он касался, долгое время сохраняли сей запах; даже стоило ему просто пройти через дормиторий, и там оставался столь явный аромат, что, если бы кто пожелал знать, куда ушел брат Иосиф, достаточно было идти по следам аромата. А благоухание, исходящее от кого-либо, как учат наставники духовной жизни, есть верный признак истинной чистоты».
И все справедливо считали, что аромат этот превосходит законы природы, ибо неизвестно, как говорили, какому запаху его ещё можно было уподобить, кроме того, что источает хранящийся в Ассизи бревиарий, которым когда-то пользовалась св. Клара, да ковчежец, содержащий прах целомудреннейшего св. Антония Падуанского; по каковой причине все называли оный запах ароматом и благоуханием рая.
Помимо сей столь исключительной и столь благоуханной чистоты, Иосиф особо просиял иноческой нищетою. Хотя ему позволялось хранить различные вещи, соответствующие его сану, а также средства, выдаваемые монахам на пропитание и одежду, он, тем не менее, хотел всегда обходиться не только без всего лишнего, но и без многого из того, что для жизни человека необходимо.
[63] Вот почему одежда его всегда была самой дешёвой из всех возможных, а иногда до крайности старой и рваной; под ней он носил грубую рясочку (которую стоило бы назвать скорее власяницей, чем облачением) да подштанники из грубой ткани – и ничего другого он никогда не надевал, даже для защиты от холода, разве что ещё сандалии, да и то лишь тогда, когда выходил на люди. Поэтому, когда он порой приезжал в какую-нибудь обитель, на вопрос, захватил ли с собою одежды, он отвечал, что захватил, имея при этом в виду только те, в которые был одет.
Во время своей предсмертной болезни он, правда, был вынужден согласиться взять два белых платка у хирурга Озимано, но едва рассмотрел, что они льняные, молвил: «Слишком хороши они, слишком хороши», – и, отказавшись от них, принял два других, что были хоть тоже из белой ткани, но грубой и шершавой.
Таковую же крайнюю бедность он соблюдал и во всём остальном, ибо вся его пища с самого начала сводилась к травам и овощам раз на день, изредка ел рыбу; бывало, отведывал мясо из послушания, однако желудок его оное извергал, как было уже сказано. Поэтому и не желал он, чтобы даже мельчайший кусочек хлеба оказался в его комнате, где, вследствие своих частых экстазов, вкушал пищу отдельно от других.
[64] Что же касается обстановки той келлии, то всё её оснащение представляла одна молитвенная скамеечка, два плетёных стула, столик и несколько бумажных икон; ну а кровать его состояла из деревянного настила и соломенного тюфяка. Тем не менее, эта неудобная и убогонькая кровать была ему так дорога, что, когда ему ввиду тяжёлой болезни было велено постелить матрац и простыню, он не смог долго выносить непривычную мягкость и сказал, что ему кости ломит, а потому пришлось уважить его и переложить на излюбленные доски.
Также и к деньгам он питал такое отвращение, что не только не принимал никогда подношений (а когда упрашивали взять хотя бы для обители, советовал передать их начальству), но дошло даже до того, что однажды, когда благочестивые особы подкинули ему в капюшон мелкую монету достоинством в два джулио, его сверхъестественное отвращение [к деньгам] проявилось в крайнем изнеможении и обильном поте, будто на его шею лёг тяжелейший груз; «Я не могу больше!» – восклицал он при этом и до тех пор не мог успокоиться, пока кто-то, сжалившись, не вынул оной монеты оттуда.
Притом он всегда считал себя богатейшим человеком и с веселым лицом говаривал, что, мол, хотя у него ничего и нет, но Бог его всем обеспечивает. Он также признавал, что все его блага заключаются в Боге, и вместе с Серафическим патриархом повторял: «Боже мой, Ты для меня – всё!» («Deus meus et omnia»). Поэтому, когда на пороге смерти он обдумал отчёт о той части общего монастырского имущества, что была выделена ему просто в пользование (что в таковых обстоятельствах обычно делают иноки-францисканцы), то в утешение себе мог сказать своему настоятелю: «Отец-гвардиан, я бы хотел сделать отчёт, но у меня ничего нет».
[65] Он мог бы с полным правом сказать, что отнюдь не имеет собственной воли, потому что он целиком принёс её в жертву святому послушанию. И верно, добродетель эта достигла у бл. Иосифа такой героической степени, что он заявлял: «Я скорее умру, чем не послушаюсь». Сего ради он почитал любого вышестоящего, как если бы то был сам св. Франциск, и не желал ничего слышать о его недостатках, чтобы не возникло даже тени причины противиться приказаниям. Поэтому и открывал он начальствующим жизнь свою полностью, как с внешней, так и с внутренней стороны, будучи совершенно готов изменить её по их усмотрению. И как не желал он ничего делать, что не было ознаменовано послушанием (даже окна не открывал и не закрывал в своей келлии без согласия своего сотоварища – светского брата), так, с другой стороны, едва заслышав зов или приказ своего настоятеля, исполнял всё без промедления.
Однажды он находился в комнате отца Караваджо, своего духовника, который тяжко хворал и, по мнению врачей, наверняка должен был умереть, и там, вознесшись в экстазе, парил над постелью больного, пока тот получал намащение святым елеем. Затем, придя в чувства, Иосиф хотел было вернуться в свою келлию, но, услышав слова настоятеля, запретившего ему удаляться, оставался неподвижен в том самом положении, где в тот миг замер, пока не получил от настоятеля разрешение удалиться.
[66] Настоятелю достаточно было приказать Иосифу, и он бы поел мяса, вышел из келлии, пообщался с кем-либо, позволил облобызать себе ноги, отдал что угодно из того, к чему он привык, – сделал бы что угодно из описанного или тому подобного, что [обычному человеку] могло бы облегчить жизнь или польстить, но к чему он как раз питал отвращение.
Однажды генерал ордена велел блаженному съесть кусочек белого сахара, который дал ему для поддержки сил, и он незамедлительно съел. Потом один инок, желая испытать святого, спросил его, как он, привыкший поститься на хлебе и воде, мог охотно полакомиться сахаром; на что тот ответил с безмятежным лицом: «Я делаю то, что приказано».
В другой раз отец-генерал распорядился, чтобы один инок велел Иосифу снять свои старые верхние и нижние одежды, дабы отдать их Её высочеству Принцессе Савойской (Мария Аполлония Савойская (1594-1656), дочь Карла Эммануила I и Каталины-Микаэлы Австрийской, францисканская терциарка, прозванная за частые благочестивые поездки «царственной паломницей», досточтимая Церкви. – прим. пер.), глубоко почитавшей блаженного, которая с этой целью уже приготовила новые одежды для него. Сначала Иосиф воспротивился, не будучи осведомлён о начальственном предписании, а когда узнал о нём, тотчас же снял с себя рясу с капюшоном и остальные одеяния, сказав: «Из послушания я готов отдать тебе не только одеяния и сорочку, но, если хочешь, заодно мышцы и кожу».
Помимо того при других обстоятельствах он говаривал, что из послушания войдёт в горящую печь и будет верить, что благодаря оной добродетели выйдет из неё невредимым.
[67] Поэтому, стараясь также всем другим привить любовь и стремление к послушанию, он много восхвалял её достоинства, называя то «ножом, что убивает человеческое своеволие, принося его в жертву Богу»; то «колесницей, на котором удобнее всего добираться до рая»; то «собакой, служащей поводырём слепому». «Святое послушание! – восклицал он порой. – Ах, святое послушание, его сам Бог чествует!»
В самом деле, ни удар, ни железо, ни огонь не могли вывести его из экстаза, но, будучи призван во имя послушания, он немедля приходил в чувства. Когда же его в связи с этим спросили, каким образом так получается, он ответил, что хотя сам он и не слышал голоса настоятеля, зато Бог, любящий послушание, желая, чтобы он немедленно повиновался, в тот самый миг отнял видение». Ещё он приводил в связи с этим упомянутое выше изящное сравнение. «Если, восхитив душу, – говаривал он, – Бог поднимает пред нею завесу и показывает ей как бы большую сокровищницу, наполненную многими прекрасными и неописуемыми райскими вещами, то, – добавлял он, – по гласу послушания Господь Бог завесу тут же опускает и даёт душе свободно исполнять свои обязанности».
[68] Столь великим было послушание блаженного, что Бог соделал его страхом для бесов и даже бессловесных животных заставлял усердно повиноваться ему.
Например, когда настоятель посылал его отчитывать бесноватых, он в силу послушания своего повелевал бесу выйти из тела, молвив: «Я пришёл сюда из послушания, а потому ты должен отсюда удалиться». Иногда он действовал учтивее и [при этом даже] успешнее, когда после прочтения литании Пресвятой Деве говорил: «Я-то сам пришёл сюда не для того, чтобы изгнать тебя из этого тела, а только из послушания; так что, если желаешь выйти, выходи; если не желаешь, поступай, как тебе угодно, а мне довольно того, что я повиновался» – и бес, возмущенный такой манерой обращения ещё более, покидал одержимые тела.
Наконец, однажды он применил другой приём, когда бес рукой одержимой им женщины отвесил вошедшему жуткую оплеуху. Иосиф, упав на колени, но нисколько оттого не смутившись, достал письменный приказ, данный ему настоятелем, и, вложив его в руку одержимой, молвил: «Эй, ты, прими святое послушание». И когда он прочёл, как обычно, литанию Пресвятой Деве, бес, не вынесши столь замечательного послушания блаженного нашего, немедля покинул одержимое тело.
[69] Удивительно было также наблюдать, как обделённые разумом животные с величайшей готовностью слушались его.
Коноплянка, которой он часто говорил «Славь Бога», прославляла Его своей песней при любом мановении блаженного и по его же приказанию немедля прекращала.
Отпуская на волю щегла, Иосиф молвил ему: «Ступай, наслаждайся тем, что Бог дал тебе! Ну а я ничего другого не хочу от тебя, кроме того, чтобы, когда позову, ты вернулся прославить со мной Бога твоего и моего». Повиновавшись этим словам, птичка улетела в ближайший сад, а по призыву бл. Иосифа тотчас же вернулась, чтобы воспевать вместе с ним хвалу Творцу.
Коршун убил другого щегла, очень дорогого блаженному за то, что, наученный им, часто повторял: «Иисусе-Мария! Брат Иосиф, часы читай!». Увидав святого и заслышав оклик, хищник тут же подлетел, а святой стал бранить его такими словами: «Ах, негодник, ты убил моего щегла! Ты заслужил, чтобы я убил тебя!» Словно бы раскаиваясь в содеянном, коршун всё сидел над клеткой, пока Иосиф, шлёпнув его ладонью, не сказал: «Убирайся отсюда; я прощаю тебя; но больше так не делай!»
Барана укусила бешеная собака, и он взбесился, поэтому его держали взаперти в какой-то ограде, чтобы никому не причинил вреда. Туда-то случайно и вошел слуга Божий, и когда ему посоветовали остерегаться этого животного, ответил, что уповает на Бога, а затем, повернувшись к барану и погладив его рукой, сказал: «Дурачок, что ты здесь делаешь? Возвращайся к своим овцам!» И когда его по велению блаженного освободили, он тотчас же стал здоров и кроток и, побежав прочь, вернулся к своему стаду.
[70] Столь же чудесным было послушание одной белой ярочки, которую Иосиф послал к копертинским клариссинкам, как бы присматривать за соблюдением устава. И в самом деле, она была всегда первая во всех своих обязанностях: умеренная в еде и в хоре спокойная, она занималась лишь тем, что будила какую-нибудь засоню, толкнувши или потёршись о неё, либо у иной отрывала суетное украшение своими копытцами и зубами. Когда она умерла, блаженный обещал, что пошлёт к тем же преподобным девам птичку, которая будет вдохновлять их к славословию Божию, что и случилось. Ведь в самом деле, во время службы на окно в хорах села одинокая птица (ср. Пс. 101:8) и сладко там защебетала. И на этом знамение не остановилось, ведь та самая птаха, заметив двух послушниц в ссоре впорхнула меж ними и, растопырив, сколько могла, крылья и коготки, старалась разделить их и успокоить, но когда одна из них нехорошо восприняла это и отогнала её, улетела и более не возвращалась, хотя прожила в том доме уже около пяти лет. Инокини, огорчённые этим, обратились к Иосифу, а он им ответил: «Поделом вам; зачем вы оскорбление ей нанесли и прогнали? Она больше не хочет сюда возвращаться».
[71] Тем не менее, тронутый их мольбами, он пообещал снова послать её. С первым ударом колокола, созывавшего на службу в хоры, птаха вернулась и не только щебетала на окне, но залетела в монастырь, став ещё более ручной, чем прежде. Потом возник новый повод подивиться: дело в том, что монахини ради забавы привязали пичуге на лапку колокольчик, и вот, в четверг и пятницу Страстной недели её было не видать; в связи с чем они вновь обратились к Иосифу и получили ответ: «Я-то послал её к вам, чтобы пела, а не чтобы шумела; она не прилетала, потому что в эти дни пребывала у Гроба Господня, но я велю ей вернуться». И взаправду птаха вернулась и оставалась там долгое время.
Два зайца в окрестностях обители Гроттелла послушались блаженного, когда он сказал им: «Не уходите далеко от церкви Пресвятой Дева, потому много охотников выслеживает вас». И на своё счастье послушались они его, ибо один из зайцев, гонимый по пятам охотниками, сначала укрылся в церкви, а затем перебежал в обитель, где и запрыгнул Иосифу на руки. Тогда он молвил ему: «Разве я не говорил тебе не отходить далеко от церкви, чтобы не лишиться шкуры?» И спас его от охотников, которые просили отдать им его.
Столь же повезло и другому зайцу, который от преследующих его собак укрылся под рясой бл. Иосифа; а когда немного позже подъехал маркиз Копертинский, возглавлявший охоту, и спросил Иосифа, не видал ли зайца, «Вот, он тут, – ответил блаженный, – только не пугай его больше». Затем молвил зайцу: «Брысь, спрячься под тем кустом и не двигайся!» И заяц послушно замер перед гончими, вызвав у маркиза со свитой неизмеримое изумление таковым знамением.
[72] Однако не только этим даром ознаменовал Бог добродетель блаженного, но обогатил его и другими необычайными способностями.
Хотя, как мы говорили выше, Иосиф был от природы наделён скудными способностями и никогда толком не овладел наукой, лишь кое-как усвоив церковную латынь, зато (по свидетельству кардинала Лаурийского) Богом он был одарён высочайшей мудростью, приводившей в удивление даже изрядно искушённых богословов. Он глубоко проник в смысл Священного Писания, особенно псалмов, а потому говаривал, что не нашел лучшей духовной книги, чем бревиарий, и что извлекал из неё всевозможную пользу. Когда его спрашивали о труднейших тайнах, то есть о Пресвятой Троице, о Воплощении, о предопределении, о действии благодати, об оправдании и о других подобных вещах, он тотчас же с оживлением отвечал возвышенным учением и разъяснял трудности, отмечаемые даже самыми учёными мужами, а на примерах из вещественных явлений так ясно отвечал вопрошающим, что мог убедить всякого. Поэтому один из множества учёных иноков, убедившихся в этом на опыте, сказал: «Он знает больше, чем я», другой: «Теперь-то доводится мне узнать новое и хорошее богословие»; те утверждали «Я больше узнал в беседах с отцом Иосифом, чем за всё время своей учёбы», эти «Иосиф так возвышенно говорил о богословии, как не смогли бы первейшие богословы всего мира»; словом, все свидетельствовали: «Святой Дух просиял в Иосифе дарами мудрость, ведения и разума».
[73] К небесному свету мудрости, в коем Иосиф постигал самые сокровенные тайны нашей веры, присоединился иной свет, в котором блаженный отчётливо узнавал чужие мысли, а также отдалённые и скрытые события.
Прежде всего, встречая любого, у кого душа была заражена грехом, он молвил: «Поди умойся; у тебя лицо запачкано чернилами!»; или: «Почини лук», под каковыми словами он подразумевал совесть, как уже было сказано. Если кто тогда говорил ему, что никакого греха не припоминает, он сообщал время, место и способ, коим тот согрешил; если же возвращался к нему после исповеди, блаженный ласково молвил: «Ах, вот и поправился!» Мало того, он узнавал о проступках тех, кого даже не видел. Одного из таких, постучавшегося к нему в дверь, он попросил: «Сходи сначала исповедуйся, потом вернись и войди». Не иначе бывало и тогда, когда он исполнял обязанности исповедника. Некая женщина зачитала всю свою исповедь, которую заранее подготовила, и уже завершала было словами, что, мол, больше грехов за собою не знает, как блаженный возразил: «Исповедайся в том помысле, с которым согласилась тогда-то и там-то», - причём, как было установлено по свидетельству той женщины, она действительно согласилась [тогда с помыслом своим].
[74] Так же и послушнику, который по его совету написал генеральную исповедь, он молвил: «Сын мой, ты здесь неточно сказал, ведь это произошло не так, как ты написал, а так-то и так-то». Точно так же он всем новоначальным открывал их внутренние недостатки в какой-нибудь беседе, так что все они поражались.
Кроме того, любой, кто читал вместе с ним Часы, либо литании, либо розарий, то и дело получал от него замечание, чтобы мысленно не отвлекался внутри. Одному из таковых он говорил: «Оставайся здесь» (мыслями, то есть), второму – более ясно: «Ты прочёл «Отче наш», постоянно отвлекаясь». Другому, наконец, который до наступлении ночи ещё не прочитал дневные Часы, он молвил: «Где Служба часов? Бревиарий вопиет против тебя!» (ср. Быт. 4:9-10). Поэтому, как пишут, все, имевшие с ним дело, если совесть их была нечиста либо обуревали их дурные страсти, чувствовали себя при нём весьма неловко.
А как он выявлял недостатки, так и добрые дела других обнаруживал. Когда из церкви выходила женщина по имени Елизавета, поблагодарил её за молитву «Славься, Царица», которую она читала за него (и это действительно было так). Равным образом и некоей терциарке, опасавшейся поделиться с ним какими-то сомнениями относительно своего духовного развития, молвил: «Кого боишься-то? Смело говори, в чём дело!», - и тотчас же, предвосхитив её рассказ, изложил всё, что она сама хотела поведать. В другое время он ей то и дело говаривал: «Ты вчера вечером бичевала себя», «Ты упражнялась в таком-то покаянном подвиге», «У тебя был такой-то помысел», «На будущее делай то-то, а то-то оставь».
[75] Подобным же образом он сообщил кардиналу Рапаччоли, епископу Терни, что тот хорошо провёл время в затворе. В другой раз тот же кардинал изложил многие душевные сомнения, которые сильно его волновали, в письме, собираясь передать его Иосифу и попросить совета, но как раз в то время, как он вручал с этой целью послание секретарю, получил от него письмо Иосифа, где к огромному своему изумлению нашёл желанный ответ по каждому пункту.
Некий инок, не перемолвившись с Иосифом ни словом, получил через своего товарища ответ на всё, о чём собирался посоветоваться с ним; а другому, сокрушавшемуся о том, что не вступил в более строгий орден, Иосиф при встрече, исполненный радости, молвил: «Что такое? Отчего унываешь? Разве ты не можешь делать то же, что отцы-реформаты? Так давай, живи радостно в том ордене, где дал обеты».
[76] И не было ни единого помысла, пускай бы даже сокровеннейшего и в глубине души заключённого, к которому бы слуга Божий не проник великим своим светом.
Некоему послушнику, который во время пения Третьего часа помыслил о саде и фруктах, блаженный ласково попенял за рассеянность ума, повторив ему внутренние его голоса: «Вот бы забраться сегодня на ту смоковницу в лесу; ну и наемся же я смокв!»
Когда спутник его, мирской брат О., что нёс во время пути Иосифова щегла, стал перебирать в уме различных особ, рассуждая, кому из них блаженный подарит его, тот неожиданно обратился к нему и молвил: «Я не хочу дарить эту птичку никому из тех, о ком ты помыслил, но хочу дать ей свободу», – и, отворив клетку, выпустил щегла.
Пространственная отдалённость тоже отнюдь не мешала проникновенности его света.
Некий слуга по приказу своей госпожи, охваченной жесточайшими муками, ночью отправился за Иосифом, и тут святой, который прежде не виделся с ним и не узнавал от него о причине его прихода, выйдя из церкви в Гроттелле, где проводил время в молитвах, сказал ему: «Сыне, возвращайся домой, ибо муки уже прекратились, и госпожа твоя исцелилась».
[77] Однажды в вечернюю пору, разговаривая в Гроттелле с отцом-гвардианом, он внезапно воскликнул: «Ой, какая вонь! Адская!» Хотя гвардиан ничего не почуял, Иосиф, который обонял смрад и знал причину его, попросив и получив разрешение, немедленно отправиться в Копертино, поспешно явился туда и, подойдя прямиком к одному дому, долго стучал в дверь, пока ему отворили. И, быстро поднявшись по ступеням лестницы, он застал ведьмаков и ведьм (veneficus означает, прежде всего «отравитель», а уж затем «чародей». – прим. пер.), занятых изготовлением мазей и масел, часть из которых уже была разлита по сосудам, а иные ещё варились. Посему, воспылав святым негодованием, он прихваченной загодя жердью поразбивал вдребезги всю утварь, причём казался так страшен, что все эти отравители, перепугавшись, стремглав обратились в бегство.
Подобным образом, проживая в другом месте, он провидел то выздоровление одних тяжелобольных, то смерть других, проживавших в том городе; в частности – смерть двух Верховных понтификов, Урбана VIII и Иннокентия X, постигшую обоих именно в то время, что он предсказал.
Я мог бы привести здесь с сотню примеров и других такого рода событий, которые были ему ведомы (как утверждали под присягой в высшей степени достойные веры свидетели), несмотря на полнейшую тайну и отдалённость в пространстве и времени, – так вот я мог бы, повторяю, рассказать о них здесь, но ради краткости воздержусь. Довольно знать, что если так изумлял его свет познания тайн настоящего и прошлого, то не менее дивен был он и в предвидении будущего.
[78] Что касается самого себя, то он предсказал весь ход своей жизни почти до мелочей, относительно же других можно привести бесчисленное множество примеров, поэтому достаточно упомянуть лишь несколько.
Когда некая мать привела к нему двух своих сыновей, чтобы он благословил их, прежде чем они отправятся в Рим, чтобы выучиться там и получить докторскую степень, Иосиф ответил: «Что доктора́! Вот в раю доктора́!»; и действительно, оба умерли в течение короткого времени.
Знатный польский юноша просил совета, что ему лучше: жениться или принять церковный сан; на что блаженный ответил: «Ни то, ни другое»; и через несколько месяцев он, ни женатым человеком, ни священником, покинул мир живых.
Другой, тяжко хворая, просил молитв его, дабы выжить и иметь возможность обеспечить свою жену, отца и мать. А наш блаженный воскликнул: «Что жена, отец и мать! Сынок, тебе терпение нужно; Бог призывает тебя. Рай, рай, как это прекрасно – рай!» Предсказание подтвердилось: больной выздоровел было, но через несколько месяцев неожиданно скончался.
Подобным образом он также многим иным предвещал смерть со всеми сопутствующими обстоятельствами, а иным, уже обессиленным хворью, предсказывал благополучное выздоровление.
[79] Не менее верным оказалось и высказанное им предсказание об обращении одной суетной и блудной женщины, ибо, увидев её, он сказал окружающим: «Вот Магдалина»; а затем, обратившись к ней, молвил: «Бог призывает тебя; оставь суетный образ жизни и возлюби Бога, Магдалина!», – что она и исполнила в точности и, обратившись к Богу, приняла имя Магдалины.
Также сбылось и его предсказание относительно священства некоего нотариуса, который, воспротивившись поначалу его увещаниям, испытал предсказанные им неприятности; затем он облёкся в церковный сан, но, лишившись наследства, отчаялся было в получении священнической должности, а Иосиф сказал ему: «Не падай духом, ибо со временем Бог позаботится о тебе» – и он получил наследство от некоей особы, от кого меньше всего этого ожидал; и таким образом изведал на себе исполнение трёх предсказаний.
Кроме того, он предсказал сдачу Порто-Лононе (ныне г. Порто-Адзурро на о. Эльба. – прим. пер.), осаждённого войсками Католического короля в 1649 году, в праздник Успения Пресвятой Девы Марии задолго до того, как она произошла.
Некоторым бесплодным он предсказывал плодовитость, иным – потомство мужского пола; и провидцем оказывался истинным.
[80] Некоему знаменитому учёному из Ассизи, который часто просил молитв о даровании ему потомства мужского пола и тут снова обратится с просьбой помолиться за его жену, которая крайне мучилась от родовых схваток, Иосиф пообещал, что она не подвергнется ни малейшей опасности. И затем, когда учёный удалился, к блаженному подошёл знакомый инок, которому тот озорно поведал: «Нынче вечером у этого доктора родится сын, но я не хотел говорить об этом ему самому, чтобы не сказали, будто я строю из себя пророка».
Но сущую уйму предсказаний, причём сверх меры удивительных и благоприятных, он высказал относительно некоего брака. Он послал поздравления отцу одной девицы на выданье по случаю предстоящего заключения брака дочери, но тот, хоть и благодарный за оный знак любезности, ответил, что из-за разногласий сторон до свадьбы ещё весьма далеко. На что бл. Иосиф, улыбнувшись, возразил: «Что?! Что… если он (жених) рожден для неё? Этот брак предопределён на небесах и скоро будет заключён на земле». Затем после заключения брака мать невесты, не знаю почему, испугавшись, что обручение состоялось не без приворота, но никому не высказав своих подозрений, велела попросить Иосифа отслужить мессу в её намерении.
[81] Но слуга Божий в посланном ей ответе велел не смущаться, а, распорядившись отслужить мессу против ворожбы своему приходскому священнику (поскольку сам он худо себя чувствует), обручить тем временем молодых. Также он пообещал им потомство мужского пола. Поражённая сим ответом и обрадованная обещанием рождения мальчика, женщина молила Иосифа, когда придёт время, стать восприемником чада из священной купели, но вновь велел ей передать: «Подыщи кого получше, потому как меня тогда уже не будет в живых». Что ж, говорил он тогда почти сплошь пророчествами, подтвердившимися на деле.
Подобным образом о крепком молодом человеке, уже готовом отправиться на войну, блаженный молвил: «Он не пойдёт», и он не отправился на войну. Так же он сказал иноку, направляемому на миссию в Конго: «Ты не пойдёшь», и он не пошёл. Так же и другому иноку, направляемому на учёбу в Перуджу, он безмятежно поведал: «В Урбино тоже хорошо», и его не послали в Перуджу, а в Урбино. Если он говорил, что чего-то не случится, того в будущем точно не случалось; и напротив, всё, что он вещим духом своим предсказывал, действительно происходило.
[82] Он предсказал епископство отцу Рафаэлю Пальме, кустоду ассизского Сакро-Конвенто, молвив: «Ух, какая красивая голова! Как подойдёт тебе митра!», и тот получил епископский сан. Николаю Альбергати, который впоследствии назвался Людовиком, Антонию Бики, епископу Озимскому и отцу Лаврентию Лаурийскому он предсказал кардинальство; и все они его получили. Он пророчил польский престол Яну Казимиру, и тот взошёл на него. Кардиналу Бенедикту Одескальки, тогдашнему легату в Ферраре (который впоследствии стал папой Иннокентием XI), он предсказал прибытие обильного груза хлеба, о чём тот мог только мечтать, желая облегчить нужду в упомянутом городе; и хлеб прибыл в обилии. Он предвещал двум отцам-гвардианам ассизского Сакро-Конвенто, что сей священной обители будет оказана помощь в крайней нужде её, и помощь пришла в изобилии. Иноку, надеявшемуся на какую-то милость от новоизбранного отца-генерала, он предрёк, что она будет ему оказана, но много лет позднее и другим генералом; и именно тогда он её и получил. Да и другим, коим несть числа, что бы ни предвещал он, всё для всех и со всеми мельчайшими подробностями сопутствующих обстоятельств оказывалось верно.
[83] Неудивительно, что такого рода душа, каковая была у Иосифа, которая, хоть и связанная чувствами, всегда размышляла над возвышенными небесными предметами, обрела оный великий свет свыше – но не реже [, чем пророчествами,] удостаивалась она чрезвычайной чести небесных явлений. Ему являлись многие из святых и рассуждали с ним о небесах; ангелы представали ему в видимом облике и доставляли небесные утешения; и сам Христос являлся ему в образе прелестного дитяти то в освященной гостии, то и в других местах, и возлежал на его руках, и нежными словами да ласками, исполненными любви, наполнял его неописуемой сладостью.
И не только ему одному Бог изволил показать сии чувственные знаки Своей необычайной дружбы с ним, но и открыть это многим другим. Поэтому стало так, что в день, когда Иосиф прибыл в Ассизи, некая выдающаяся раба Божия увидела, что он входит в сопутствии двух ангелов. Другая узнала из откровения, что для охранения Иосифа был направлен ангел из высших хоров ангельских, причём блаженный так почитал его, что никогда не входил в свою келлию, не пригласив его войти первым. Той же досточтимой рабе Божией душа его часто виделась то в груди Иисуса Христа, то на вершине высочайшей горы, что означала гору совершенства.
[84] Однако чуть ли даже не яснее, чем в свидетельствах друзей Божиих, святость Иосифа выявилась в признании злейшего врага святости, сиречь диавола. Так молвил бес одному иноку-экзорцисту, который наложил на одержимого верёвку, благословлённую блаженным: «Если бы ты узнал добродетель оного брата и сколь угодна душа его Богу, изумился бы. Причём я говорю сие не добровольно – то Бог заставляет меня так говорить. Оный брат – самый опасный враг, какой у нас есть».
И не зря преисподние духи всегда считали его своим врагом. Однажды ночью в Ассизи слуга Божий пребывал в церкви, предаваясь молитве у алтаря св. Франциска, как вдруг услышал, как с грохотом распахнулись двери, и вошёл человек, ноги которого, казалось, были окованы железом. Потом, внимательно присмотревшись, блаженный заметил, что по мере приближения человека лампады гасли одна за другой, пока все не погасли и он не остался с ним наедине в темноте. И тут же бес, принявший сей облик, яростно кинулся на Иосифа и, повалив его наземь, крепко сдавил ему горло рукой, намереваясь задушить. Но когда святой призвал своего Серафического отца, увидел, что тот как бы выходит из гробницы и обратно зажигает все лампады пылающей свечой. При виде сего света адский враг немедля исчез из глаз. После того случая Иосиф постоянно величал святого Франциска «лампадарем Церкви».
[85] Равно напрасны были усилия диавола, когда, намереваясь утопить блаженного, он сбросил его в речной поток; когда, схватив его, пытался разорвать на куски, и когда напал на него, грозя пронзить его мечом. К тому же, хотя ему часто попускалось бить его и круглые сутки нападать на него, причём так жутко, что звуки толчков и грохот цепей терзали прочих иноков состраданием, однако не смог бес ослабить неодолимое терпение Иосифа, считавшего нанесённые ему удары забавой, а на вопрос, что означали те странные шумы в его келлии, уклончиво ответил: «Позабавились малость».
Так что диавол в непримиримой ненависти своей не добился ничего иного, кроме того, что против собственной воли дал неопровержимое свидетельство возвышенной святости бл. Иосифа. Более того, Бог, попустивший такие бесовские наваждения, дабы сама преисподняя снабдила слугу Его поводом к ещё большей заслуге и ещё паче возвышенной славе, помимо уже упомянутых милостей, уже здесь, на земле, как бы одолжил ему всемогущую десницу Свою, дабы вершить знамения он мог так легко, что жизнь его стала, по праву можно сказать, непрерывною вереницей чудес.
[86] Мы по ходу рассказа уже перечислили многие из них в связи с той или иной добродетелью, с которой они были связаны, и много ещё осталось, что стоит здесь упомянуть, но чтобы не растягивать повествование, достаточно сказать, что в руках бл. Иосифа либо по слову его обильно умножались хлеб, вино, мёд и другие подобные вещи; расслабленные и парализованные в мгновение ока вставали на ноги, поцеловав распятье, которое он им подавал; от простого прикосновения зрение полностью возвращалось к почти ослепшим по причине недуга, а к другим, совершенно слепым, – от наложения его биретты или записки; одним лишь крестным знамением он внезапно исцелял бесчисленные множества больных лихорадкой, а умиравших чуть ли не возвращал в последний миг от смерти к жизни.
Тем не менее, небезынтересно будет послушать описания трёх самых чудесных и в то же время самых занимательных знамений.
Некий знатный неаполитанец, не знаю, каким движимый духом, дерзко ворвался в келлию бл. Иосифа и молвил ему: «Лицемер и греховодник! Я почитаю не тебя лично, а иноческое облачение, которое ты носишь, а потому уповаю, что если ты перекрестишь мне рану, она заживёт». Сказав это, он обнажил свою рану. Иосиф же сначала рассмеялся, а затем с радостным и одновременно смиренным выражением лица ответил: «Правду говоришь», - и перекрестил рану, которая зажила в тот же миг.
[87] Дар билокации (досл. «телесное удвоение» – corporis geminatio. – прим. пер.) – редко отмечаемое явление – был уделён нашему блаженному Копертинцу дважды. Октавио Пиччинно из Копертино, прозываемый «Падре», старый уже и лишённый сил, умолял Иосифа, жившего тогда в обители Гроттелла, поддержать его при смерти, на что тот пообещал, что исполнит просьбу, молвив: «Да, я приду поддержать тебя, хотя буду тогда в Риме». Обещание оказалось пророчеством, причём пророчеством, соединенным с великим чудом. Ибо Иосиф был в Риме, когда старик заболел, а с наступлением предсмертных мук блаженный внезапно нагрянул, чтобы поддержать его; причём видели его многие, а прежде всех сестра-терциарка Тереза Фатали, которая даже переговорила с ним, когда, увидев его, молвила в полном изумлении: «Брат Иосиф, каким образом ты оказался здесь?» А он ответил: «Чтобы предать Богу душу Падре», - и тут же исчез из виду.
Подобно тому, когда он жил в Ассизи, явился в Копертино при предсмертных муках своей матери, которая, жаждая увидеть его тогда, скорбно восклицала: «О брат Иосиф мой, не увижу я больше тебя!» Тут, однако, явился великий свет, который озарил всю комнату, а умирающая, узрев его наконец, снова в полноте радости вскрикнула: «О брат Иосиф, сын мой!»
[88] В то самое время ассизский блаженный с плачем шёл из своей келлии на молитву в церковь и встретил по дороге отца-кустода, которому на вопрос о причине таковой печали ответил: «Матушка моя, бедняжка, только что умерла», - истинность чего была установлена как из письма, присланного тогда из Купертино в Ассизи, так и из слов знакомых озиманцев, которые прибыли позже и засвидетельствовали, что святой находился рядом со своей умирающей матерью.
Поразительным, наконец, было знамение, которое он сотворил в Копертино. Когда ужасный град погубил почти всех овец той деревни, тамошние пастухи сбежались к бл. Иосифу Флавию молить о помощи. Увидев их слёзы, он проникся жалостью, и поспешно отправился вместе с ними на поле, где, возведя дух свой к Богу, поднимал каждую мертвую овцу с земли со словами: «Встань во имя Божие», - и тут же все они, в самом дели вернувшись к жизни, внезапно повставали к столь великому изумлению пастухов, что им не хватило сил даже поблагодарить заступника своего, так их облагодетельствовавшего.
[89] Неудивительно поэтому, что муж, украшенный такими замечательными добродетелями и столь многими прославленный дарами, привлекал к себе людей, где бы ни жил, а также вызывал у благочестивых сообществ мирян желание записывать его в свои члены (как поступили почтенное архибратство св. Антония Падуанского в Риме и прославленное братство св. Стефана в Ассизи), так как все почитали за счастье возможность познакомиться с ним и пообщаться.
Лицо его было так мило, речь так любезна, обхождение так дружелюбно, что он всех покорил. Его посещали не только люди среднего уровня, но и многие особы первого ранга, причём все с искренним почтением величали его «Святым братом». Помимо уже упомянутых высокопреосвященных кардиналов Факкинетти, Людовизи, Рапаччоли и Одескальки, с восхищением признавали святость его кардиналы Донги, Паллотта, Вероспи, Палуцци, Саккетти и другие, причём никто из них никогда не ушёл от него без величайшего утешения от познания его добродетели, от святейшего назидания, от вида экстаза и восхищения да прочих чудесных богатств духа его.
[90] Леопольд, принц Тосканский, впоследствии назначенный кардиналом, также прибыл в Ассизи в числе тех, единственной целью кого было повидать Иосифа. И вот, когда отец-кустод промолвил несколько слов в похвалу Св. Деве Марии, князь этот увидел святого в экстатическом восхищении, причём взгляд его был обращён к некоему образу Пресвятой Девы, а тело находилось в таком же положении, в каком изображают св. Франциска при получении священных стигматов.
Из Италии, где он был наиболее известен, молва о нём проникла в Германию, Францию, Польшу и другие страны. Поэтому не только вышеупомянутый принц Брауншвейгский и адмирал Кастилии, но и многие другие князья и знатные мужи приезжали в Ассизи, чтобы увидеть святого человека, где убеждались, что действительность превосходит молву. Туда приезжали навестить его из Франции – герцог Буйон; из Австрии – Изабелла, герцогиня Мантуанская; из Польши – князья Радзвилл и Любомирский с жёнами, князь Замойский и прочие магнаты, и часто – королевич князь Ян Казимир, которого Иосиф, услышав от него о желании принять монашество, убедил не вступать в послушники ни к кому, кроме иезуитов, потому что со временем ему придётся возвратиться в мир, а из другого ордена выйти нельзя.
[91] Помимо того в другой раз он посоветовал ему же прекратить просьбы о священном сане, пообещав, что Бог позднее явственно покажет ему Свою волю. Действительно, позднее, уже будучи назначен Иннокентием X кардиналом, после смерти своего брата Владислава, он был наконец избран королем Польши. Поэтому Иосиф, увидев его одетым в светское платье, когда он, направляясь из Рима в своё королевство, проезжал Ассизи, улыбнулся ему и молвил: «А что я тебе говорил?! Ступай, так ты принесёшь больше пользы христианскому государству, чем в иночестве». Весьма ободрённый этими словами, король уехал. Поскольку же для него была очевидна необычайная святость бл. Иосифа, он часто обсуждал с ним в переписке свои сложности и получал полезные советы не только в ответ на заданные вопросы, но относительно других относящихся к Польше затруднений, которые бл. Иосиф заранее предвидел.
Однако одну знатную даму, которая наряду с другими навестила блаженного (но из чистого любопытства – в надежде застать его в восхищении духа), постигло сильное разочарование. Ведь в то самое время, когда она предстала перед ним последней из всех, намереваясь сказать, как было уговорено: «Иисус-Мария!» (вероятно, рассчитывая, что при звуке святых имён Иосиф придёт в экстаз. – прим. пер.), услышала такие неприветливые слова: «И что? Пришла из любопытства? Не знаешь, что Бог может творить чудеса с помощью этой колоды? Уходи, Бога ради!»
[92] Отнюдь не так он принял часто здесь упоминаемую принцессу Марию Савойскую, дочь Карла Эммануила, герцога Савойского, и Екатерины Австрийской. Сия прославленная княжна, с юных лет необычайно приверженная благочестию (а впоследствии облачённая отцом-магистром Франческо Анджело Каваллари из Ордена меньших братьев конвентуальных и в то время бывшим гвардианом туринской обители св. Франциска в облачение Третьего Ордена Св. Франциска), осмотрев святые места Италии, прибыла в Ассизи и, побеседовав там с Иосифом, оказалась под таким впечатлением от его святости, что долгая разлука с ним казалась ей теперь тягостной. По этой причине она провела много дней в Ривоторто, местечке недалеко от города, и примерно на месяц остановилась в Перудже, откуда еженедельно то и дело наезжала в Ассизи и разговаривала с бл. Иосифом о своей духовной жизни, проводя целые дни в святой беседе с ним. Благоговение её перед слугой Божиим постоянно возрастало по причине чудес, которых она была свидетельницей, а часто даже участницей.
[93] Она была глуховата, и поэтому чужую речь воспринимала обычно с помощью серебряной трубки, которую приставляла к уху, но речь блаженного она всегда понимала без трубки, причём даже с некоторого отдаления.
Когда она обвила свой палец, который поранила, закрывая дверь, его опоясанием, в тот же миг унялась острейшая боль, мучившая её.
Кроме того, поскольку она часто присутствовал на литургии, когда служил он, то часто с удивлением наблюдала его экстазы и достодивные восхищения. Она видела, как он в своей уединённой часовенке при вознесении освященной гостии сам вознёсся на три ладони над землею; а в часовенке Святого Покрова Богородицы (куда она пожертвовала частицу Всесвятого Креста в золотом окладе) часто видела, как во время мессы он приходит в экстаз, а затем, сняв священные облачения, взлетает над алтарем той же часовни и там, преклонив колени, зависает в сладостном восхищении.
Наконец, такой же экстаз она наблюдала даже за трапезой, когда однажды, с разрешения и в присутствии отца-кустода Сакро-Конвенто (о чём чуть ниже), изволила отобедать с блаженным в ризнице верхней церкви.
[94] Итак Иосиф, вынужденный послушанием, поднялся к ней, однако свой обед принёс с собой, сказав, что собирается попотчевать одну бедненькую странницу. Но с начала трапезы он едва успел съесть три ложки, как вдруг, восхищённый в экстазе, пал на колени, раскинув руки и устремив взоры на княжну, которая благоговейно возрадовалась сему зрелищу. Затем, когда она дала знак отцу-гвардиану, чтобы он именем святого послушания призвал его очнуться, блаженный по призыву своего настоятеля пришёл в себя и, склонив голову, немедля направился в келлию, не сказав ничего помимо того, что обычно говаривал в таких случаях: «Да будет сердце мое непорочно.., чтобы я не посрамился» (Пс. 118:80). Позднее на вопрос некоего инока об обстоятельствах этого случая он ответил: «У нас две святые Клары: одна всё еще живёт на земле, а другая – на небе», - и добавил, что, увидев на лице её великое сияние, не мог устоять перед ним, и потому внезапно опустился на колени. Столь высоко он поставил святость княжны, надо понимать, лишь с той целью, чтобы остроумной уловкой скрыть свою собственную.
[95] То, что столь прославленный на земле и прославленный свыше Иосиф сохранял глубочайшее смирение, было, безусловно, куда удивительнее самой его святости, Богом вдохновлённой и людьми так высоко чтимой. Мало того, что блаженный ни разу не произнес ни единого хвастливого слова, так он ещё всегда считал себя чуть ли не гнуснейшим человеком на свете, называя себя то «мертвецом, ни на что не годным», то «братом ослом», то «злейшим и самым отвратительным грешником среди всех людей». Порой даже молвил: «Если и есть во мне что доброе, всё то от Бога, ведь Он всегда творит великое чрез величайших грешников». Он только диву давался, что народ и князья стекаются к нему, и приговаривал: «Я, право, в толк не возьму, чего эти люди идут ко мне, идиоту и бедному грешнику». Поэтому после всякого сколько-нибудь важного дела и после приёма особ вельможных он падал на колени и, облобызав землю, повторял: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу» (Пс. 113:9), - и часто ударял себя в грудь, а иногда даже стенал от скорби, которую вызывал у него приход такого рода особ.
[96] Такое до чрезвычайности низкое мнение о себе он не только выражал в словах, но и подтверждал поступками. Ибо смирился он не только перед вышестоящими, но и перед подчинёнными; радостно выполнял самые грубые работы; изо всех сил избегал похвал; с удовольствием принимал оскорбления и презрение к себе, что однажды проявилось особенно ясно.
Ибо, когда он в своей келлии весьма увлечённо разбирал духовные вопросы с каким-то монахом, его духовник, внезапно вошёл туда и, желая испытать смирение его, серьёзным тоном и с притворным презрением молвил ему: «Что ты такое мелешь, лицемер?!» На что Иосиф без тени волнения ответил: «Верно, твоя правда, твоя правда», – и, закрыв лицо обеими ладонями, больше не промолвил ни слова.
Затем, дабы скрыть дары и благодати, полученные от Бога, он, как подтвердил опыт, брал с собой надушенные вещицы и приписывал им то сверхъестественное благоухание, которое источал без каких-либо ароматических умащений – мало того, даже когда носил что-то дурнопахнущее. А экстазы свои и восторги он называл дремотой, обмороком, помутнением ума, утратой сил или ещё чем-нибудь в этом роде.
[97] Часто бывало и так, что, чувствуя по внутреннему приливу близость восхищения или экстаза, он, чтобы не удивлять окружающих, говорил вслух: «Довольно, довольно, стой, стой; больше не надо!» – и даже молил Бога полностью лишить его этих небесных утех.
Кроме того, его смирение проявлялось в похвалах, которыми он удостаивал других, и в наставлениях, которые он часто уделял, прежде всего, послушникам, в таковых словах: «Некоторые из вас станут проповедниками, но не превозноситесь; ибо проповедник подобен трубе, которая не зазвучит сама по себе, если в неё не подуют, поэтому, прежде чем приступить к проповеди, подобает так обратиться к Богу: «Ты –дух, Я – труба, которая без Твоего дыхания не издаст ни звука!»
А одному мальчонке он в унижение себе сказал нечто совсем иное. Ибо пришлось Иосифу из послушания навестить дом некоей копертинской терциарки, и как раз зашла тогда к ней другая терциарка, приведя с собой мальчонку лет трёх, которого Иосиф, приласкав, поставил на табуретку и стал говорить ему: «Малыш мой, повторяй, как я говорю: «Брат Иосиф – великий грешник, и когда умрёт, попадёт в ад».
[98] Однако мальчонка, который едва мог издавать членораздельные звуки, не говоря уже о понимании их смысла, ответил ясными и отчетливыми словами: «Брат Иосиф – великий святой, и когда умрет, попадёт в рай». Тогда блаженный, притворившись разгневанным, возразил: «Но я-то не то говорю; ну-ка повторяй вслед за мной: «Брат Иосиф – великий злодей и т. д.» А мальчик ответил по-прежнему: «Брат Иосиф – великий святой и т. д.», по каковой причине блаженный, ещё паче огорчившись, дёрнул его за уши и за волосы, молвив: «Не хочешь сказать, что я говорю?», - и снова настаивал, чтобы тот вслед за ним твердил: «Брат Иосиф – великий злодей, и когда умрёт, попадёт в ад»; мальчик же в третий раз упорно повторил: «Брат Иосиф – великий святой и т. д.», что вызвало у всех присутствовавших слёзы радости, ибо все прекрасно знали, что Бог, как и в других случаях, изволил глаголать устами этого невинного мальчонки, чтобы бл. Иосиф в самом оном самоуничижении обрёл награду и честь.
[99] Между тем, Бог, решив ещё паче прибавить заслуг слуге Своему путём упражнения неодолимого его терпения, попустил, чтобы Верховному понтифику Иннокентию X пришло на ум спрятать блаженного от взоров всех по причине обилия его даров и необычайного вида их, а также потому, что стекались к нему множества людей. Возможно, папа подумал, что так удастся защитить его самого и охранить его святость, столь славную и достодивную.
Итак, он направил письмо от главного управления Священной инквизиции отцу-инквизитору Священной канцелярии Перуджи с повелением перевезти Иосифа из Ассизи в обитель отцов-капуцинов в Пьетраруббиа, расположенную на склоне одной из неприступных гор Карпенья, что в епархии Монтефельтро герцогства Урбино, и 23 июля 1653 года сей приказ был исполнен.
И хотя блаженный давным-давно предвидел благодаря божественному откровению, что ему придется претерпеть этот крест, однако по образу Иисуса (Мф. 26:37) изрядно опечалился, ибо весьма желал оставаться рядом с Серафическим отцом своим вместе с возлюбленными собратьями.
[100] Тем не менее, пав на колени и облобызав ноги отца-инквизитора, он, послушный приказанию настоятеля, вверил себя божественной воле и, поспешно взобравшись в снаряжённую карету, с веселым лицом и сердцем отправился в неведомый путь.
Путешествие было ознаменовано проявлениями его сиятельных добродетелей, а также свойственными ему экстазами и чудесами (ибо он благополучно миновал рвы и пропасти к изумлению своего спутника по экипажу), а по прибытии в Пьетраруббиа он пал в ноги отцу-гвардиану капуцинов, которого сразу узнал, хотя никогда прежде не видал. Инквизитор велел гвардиану следить за тем, чтобы Иосиф не общался ни с кем, кроме отцов-капуцинов, и чтобы ему не дозволялось вести никакой переписки. Блаженный, однако, ни разу не спросив о причине такового распоряжения, благоговейно подчинился настоятелю не только в указанных пределах, но и во всём прочем оказывал ему такое послушание, что без приказания его и шагу не делал. Он неизменно оставался самим собой в умерщвлении плоти, терпении и других добродетелях, и то оплакивал тяжкие страсти Христовы, то весело пел свои обычные духовные песни, а иногда просил и местных иноков попеть их вместе с ним.
[101] А ещё Бог удостоил его там познанием тайных помыслов и укрытых событий, откровением будущего, множеством чудес, явлениями ангелов, святых и самого Иисуса, а также непрестанными экстазами и восхищениями в келлии, в саду и, прежде всего, у алтаря.
И вот, хотя бл. Иосиф, казалось бы, должен был в этих пустынных горах совершенно затеряться, Бог там его ещё явственнее прославил; дошло аж до того, что, поскольку церковь не могла вместить толп народа, страстно желавшего попасть на его мессу, то одни взбирались на крышу здания и разбирали её; другие, тоже стремясь поглядеть, пробивали стену вокруг, а для их удобства около монастыря были построены лачужки и кабаки. По этой причине после трехмесячного пребывания в Пьетраруббиа согласно новому приказанию, присланному из Рима архиепископу Урбинскому, архипресвитер митрополичьей церкви, коему было вверено попечение над этой провинцией ордена, перевёл бл. Иосифа оттуда в обитель Фоссомброне, тоже принадлежавшую отцам-капуцинам.
[102] Поскольку блаженный сознавал, что Бог присутствует повсюду, то бодро отправился в сие новое путешествие, которое сопровождалось частыми, как обычно, экстазами и столь свойственными ему знамениями. Ибо строптивая мулица и норовистый конь, которых предоставили для поездки бл. Иосифа, не терпевшие [прежде] никакого груза, стали послушны окрикам погонщиков; и жутчайший ливень, от которого промокли все остальные, не намочил даже края одежды слуги Божия. Кроме того, его прибытие в вышеупомянутую обитель, как бы её ни скрывали, не осталось незамеченной фоссомбронцами. Поэтому они постоянно домогались у отцов-капуцинов разрешения увидеть Иосифа, а у него настоятельно просили молитв; и порой собиралась такая толпа разгорячённого люда, что, дабы устранить всякую опасность и избежать бесчинств со стороны простонародья, славные иноки и сами не покидали обители, и блаженного в ней прятали. Итак наш многотерпеливый Иосиф жил там, как бы мёртвый для мира, скрытый от взоров всех – даже при служении мессы, для чего ему поставили особый алтарь. По этой причине он здесь с полным правом мог говорить то, что однажды сказал отцу-гвардиану. Ибо тот спросил его вечером, когда он уже отдыхал: «Как у нас тут дела, брат Иосиф?», – на что блаженный весело ответил: «Мертвеца хоронят».
[103] Однако, всё более живя в присутствии лишь одного Бога, он духом своим пребывал на небесах. Ибо, помимо того времени, которое он посвящал делам милосердия по отношению к болящим инокам и исполнению того, что велело ему его совершеннейшее послушание (ведь без разрешения настоятеля он даже не спускался в монастырский сад, хотя это не было воспрещено ему), Иосиф постоянно пребывал с возлюбленным своим Богом. Из ряда экстазов и восхищений, которые он постоянно испытал здесь, подобно как в прочих местах, особенного упоминания заслуживают три. Первый из них случился в монастырском саду: когда некий отец-капуцин заговорил в присутствии Иосифа о великой милости Пресвятой Девы Марии, тот набросился на него с распростертыми объятьями и, свалившись вместе с ним наземь, громко воскликнул, а сбежавшиеся иноки застали Иосифа в неподвижности и вне чувств, в каковом состоянии он провёл полтора часа, а дух его тем временем пребывал на небе.
[104] Второй экстаз случился в том же саду вечером того воскресенья, когда читается евангелие «Я есмь пастырь добрый». Иосиф, увидев там ягнёнка, вознёсся по своему обыкновению от явлений тварных к созерцанию сверхъестественного и небесного, что выразилось в следующем. «Гляньте-ка, – молвил он, ликуя, – овечка!», – и уже собирался ловить, как некий инок схватил её и подал ему на руки. А он, приласкав животное, взял за ноги и возложил себе на плечи. При этом пришёл ему на мысль божественный Пастырь, и помчался он через сад к находившемуся там отцу-гвардиану, радостно восклицая: «Отец-гвардиан, гляди, добрый Пастырь несёт домой овцу!» Затем, вскинув ягнёнка ввысь, сам следом за ним воспарил в воздухе над деревьями и там, склонив колени и раскинув руки, более двух часов оставался в экстазе, сверх меры изумляя присутствовавших там иноков.
Однако ещё более удивительным и неожиданным оказался тот экстаз, который охватил его утренней порою в праздник Пятидесятницы.
[105] Во время служения Мессы, когда произносил он «Сотворитель Дух, приди», божественная любовь преисполнила его сердце таким пылом, что, стремительно отскочив от алтаря, он испустил громоподобный вопль и сотряс часовенку свою с мощностью удара молнии, так что аж все отделения дормитория задрожали, отчего иноки, выбегая оттуда в замешательстве, кричали ошеломлённо: «Землетрясение! Землетрясение!» Но, заглянув в часовню слуги Божия, выяснили, в чём дело, ибо увидели его в экстазе, поглощённого сладостным общением с Утешителем Духом.
В обители Фоссомброне бл. Иосиф провёл около трёх лет с коротким перерывом по случаю капитула провинции ордена, из-за чего по распоряжению Священной канцелярии он был переведён в обитель Монтевеккьо, тоже принадлежавшую отцам-капуцинам, пребывая где, блаженный обрёл величайшее утешение, прежде всего благодаря явлению, которым его почтил, как он выразился, «Святой старец», то есть св. Феликс (из Канталиче, пам. 18 мая. – прим. пер.).
[106] Однако гораздо большей радостью он проникся, когда по его возвращении в обитель Фоссомброне явился ему в одежде скитальца Иисус Христос. Тамошние добрые иноки нежнейше полюбили его и за описанные выше качества, и потому, что на опыте удостоверились в истинности его предсказаний, и потому, что, как они убедились, ему действительно были открыты их тайные помыслы и прочие скрытые явления.
Прежде остальных испытали на себе это некий священник, которому блаженный поведал об искушении, беспокоившем оного во время служения мессы, и послушник, которому он поведал, что мать благословляет его каждый вечер, – и то, и другое произошло на самом деле.
Любили, наконец, его и за наставления. Стоит отметить то из них, которое он уделил одному иноку, спросившему блаженного, знает ли он, что св. Франциск благословил носить с собою Устав его; ибо Иосиф ответил, что это он знает отлично, а ещё и то, что лучше его носить перед собою» (т.е. всегда держать в памяти. – прим. пер.). Поэтому неудивительно, что из-за этих и других подобных [благ, обретаемых в общении со святым], кои я для краткости опущу, сии превосходные иноки, когда им в итоге сообщили о предстоящем отъезде блаженного, скорбь испытали, можно сказать, безутешную.
[107] Верховный понтифик Александр VII, решив, что пришла, наконец, пора восстановить сына своего в Ордене Братьев Меньших Конвентуальных, спросил у начальствующих, в какое место они собираются отправить его. Когда они ответили, что он будет возвращён в ассизский Сакро-Конвенто, куда был прежде определён, подумалось понтифику, что одного св. Франциска оному славному святилищу хватит и не оскудеет образцовыми иноками обитель, где всегда существовала традиция (schola) строгого следования уставу.
Поэтому через несколько дней он велел сообщить им, что желает отправить Иосифа во францисканскую обитель, находящуюся в Озимо – древнем городе Анконской марки, расположенном всего в семи милях от великого святилища Лорето (к тому же епископскую кафедру там занимал его племянник Антоний Бики). Согласно сему пожеланию понтифика (которое хоть и было изложено письменно ещё в 1656 году, но из-за чумы, поразившей тогда ту часть Италии, могло быть исполнено только в следующем году), отец-секретарь Ордена получил приказ осторожно переправить блаженного в означенный город.
[108] Всё это, включая даже время отъезда, наш блаженный заранее знал из божественного откровения, поэтому вечером 6 июля 1657 года в первом часу после заката открыл окно своей келлии и выглянул. Его сподвижник, мирской брат, удивлённый необычным поведением блаженного, спросил его о причине, и тот недвусмысленно ответил, что скоро переселится из этой обители к своим, и что вот-вот явится секретарь Ордена, чтобы забрать его. Позже, во втором часу после заката, прибыл секретарь и, представив отцу-гвардиану приказ, немедля ушёл оттуда в ту же ночь вместе с бл. Иосифом. Ну а благочестивейшие отцы, дабы выразить напоследок великую любовь свою и скорбь, несмотря на ночную пору провожали блаженного большую часть крутого спуска вплоть до ровной дороги, а прежде того с великой заботливостью дали ему два платка– один подложить на спину, другой на грудь, – чтобы он при пешем спуске на равнину не вымок от пота и не простыл. Затем, перед прощаньем, блаженный вернул им платки, причём как только он извлёк их, они заблагоухали сладчайшим ароматом, который распространялся повсюду по пути назад, а по возвращении их наполнил и всю обитель, насельники коей от этого ещё паче затужили о расставании со столь святым мужем.
[109] С другой стороны, радость собратьев Иосифа при встрече была неописуема, да и он, несмотря на свою полнейшую готовность принять волю Божию в любом месте, оказался счастлив вернуться к ним, что сам засвидетельствовал при приближении к первой же по пути обители, что была в Санта-Витториа-делле-Фратте. Его спутники, зная местность с грехом пополам, в ночной темноте сбились с пути, ведущего к вышеупомянутой обители, и бродили туда-сюда по лесу, окружавшему её. Тут блаженный, никогда прежде не бывавший в этом краю, сказал: «В ту сторону, где луна встаёт, – туда надо идти». И отправившись в указанном направлении, путники вскоре увидели монастырскую колокольню.
Когда бл. Иосиф прибыл в обитель, то, услышав, что она основана и воздвигнута святым патриархом Франциском, пал ниц, облобызал землю и возблагодарил Бога за то, что позволяет ему жить и умереть среди своих братьев . Епископ Фоссомброне, который оказался там ночью, испросил себе и всей свите своей благословения от того, кто доселе был великим светильником епархии его, а на следующую ночь, когда блаженный собирался отправиться в путь, предоставил ему одного из своих челядинцев вести лошадь, ибо при поездке по тамошним ухабистым дорогам так было безопаснее.
[110] Тот слуга, стараясь как можно лучше исполнить поручение, одной рукой держал уздечку, а другой – горящую свечу, которая, несмотря сильный ветер чудесным образом ни разу не погасла и даже после многих часов горения нисколько на вид не уменьшилась, и поэтому упомянутый человек всегда потом хранил её как священную реликвию.
Во избежание стечения народа, уже прослышавшего об отъезде святого, путь проложили так, чтобы, неизменно огибая города и замки, двигаться через меньшие деревни и хутора. В одном из них предстала святому бедная баба и стала сетовать на то, что черви попортили и объели дыни, росшие в её огороде, а с них главным образом и кормилось её семейство. Движимый состраданием, бл. Иосиф благословил огород, и в том году дыни на нём уродились как никогда хороши и обильны.
Когда он наконец подъехал к стенам Озимо, ему было велено остановиться за его пределами в каком-нибудь доме до наступления вечера, ибо было решено, что ему следует вступить в названный город вечером.
[111] Между тем, когда блаженный поднялся на крыльцо деревенской хижины и окинул взглядом окрестности, некий благоговейный священник указал ему на видневшийся вдали купол знаменитой лоретской церкви Святой хижины. Всмотревшись в него, Иосиф с изумлением молвил: «Ты не видишь?! Ангелы сходят с небес на Святую хижину и возвращаются!» Сказав же сие и несколько раз повторив, он издал свой обычный крик и слетел вниз к миндальному дереву, преодолев на высоте двенадцати ладоней расстояние в шесть пертик.
Вечером 10 июля 1667 года бл. Иосиф прибыл в обитель своего ордена, где был помещён в отдалённой комнате, имевшей выход в часовню и сад, вместе с келейником, который помогал ему и служил (всё в точности как повелел Верховный понтифик Александр VII), чтобы дела Божии, свершавшиеся чрез него, не вызывали стечений народа.
[112] И вот, в течение всего времени, что Иосиф прожил там, он не разговаривал ни с кем, кроме епископа и его викария, иноков обители, а также, по мере необходимости, с лекарем и хирургом. Он даже никогда не выходил из своих покоев, кроме как ради того, чтобы посетить больного инока и – единственный раз – осмотреть церковь, да и то ночью, за тщательно запертыми дверями. Тем не менее, он был так доволен столь уединённой жизнью, что постоянно говорил: «Живу в городе, но кажется, будто в лесу, нет, в раю обитаю». И, конечно, он по праву мог сказать, что живёт в раю, ведь духом своим то и дело уносился в рай. Хотя одному лишь Богу были ведомы пресладостные экстазы, в коих он наедине общался с Богом, однако многое открывалось и людям.
Их довольно часто наблюдал кардинал Бики, епископ, ибо когда он сидел с ним и беседовал, то бывал свидетелем сцены, как блаженный вдруг резко поднимается со своего места и с согнутыми коленями, разведёнными руками и открытыми глазами совершенно лишается чувств, причём всё время, сколько длился экстаз, по зрачку его ползала муха, однако у него даже веко не дрогнуло.
[113] Свидетелями подобных случаев бывали и вышеупомянутые иноки, которые один раз видели, как святой в своей часовне погружался в такой глубокий экстаз на шесть или семь часов, что его приходилось в келлию переносить, как мертвеца, и даже при этом он не приходил в себя; другой – как он в той же часовне пролетел расстояние в три шага и приблизил уста свои к устам Младенца Иисуса, поставленного на алтаре; а ещё – как, взяв оного Младенца на руки, в счастливом экстазе скакал по своей келлии либо с нежнейшим чувством крепко прижимал его к груди, и та статуэтка не поломалась, хотя была из непрочного воска.
Иногда, наконец, когда он на праздник Рождества Христова сооружал в своей часовне священные Ясли и приглашал всех иноков попеть вместе с ним [колядки], они всякий раз наблюдали, как он в итоге погружается в экстаз. А поскольку он весьма любил образ Младенца Иисуса, нигде так часто, как в Озимо, Иисус не являлся ему в таком виде.
В прочем же остаток жития его в той обители проходил в усердных молитвах, чтении священных книг, благочестивых беседах с иноками и небесных усладах, вкушаемых при ежедневном свершении Жертвы алтарной.
[114] При этом удивительно было то, что по окончании экстаза блаженный продолжал мессу точно с того места, где прерывался, причём облачения на нём оставались в подобающем виде, несмотря на множество разных взлётов, при которых его носило вперед, назад, вверх, вниз, да и во всех направлениях.
Итак, поскольку он всю жизнь свою посвятил Богу, то спал он (всё на тех же своих досках) как бы против воли и единственно по потребности тела; ел совсем мало, причём только постное, и никогда не жаловался на тех, кто пищу ему приносил; более того, промолчал однажды, когда его келейник по какой-то не известной мне причине не давал ему есть целые два дня.
Между тем диавол не переставал искушать блаженного и всячески досаждал ему, чего он, впрочем, ничуть не боялся. «Никакие его попытки, – молвил святой, — мне не страшны, ведь живу-то я с Богом и скрыт от мира». Тем не менее, хотя он жил такой уединенной жизнью и никогда не видел города Озимо, не знал никого из его обитателей, тем не менее, он к великому удивлению всех слушавших его так точно описывал, что происходит в городе, с горожанами, в их домах и семьях, с их делами, как внутренними, так и внешними, будто всё это видел своими глазами.
[115] Поэтому в трудные годины озиманцы обретали много благодеяний и знамений, хотя отнюдь не видели свершителя их. И порою Иосиф [творил чудеса] силою одних лишь слов и молитв: то внезапно разгонял вихри и бурю, сказав: «Во имя Божие – уходите!», то опасные роды благодаря ему благополучно разрешались; иногда же – посредством вещей, которыми он сам пользовался; так один человек освободился от сильного искушения похотью, другие исцелялись от паротитов, тяжёлых и смертельных лихорадок, мучительнейших болей, кровотечений и множества других недугов, перечислять которые можно было бы долго. И не прекращал сиять в нём, но всё время лишь возрастал тот преясный свет, коим он постигал сокровенное и предузнавал будущее, что, конечно, удивляло иноков тех, одному из которых он подробно рассказал обо всем, что случилось с ним в путешествии, а другому попенял, что забыл помолиться за него, как обещал.
[116] Ещё одному [священнику], кого позвали занять место в исповедальне, блаженный предрёк, что одного юношу ему будет крайне трудно склонить к признанию в грехе, который он из-за ложного стыда скрывал на исповеди уже несколько раз. «Поди убей скорпиона», – сказал Иосиф, и духовник понял эти слова, когда после искренней исповеди кающегося заметил, как с его стороны выполз скорпион.
Точно так же [безошибочны были его слова], когда его попросили молиться за крестьянку, смертельно раненную случайным выстрелом из ружья, а он неожиданно заверил [её близких] в том, что она выживет, сказав: «Не умрёт».
Дабы не быть многословным, скажу под конец, как с помощью оного небесного света он узнал, что несколько иноков как-то вечером в один из дней пред Великим постом наведались в гости к родителям, чтобы скромненько попировать вместе с ними. Ибо, когда отец-гвардиан зашёл проведать святого в келлии, тот молвил ему: «Эй, где твои овцы?» Вскоре вернувшись, оные иноки зашли в келлию к слуге Божию, и при их виде он проникся таким ликованием, что, подхватив одного из них под руку, поднял его над землёй, точно лёгкую соломинку, и пронёс вокруг по келлии. Безмерная радость, которую он испытал, увидев, что братья его, избежав всех опасностей, возвратились в монастырь, свидетельствовала о его нежнейшей любви к ним.
[117] Можно ли было бы усомниться, что наградою за столь святую жизнь станет святейшая смерть? Блаженный сам предрёк её, сразу при входе в обитель [Озимо] молвив: «Это покой мой» (Пс. 131:14), – и даже ещё откровеннее заявил, что умрёт в этой обители если не первым из копертинцев, то вторым; и действительно почил там вторым из [тех монахов, что были родом из] Копертино.
Кроме того, он сообщил о близости своей смерти одному иноку, с которым прежде договорился о том, что один другому, кому первому понадобится, поможет при смерти. Когда тот монах возвратился в Озимо, Иосиф молвил ему: «Приехал наконец-то! Что, не хотелось сюда? А не помнишь, как обещал помочь мне при смерти?»
Наконец, предсказал он и сам день, молвив инокам, что умрёт в тот день, когда не сможет принять Агнца (то есть Иисуса Христа в причастии), и как сказал, так и случилось. Просветлённый сим ведением, блаженный с нетерпением ожидал счастливейшего мига полного единения с Богом и, ещё ярче возгоревшись святым пылом, сиявшим от лика его и сквозившем в речи, он, казалось, отвратился от тела своего и от пищи, продлевавшей ему жизнь.
[118] По этой причине, когда 10 августа 1663 года у него началась горячка, он и не думал скорбеть, но почти всё время ликовал, а тем, кто убеждал его просить у Бога выздоровления, отвечал: «Ну уж нет, Боже сохрани!» Однако, поскольку от сурового образа жизни лишился сил, ослабел желудком, весь исхудал и не мог долго выстоять на ногах, то, возлегши на убогонькое своё ложе, полностью предался воле врачей и начальства. Тем не менее, в то время, как горячка спала (что продлилось пять дней), он каждое утро вставал, чтобы отслужить мессу в своей отдельной часовенке. Причём тогда он вкушал те небесные радости, коими прежде неизменно тешился, в ещё большем избытке, чем когда-либо прежде, и сам засвидетельствовал, что испытывал тогда экстазы и дивные восхищения, особенно на своей последней мессе, которую отслужил в праздник Успения Пресвятой Богородицы. После ж того, как ухудшение болезни лишило его возможности священнодействовать, он попросил и получил разрешение каждый день посещать мессу, свершаемую другими, и укрепляться Евхаристией.
[119] Сладостно было взирать на любовь сию в самый миг причащения, ибо, словно бы никаким недугом не страдая, Иосиф при этом так и сиял от радости, а когда блаженный принимал в Св. Тайнах [возлюбленного Господа] своего Иисуса, слышали, как он восклицает: «О драгоценность моя, о драгоценность!», а вкусив, растворялся в любви, закрывал глаза и бледнел, точно мёртвый.
Чем тяжелее становилась болезнь, тем горячее разгоралось в его сердце пламя божественной любви, которое, не вынося долгого заточения, часто вырывалось чрез уста блаженного: «Ах любовь! ах любовь!», – восклицал он и при пламенных этих словах воздевал обе руки к груди, точно пытаясь разверзнуть её, чтобы и оттуда испустить огнь внутренний. После сего, обращаясь к окружающим, он словами, исполненными братской любви, то увещевал их прилежать молитве, то благодарил их за оказанные ему милости и многое открывал им с присущей ему пророческой прозорливостью.
[120] Сие проявил он особенно ярко при своём хирурге, который и так постоянно дивился, как слуга Божий переносит частые лечебные кровопускания и прижигания, не чувствуя ничего благодаря сладостным экстазам, но был повергнут в куда большее изумление, когда святой поведал ему о некоем проступке его, ото всех утаённом и совершенном давным-давно, который и у него-то самого уже изгладился в памяти.
Хотя из-за болезни ему нельзя вставать с постели, он, тем не менее, желал каждый день принимать Святое Причастие хотя бы лёжа. Перед тем, как в последний раз вкусить Св. Тайны, кои были уделены ему как Напутствие в день 17 сентября (действительно оказавшийся предпоследним в его жизни), он чудесным образом проявил величие и мощь своей пламенной любви; ибо, заслышав звон колокольчика, что возвещал приближение Возлюбленного его, блаженный внезапно вскочил с постели и в удивительном восхищении перенёсся из комнаты своей к ступеням, ведущим к его часовенке, где, преклонив колени, с лицом, осиянным сверхчеловеческой радостью, приял в горячем радении Бога своего, облечённого в образ хлеба, Коего вскоре предстояло ему созерцать в небесах неприкровенно.
[121] После причастия он впал в глубокий обморок, скорее от любви, чем от недостатка сил, и его отнесли обратно в постель.
Если при начале своей болезни он говорил: «Ослик (так он называл своё тело) пошёл взбираться на гору»; а когда недуг усилился, добавлял: «Ослик добрался до середины горы», - то, приближаясь к концу, молвил: «Ослик добрался до вершины горы и больше двинуться не может; скоро шкуры лишится». И это было самым сильным желанием его, и поэтому он часто повторял: «Я желаю разрешиться и быть со Христом» (Флп. 1:23), то и дело присовокупляя: «Слава Богу; благодарение Богу; да будет воля Божия!». Когда над ним по его просьбе свершали таинство помазания елеем, он, исполнившись радости, воскликнул: «О, какие ароматы! о какое благоухание! О сладость райская!» Затем, попросив прочитать ему исповедание веры и испросив у всех прощения за свои проступки, он усердно просил, чтобы тело его хоронили без всяких торжеств и предали земле в таком отдаленном и безвестном месте, чтобы никто ни теперь, ни позже не узнал, где лежит брат Иосиф.
[122] Затем Генеральный викарий, испросив и получив от умирающего святого благословение для себя и всех иноков, сообщил, что согласно письму, переданному ему кардиналом Гиджи, Верховный понтифик уполномочил его уделить Иосифу папское благословение. А блаженный, чрезвычайно удивившись, что наместник Иисуса Христа столь милостиво благоволит ничтожнейшему из червей земных (каковым себя считал), молвил: «Не такова это милость, чтобы можно было принять её лёжа в постели». Поэтому, едва живой, он пожелал встать и с помощью присутствовавших проследовал в ближайшую свою часовню, где, преклонив колени, по чтении литании с великим благоговением принял торжественное благословение от викария, которому сие было поручено. Затем блаженного, чей лик благодаря душевному спокойствию выражал мир, немедля отвели в постель, и он стал готовиться к предстоящей смерти, часто повторяя исповедание любви к Богу. Иноку, который, желая придать ему мужества, вещал что-то о славе небесной, святой чистосердечно ответил: «Я не хочу попасть в ад, потому что там Бога не восхваляют»; подобно и другому, сказавшему: «Брат Иосиф, настало время тебе сразиться и победить диавола», – имел дерзновение всерадостно возразить: «Впереди только победа».
[123] Ему уже рукой было подать до славного триумфа, близость коего явственно видел. Поэтому не по причине тяжкой болезни терзался Иосиф так сильно, но (как он ответил вопрошавшему) из-за неодолимой любви, которой была охвачена святая его душа, всеми силами тщился он вырваться из крепких тенет, удерживавших его. Именно это значили его восклицания, которые он иногда издавал, говоря о любви: «Ох, прими! Ох, прими же!»,- а обращаясь к Иисусу распятому, произнесил сии исполненные любви слова: «Возьми сердце сие; сожги и вскрой, Иисусе мой, сердце сие!» Порой он также выражал готовность слушать речи о любви к Богу, прося тех, кто читал при нём благоговейные молитвы или хотя бы упоминал о любви к Нему: «Повтори это снова».
Наконец, в ночь на 18 сентября 1863 года, слушая, как некий священник читает антифон «Радуйся, Звезда моря», святой несколько раз выразил нежнейшие чувства к своей Матушке (то есть к Пресвятой Деве Марии) и примерно без четверти шесть (т.е. около полуночи. – прим. пер.) рассмеялся совершенно безмятежным смехом, чем развеселил всех вокруг, а лицо его внезапно озарилось светом. Он отдал душу своему Творцу в возрасте шестидесяти лет и трёх месяцев в обители Озимо, где провёл шесть лет, два месяца и восемь дней.
[124] Когда труп вскрыли, чтобы забальзамировать его, оказалось, что околосердечная сумка высохла, желудочки обескровлены, а само сердце сморщено и сухо, что было вызвано, как предположили, сверхъестественным жаром. Случилось и другое знамение: ибо когда тело преобильно обмывали вином, ткань, подстеленная под него (неизвестно каким образом) загорелась, и языки пламени от него охватили священные останки. Когда пламя загасили, думали, что тело сильно повредилось, но невредимыми оказались даже волосы и борода, которые обычно так легко подпалить. Затем благоразумно решили перенести тело в ризницу; там его выставили, окружив, однако же, оградой из брёвен и поставив охрану из двадцати четырёх человек, в число которых включили восемь каноников, восемь дворян и столько же иноков обители, чтобы уберечь его от напора народа, внезапно собравшегося в огромном множестве из города, сельских окрестностей и всех соседних областей и гомонившего в один голос: «Умер тот святой падре, что жил в обители св. Франциска», ибо все стремились увидеть хотя бы мёртвым того, кого им не позволяли видеть живым.
[125] На следующее утро, 19 сентября, то есть в первый день после его смерти, всем был открыт доступ в ризницу к останкам святого до третьего часа ночи (т.е. примерно девяти вечера. – прим. пер.), а на следующий день, 20 сентября, состоялась панихида, на которой присутствовали каноники, духовенство и все монашеские ордена. После неё священные останки оставалось выставлены для всеобщего почитания примерно до пяти (т.е. одиннадцати. – прим. пер.) часов ночи, вслед за чем их поместили в деревянный ящик, намереваясь предать земле на следующий день. Но поскольку народ снова сошёлся и поднял шум, пришлось открыть ящик и снова выставить тело на всеобщее обозрение на один час, после чего, когда все частью сами разошлись, частью были изгнаны угрозами, святое тело из вышеупомянутого ящика переместили в кипарисовый гроб, а этот последний – в другой, дубовый, и, наконец, перенеся в церковь, погребли в новом подземном склепе под полом часовни Девы Непорочно Зачатой.
[126] Не замедлил Бог слугу Своего, коего при жизни возвеличил столькими милостями, дарами и знамениями, прославить после смерти множеством дивных чудес. Поэтому два года спустя по распоряжению епископов Нардо, Ассизи и Озимо были начаты следственные действия, данные которых после отправки в Рим прошли, как это обычно бывает, предварительную проверку в Священной конгрегации обрядов, после чего досточтимый Иннокентий XI, святой памяти понтифик, назначил комиссию по беатификации и канонизации Иосифа Копертинского. По итогам новых следственных действий, проведённых по папскому распоряжению в вышеназванных епархиях, при святой памяти Клименте XI началось исследование добродетелей слуги Божия, как богословских, так и кардинальных, на предмет того, проявились ли они в героической степени, каковое затем было продолжено и успешно завершено святой памяти Климентом XII, который торжественным декретом объявил о подтверждении оных в праздник Успения Пресвятой Богородицы 1735 года.
[127] Затем он приступили к исследованию чудес, которые после трёх обычных заседаний, то есть предподготовительного, состоявшегося 2 марта 1751 года, подготовительного, проведенного в том же году 16 ноября, и общего, по божественному устроению имевшего место 19 сентября 1752 года, то есть как раз в день, следовавший сразу за драгоценной смертью [блаженного], – так вот, повторюсь, после того, как, чудеса были придирчиво рассмотрены на указанных заседаниях, нынешний Верховный понтифик Бенедикт XIV в том же году в праздник святого патриарха Франциска издал ещё один торжественный декрет, в котором подтвердил два важнейших чуда, одним из коих Бог изволил прославить обиталище бл. Иосифа сразу после его смерти, а другим – его гробницу через два месяца. Чудеса же были следующие.
У Витторио Маттеи из Озимо появился на правом колене некий пузырь, заполненный жидкостью, или опухоль, которая в течение примерно шести лет постепенно увеличивалась, поскольку в неё постоянно стекались вязкие жидкости, пока, наконец, не затвердела и не превратилась в бугор размером с булку, так что несчастный тот не только не мог согнуть колено, но и ходить не мог свободно, а ещё его терзали постоянные боли, которые за месяц до его чудесного исцеления страшно усилились.
[128] Хирург, которого он горячо умолял о помощи, не попытался пробовать на нём ни лекарств, ни иных каких средств, ибо, обнаружив, что болячка слишком застарела и проникла в кость, благоразумно рассудил, что её невозможно вскрыть без большого риска для жизни. Между тем, когда Витторио уже отчаялся во всех земных средствах, умер бл. Иосиф, а поскольку молва о святости его уже была на слуху, он проникся упованием на то, что по заступничеству блаженного сможет вымолить у Бога исцеление себе.
Итак, утром 19 сентября он кое-как добрался до церкви св. Франциска, в ризнице которой уже были выставлены священные останки, а когда из-за чрезмерного скопления народа не смог к ним подступиться, то допросился, чтобы его пустили в обитель – в те покои, где обитал святой. Благоговейно почтив оные, он, наконец, спустился в часовню, где блаженный обычно в уединении свершал жертву. Здесь он увидел следы от его колен, которые отпечатались на подножии алтаря благодаря тому, что Иосиф имел привычку подолгу молиться там. Витторио, воодушевлённый живой верой, приложил к ним своё измученное колено, и от этого прикосновения в одно мгновение исчезла всякая боль и опухоль, не оставив и следа былого недуга. Колено это теперь было совершенно здоровым, ровным и подвижным, точно как и другое, не пострадавшее ни от какого недуга.
[129] Другое чудо, последовавшее в ноябре того же года, 1663-го, случилось со Стефано, сыном упомянутого выше Маттеи. Ему было около двенадцати лет, когда, забавляясь с ровесником, бросавшим камешки, он был так поражён в зрачок правого глаза острым и шершавым камнем, что прорвалась роговица и сосудистая оболочка, обильно потекла жидкость вперемешку с кровью, из-за чего глазное яблоко сжалось и словно бы втянулось внутрь. Врач и хирург, признав, что утраченное зрение уже не восстановить никакими ухищрениями, в течение нескольких дней пытались своими лекарствами хотя бы заживить рубец от раны. А отрок, коему мать внушила крепкое упование на защиту бл. Иосифа (ведь его отец благодаря чудесной силе сего слуги Божия два с половиной месяца назад внезапно излечился от опухоли), с великой надеждой сначала помолился блаженному у себя дома, а потом в сопровождении матери отправился на его гробницу. Там, пав на колени, они оба ещё усерднее повторили покорные свои просьбы, после чего, когда мальчик приложился ослепшим глазом к надгробному камню, он вмиг обрёл зрение и представил на всеобщее обозрение тот самый глаз, полностью вернувшийся на место в орбите и полностью целый.
[130] После издания подтверждавшего подлинность этих двух чудес декрета, оглашённого достохвальным понтификом в праздник св. Франциска после мессы у алтаря, посвящённого этому же святому, в базилике святых Двенадцати Апостолов, оный Верховный понтифик со своей обычной благосклонностью к францисканскому Ордену Братьев меньших конвентуальных по неоднократным просьбам досточтимейшего отца-магистра Карла-Антония Кальви, генерала оного ордена, получив благоприятный отчёт и отзыв, написанный достославнейшим владыкой Людовиком Валенти, вседостойным промотором святой веры (т.е. «адвокатом дьявола», чья функция заключалась в поиске фактов, препятствующих канонизации. – прим. пер.), изволил дать милостивое согласие на отмену очередного генерального заседания (из тех, что обычно проводятся для окончательного решения по делам беатификации или канонизации слуг Божиих), в рескрипте от 12 декабря близившегося к концу 1752 года подтвердил [героическую степень] добродетелей и [подлинность] двух чудес Иосифа Копертинского и объявил, что, принимая во внимание особые обстоятельства настоящего дела, можно приступить к формальной беатификации без созыва следующего заседания.
Затем Святейший владыка назначил для этого события дату 24 февраля, когда празднуется память достославного апостола Матфия, и в оный день в Ватиканской базилике со всеми подобающими в таких случаях церемониями великий слуга Божий Иосиф из Копертино был торжественно провозглашён блаженным при таком стечении и ликовании народа, которого заслуживала святость его, во всем католическом мире уже давно признанная и прославленная.
[131] Завершая этот очерк, остаётся только перечислить здесь несколько других чудес и самые замечательные из исцелений, которые Бог сотворил по заступничеству бл. Иосифа после его смерти.
Во-первых, блаженный Верховный понтифик Александр VII, который, как мы уже говорили, восстановил блаженного в ордене, получил чудесную награду. В то время как он находился в должности папского нунция в Кёльне, то подвергся крайне болезненному камнесечению, после чего несколько поправился, но не полностью. Позднее, уже став понтификом, он однажды чуть не умер из-за задержки мочи, настолько упорной, что врачи целых четыре дня тщетно пытались помочь ему, используя самые действенные средства. Тут понтифик, уже едва ли не на пороге смерти вспомнив о недавно почившем Иосифе и святости его, многими чудесами, как доносила молва, подтвержденной Богом, исполнился упования и, помолившись блаженному о скорейшей помощи, надел какую-то из ряс его. Едва Александр призвал его и коснулся священного хабита, как боли прекратились, и моча потекла сама собой и обильно, так что, избежав неминуемой смерти, папа смог прожить ещё несколько лет, причём до самой смерти был свободен от сего недуга.
[132] Капитан Стефано Блази из Озимо, так тяжко страдавший от постоянной боли в коленях, что согнуть их не мог никоим образом, испытал на себе могучее заступничество Иосифа через несколько дней после его смерти. Ибо когда он однажды, войдя в церковь св. Франциска, попытался преклонить колени у скамьи и не смог из-за боли, ему пришло в голову вверить себя блаженному, чья гробница находилась как раз рядом. И вот, исполнившись надежды, он перешёл туда и бесстрашно опустился на надгробную плиту, причём не только не почувствовал боли, но, как потом засвидетельствовал, колени его словно бы погрузились в вату. Итак, помолившись там некоторое время на коленях, он резво и совершенно свободно встал и ушёл здоровый и никогда больше не страдал сим недугом.
Тот же Стефано Блази в другой раз занемог злокачественной лихорадкой с кровавой сыпью, и врачи уже отчаялись в его жизни, но в тот самый час, когда сеньора Блази, жена его, помолилась за него у гроба блаженного, он выздоровел.
[133] Третье чудесное исцеление вышеназванный Стефано вымолил для своего сына Пьетро Лодовико, мальчика лет четырёх лет. Однажды, когда он играл во дворе отцовского дома с другими мальчиками, у него вдруг так сильно заболели глаза, что он тотчас же зажмурился и с горькими слезами пожаловался, сказав, что будто какая-то стена обрушилась на них. Огорчённая мать попыталась открыть ему веки, но тщетно. Врач и хирург, призванные, чтобы вылечить его, единодушно решили, что из-за расслабления жил в веках мальчик окончательно ослепнет. Но, к счастью, к ним как раз тогда зашёл племянник блаженного, о. Иоанн Донато из Ордена Братьев меньших конвентуальных: у него при себе в мешочке было несколько предметов, которыми когда-то пользовался его дядя, и он твёрдо надеялся, что по заступничеству его удастся вымолить для мальчика исцеление. И именно в тот самый миг, когда после краткой молитвы мешочек поднесли к глазам ребёнка, он открыл их совершенно непринуждённо, и они оказались здоровы, словно бы и не случилось ничего плохого. Также и в дальнейшем он всегда наслаждался совершенно здоровым зрением.
[134] Наконец, оный капитан Блази с женой и сыном, который стал священником, обрели еще одну, необычайную милость от бл. Иосифа.
Ехали они в карете из Коринальдо в Ези, когда в два часа ночи (около восьми вечера. – прим. пер.) небо внезапно затянули тучи, а затем хлынул сильный ливень. Одна из четырёх лошадей, поскользнувшись, сорвалась с высокого обрыва и потащила за собой карету. Путники в ужасе перед падением сразу выскочили из кареты. Во тьме становилось всё страшнее, и тут сеньора Блази, супруга капитана, вспомнила, что у нее на груди висит распятье, подаренное ей блаженным. Немедля сжав его в ладони, она с упованием на дарителя пала на колени, призывая его в горячей молитве, и весьма скоро явилась ей удивительная помощь. Ибо хотя из трех лошадей, оставшихся на дороге, две были выпряжены, третья в одиночку вытянула свисавшую с края обрыва карету, но что гораздо удивительнее, в вышине неожиданно явилась (выражаясь словами, приведёнными в материалах процесса) «quasi luna in quintadecima» (ит. «почти полнолуние»), хотя в то время, даже если бы небо было ясным, луна не могла бы предстать такой полной. Более того, сей свет провожал путников до конца пути, и только тогда, наконец, оная чудотворная луна исчезла.
[135] Отец Антоний Джустиниани из Братьев меньших конвентуальных заболел в обители Озимо злокачественной лихорадкой и, после приёма Напутствия лишившись речи и чувств, лежал неподвижно, больше похожий на труп. А некий инок, зная, что он почитает бл. Иосифа, накинул одеяло, которым пользовался блаженный, ему на кровать и громким голосом предложил умирающему ввериться слуге Божию. В ответ болящий, словно бы пробудившись от глубокого сна, ответил: «Вверяюсь», - и в тот же миг лицо его порозовело и сила возвратились к членам. Внезапно выпрямившись, он самостоятельно сел в постели, а в тот вечер поужинал и крепко спал всю ночь, наутро же встал совершенно здоровым и исполнял свои прежние обязанности по Уставу.
Точно так же при простом призывании имени блаженного и прикосновении к его шапочке внезапно выздоровел от злокачественной лихорадки и Корнелий Саккалози, хотя врачи уже объявили, что он обречён.
[136] Такую же милость в единый миг получили: графиня Лодовика Патрици в Перудже, а в Озимо – каноник дон Фламиний Гварньери; сестра Мария Леопарди, инокиня обители св. Бенвенута, и сестра Мария Анжелика Пранцони из того же монастыря; Джамбаттиста де Плоди и Антония, служанка его; Фаустина Амбрози, Франческа Мария Арканджели, Эудженио Маккателли, владыка Гвидобальд Вивиани и многие другие, причём все они исцелились мгновенно.
Отец Франциск Антоний Верналеоне из обители Братьев меньших конвентуальных в Нардо сначала страдал от различных недугов, затем был прикован к постели, поражённый злокачественной лихорадкой, двусторонним паротитом и постоянным кровавым поносом, что за двадцать пять дней к отчаянию врачей довело больного до крайности. Видя, что больному совсем невмоготу, некий инок принёс накидку блаженного и накрыл ею его на постели. Помощь бл. Иосифа не замедлила, ибо, явившись о. Франциску в ту же ночь, он молвил: «Поздравляю, ты выздоровел и от лихорадки, и от поноса». Что к изумлению врачей и монахов на самом деле произошло.
[137] Чудесным образом исцелившись от этих недугов, больной, ещё паче воодушевившись, вновь обратился к своему покровителю, прося излечения от паротита, который продолжал мучить его. И вот явился ему посреди ночи блаженный во второй раз, исцелил ему одно из ушей крестным знамением, пообещав, что и другого будет здоровым, но при определенных условиях, исполнив которые, о. Франциск и на самом деле обрёл полное выздоровление.
После того как Анджелика де Костанца из Перуджи родила недоношенную девочку, её охватили такие резкие боли, что после признания врачей в бессилии своего искусства она, приняв Напутствие, уже ждала смерти, которая положит конец мучениям. Между тем некая благочестивая женщина, имевшая кусочек хлеба, добытый со стола блаженного, и льняную тряпицу, окрашенную его кровью, подложила её к лону страждущей, а хлебец, раздавив в ложке, дала ей проглотить, взывая при этом к блаженному о помощи. Когда это было сделано, роженица тотчас же выкинула другой плод – мёртвый и сгнивший, и в тот же миг, поправившись, как бы возвратилась от смерти к жизни.
Велико множество рожениц имело счастье обрести помощь сего великого слуги Божия.
Среди них одни, несмотря на ожидания, благополучно доносили ребёнка, а другие чудесным образом вышли из труднейших родов, что грозили неминуемой смертью.
[138] У слабоумной Корнелии Маттеи из Озимо болела спина; когда её привели ко гробнице блаженного, она полностью выздоровела и (как указано в протоколах процесса) «сделалась так хороша, что не узнать».
Когда мальчика, который заживо гнил от неизвестного крайне тяжкого заболевания, закутали в плат бл. Иосифа, он тут же обрёл здоровый цвет кожи и полностью поправился.
Подобным образом и многие другие дети по заступничеству бл. Иосифа вмиг выздоравливали от недугов, которые были либо совсем неизлечимы, либо естественным путем не могли быть излечены так молниеносно.
Также многие особы с повреждением глаз от обильного и долгого слезотечения, либо же от уколов о шипы или тростинки, а то и от расстройства органов и кровообращения – все при призывании святого исцелялись в один миг.
[139] При прикосновении тряпицы, окрашенной кровью блаженного, внезапно исчезла шишка «размером с голову ягненка» с левого колена сестры Марии Леопарды Массуччи прямо у неё на глазах.
Лодовико Блази, у кого на колене была страшная рана, приложил к повреждению сандалию блаженного и сначала почувствовал нежнейший аромат, который назвал «райским благовонием», а затем рана его полностью затянулась, не оставив даже следа рубца.
Точно так же страдавшие сильными головными болями, и опасной ангиной, и параличами, и грыжей, и эпилепсией, и чудовищной водянкой, и радикулитом, и смертельным плевритом, и, короче говоря, многими другими недугами, коим подвержены члены человеческие, внезапно обретали исцеление по заступничеству бл. Иосифа.
Дабы, однако, покончить с описанием отдельных случаев, сообщу, что число количество чудесных исцелений, свершившихся (причём почти всегда мгновенно) и благодаря призыванию блаженного, и приложением его реликвий или икон, превышает сто тридцать; и все они были либо перечислены в протоколах канонизационного процесса, либо впоследствии подтверждены в показаниях под присягой. В чём да прославляется паки вечно Бог, во святых Своих предивный, от Кого искра любви божественной да нисходит в души всех верных по заслугам вселюбезного слуги Его бл. Иосифа Копертинского.