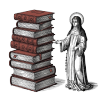
Пер. с фр. Camus, Jean‑Pierre. L’esprit de Saint François de Sales, évêque et prince de Genève : recueilli de divers écrits de M. Jean‑Pierre Camus, évêque de Bellay. Paris : La veuve Estienne, 1641 (Переиздана 1747). Оцифровано Internet Archive.
Говоря о братском исправлении, наш Блаженный Франциск преподал мне однажды примечательный урок. Я говорю «однажды», хотя он повторял и внушал мне его много раз, дабы крепко запечатлеть в моей памяти. Это превосходное правило может быть полезно всякому человеку, но особенно тем, кто управляет другими и имеет над ними какое-либо начальство.
«Истина, — говорил он, — в которой нет любви, происходит от любви, которая неистинна».
Слова верные, достойные того, чтобы их приняли и с усердием обдумали.
До него дошли верные сведения от очевидцев и слышавших, что, когда я только начал исполнять епископское служение, я во время своих визитаций проявлял рвение горькое и неумеренное, а говоря яснее, воистину неблагоразумное и лишенное знания. В этом духе я делал упреки резкие, грубые и сопровождал их суровыми словами.
Однажды он весьма кстати, со свойственными ему благоразумием, рассудительностью и искусностью, которые были не менее удивительны, чем его кротость, вложил мне в душу это златое слово, которое с тех пор так сильно в ней запечатлелось, что никогда ее не покидало.
Несомненно, люди, облеченные властью и обязанные по своему положению исправлять тех, кто достоин упрека, должны поступать именно так. Когда им приходится говорить истины, тяжелые для усвоения, им следует готовить их в столь пламенном огне любви и благоволения, чтобы всякая резкость была из них удалена. В противном случае, это будет незрелый плод, что принесет скорее колики, нежели доброе и основательное питание.
И это весьма явный знак того, что любовь в сердце неистинна, когда слово истины, исходящее из уст, не приправлено любовью.
Я вопрошал однажды нашего Блаженного, по какому признаку можно узнать, что братское исправление происходит от любви.
Он ответствовал мне с той основательностью суждения, что служила проводником всем его деяниям и светочем всем его словам: «Истина, — сказал он, — происходит от любви тогда, когда говорят ее лишь из любви к Богу и ради блага того, кого укоряют». Ответ примечательный, бьющий в самую цель и в конечную цель всех наших деяний. Ибо любовь, среди всех примет, отличающих ее от прочих добродетелей, имеет ту особенность, что, как учит нас Апостол, не ищет собственной выгоды (ср. 1 Кор. 13:5).
Все другие добродетели обращены к своим собственным предметам и имеют целью лишь благо творения. Одна лишь любовь, как наставляет нас Апостол, ищет блага лишь для Того, Кто является верховным предметом любви (то есть для Бога), и для того, что с Ним соотносится как с конечной целью.
Посему, если тот, кто укоряет другого, имеет какую-либо иную цель, кроме чести Божией и вечного блага того, кого укоряют, — в той мере, в какой исправление его проступка способствует славе Божией, — то, без сомнения, эта истина родится не из духа любви, а из какого-то иного источника.
Лучше умолчать об истине, чем сказать ее дурно. В противном случае это все равно что подать доброе кушанье, но плохо приготовленное, или дать лекарство не вовремя. Не значит ли это удерживать истину в неправде? Нет, конечно, но это значило бы являть ее с неправдой, ибо истинная справедливость истины и истина справедливости — в любви. Рассудительное молчание всегда лучше, чем истина, лишенная любви.
Когда я спросил у нашего Блаженного о другом признаке, по которому можно распознать, что исправление воодушевлено любовью, он, имея сердце, всецело преисполненное кротости, отвечал мне в духе великого Апостола: когда оно совершается «в духе кротости» (Гал. 6:1). Кротость, по правде сказать, есть великая подруга любви и ее неразлучная спутница.
Именно это имеет в виду святой Павел, когда называет ее благосклонной, и все терпящей, и все переносящей (ср. 1 Кор. 13:4,7). Господь, Который есть любовь, ведет кротких в суде Своем и научает смиренных путям Своим (ср. Пс. 24:9). Дух Его не в вихре, не в буре, не в шторме и не в шуме вод многих, но в веянии тихого ветра (ср. 3 Цар. 19:11-12). «Сошла кротость, — говорит Пророк, — и вот вы исправлены».
Он советовал подражать доброму Самарянину, который возлил масло и вино на раны бедного израненного (ср. Лк. 10:34). Обычным его словом было то, что для хороших салатов требуется больше масла, чем уксуса или соли.
Вот другое его слово на эту тему, весьма памятное, которое он говорил мне много раз: «Будьте всегда настолько кротким, насколько можете, и помните, что на ложку меда можно привлечь больше мух, чем на сто бочек уксуса; если и придется согрешить в какой-либо крайности, пусть это будет крайность кротости».
Никогда избыток сахара не портил соуса. Человеческий дух так устроен: он восстает против суровости, но от обходительности становится податлив на все. Ласковое слово гасит гнев, как вода гасит огонь. Через благосклонность даже самая неблагодарная земля приносит плод.
Говорить истины с кротостью — это все равно что бросать в лицо горящие угли или, скорее, розы. Возможно ли разгневаться на того, кто сражается с нами лишь жемчугом и алмазами? Нет ничего более горького, чем зеленый грецкий орех; но будучи засахаренным, он становится сладчайшим и приятнейшим для желудка. Упрек по природе своей резок, но, будучи засахарен в кротости и приготовлен на огне любви, он становится сердечным, любезным и восхитительным.
«Но, — возразил я ему, — истина всегда остается истиной, как бы ее ни говорили и как бы ее ни принимали». Я вооружился словами святого Павла к Тимофею: «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4:2).
Он же отвечал мне: «Суть этого Апостольского наставления заключается в двух словах: „со всяким долготерпением и назиданием“. Назидание означает истину, и эта истина должна быть сказана с терпением, то есть нужно быть готовым снести ее неприятие и не воображать, будто она всегда должна приниматься с рукоплесканиями. Ибо если Сын Божий является предметом пререканий, то и Его учение, которое есть учение истины, должно быть отмечено той же печатью».
Всякий человек, желающий научить других путям справедливости, должен решиться сносить их неровности и несправедливости, и принимать их неблагодарность как свою плату.
В начале моего епископства я жаловался нашему Блаженному на две добродетели, которые сражались в моем сердце.
Он спросил меня с той грацией, что была ему столь естественна, какие же это добродетели? Я сказал ему, что это — милосердие и целомудрие. Первое, будучи сильным и могучим, ничего не страшится и с мужеством устремляется на великие свершения во славу Божию. Оно способно на все вместе с Богом, от Которого неотделимо, и презирает смерть, и голод, и наготу, и гонения, и меч, и прошлое, и настоящее, и будущее, и ангелов, и людей, и темницы, и пытки — одним словом, все творения, ибо оно сильнее смерти и в битве яростнее ада (ср. Рим. 8:35-39).
Оно-то и есть терпеливо, и кротко; оно верит, надеется, все переносит, не ища своей выгоды (ср. 1 Кор. 13:4-7). Оно не боится не угодить людям, лишь бы угодить своему возлюбленному и принести ему жертвы живые, святые и приятные его божественным очам. Оно предприимчиво, сильно, отважно, решительно и смело.
Другое же, напротив, есть добродетель нежная и хрупкая, пугливая, робкая, трепещущая. Она всего боится, содрогается от малейшего шума, опасается всякой встречи и страшится всего. Малейший взгляд ее пугает, будь то даже взгляд самого Иова (ср. Иов 31:1), который заключил столь тесный завет с очами своими. Легкое слово ее тревожит. Благие ароматы ей подозрительны, лучшие яства кажутся ей ловушками, смех — распущенностью, общества — засадами, чтение занимательных книг — рифом. Наконец, она всегда шествует, словно молва, вся покрытая глазами и ушами, и подобна тому, кто несет много золота и алмазов через лес, известный своими разбойниками, и прячется при малейшем шуме, думая, что воры уже идут по его пятам.
Милосердие торопится помочь ближнему, здоровому и больному, бедному и богатому, молодому и старому, не взирая ни на возраст, ни на пол, ни на сословие, видя лишь Бога во всем и все — в Боге.
Целомудрие же, напротив, знает, что носит бесценное сокровище в глиняном сосуде (ср. 2 Кор. 4:7), и что это сокровище может погибнуть от различных искушений. Что же делать в этом недоумении и как примирить эти две добродетели?
Вот ответ нашего оракула, ответ воистину небесный и ангельский: «Надобно, — сказал он мне, — тщательно различать особ, облеченных саном и имеющих попечение о других, от тех, кто ведет частную жизнь и заботится лишь о себе самом. Первые должны вверить свое целомудрие своему милосердию. И если их милосердие истинно, оно хорошо о нем позаботится, оно послужит ему стеной и предградием. Но частные лица поступят лучше, если вверят свое милосердие своему целомудрию и будут шествовать весьма сдержанно и уединенно.
Причина же сего в том, что Начальствующие обязаны по своей должности подвергать себя опасностям, неотделимым от случаев [их служения]. В этом им помогает Благодать, поскольку они не искушают Бога безрассудством. Что, возможно, делали бы другие, если бы подвергали себя опасностям без законного на то призвания, ибо написано, что любящий опасность, и тем более ищущий ее, в ней и погибнет» (ср. Сир. 3:27).
Пришлось заключить в темницу одного клирика из епархии нашего Блаженного, который был порочен и вел соблазнительную жизнь. Пробыв там несколько дней, он выказал раскаяние и со многими слезами и заверениями в своем исправлении стал настойчиво просить, чтобы ему позволили броситься к стопам его святого Прелата, который уже прощал ему многие проступки.
Должностные лица, знавшие о совершенной кротости этого человека Божия, не могли дать согласия на то, чтобы его привели к нему. Они понимали, что увидеть его и возбудить в нем сострадание будет одним и тем же, хотя соблазны его и заслуживали примерного наказания. Тем не менее, силой своих молений он добился столь желанной встречи со своим Пастырем, и примерное наказание, которого он заслуживал, обратилось в героический и гораздо более назидательный поступок нашего Блаженного. Ибо у Бога в Его Провидении есть пути, сокрытые от всякой человеческой мудрости.
Оказавшись в присутствии своего епископа, он бросился к его ногам и взмолился о пощаде, заверяя Бога и его, что он изменит свою жизнь и что добрый пример будет изобиловать там, где прежде изобиловал соблазн. Святой же Епископ также бросился на колени перед этим виновным. И когда тот, весь в смущении, просил его о жалости, Святой, заливаясь слезами, сказал ему: «А я, умоляю вас утробою милосердия Иисуса Христа, на Которого мы уповаем, сжальтесь надо мной и над всеми нами, клириками этой Епархии, над Церковью и над всем нашим духовным званием, честь которого вы губите своей соблазнительной жизнью, дающей повод нашим противникам хулить нашу святую веру.
Я прошу вас, сжальтесь над самим собой и над своей душой, которую вы губите на целую вечность. Я увещеваю вас от имени Иисуса Христа, примиритесь с Богом через истинное покаяние.
Заклинаю вас всем, что есть святого и священного на Небесах и на земле, Кровью Иисуса Христа, которую вы попираете ногами, благостью этого Спасителя, Которого вы распинаете вновь, духом благодати, которому вы наносите оскорбление».
Эти увещевания имели такую силу (ибо дух Божий говорил устами этого святого Пастыря), что с тех пор этот виновный более не возвращался к своим порокам, но стал примером добродетели.
Наш Блаженный стал поручителем на значительную сумму за одного дворянина, который был ему другом и союзником. Когда наступил условленный срок, кредитор стал настоятельно требовать у доброго Епископа уплаты. Тот же со всей возможной кротостью разъяснял ему, что состояние того дворянина во сто крат превышает сумму долга; что, будучи уверенным в основной сумме, нетрудно будет получить удовлетворение и по процентам; что должник находится в войске на службе у Государя и не может отлучиться, чтобы его удовлетворить. И он заклинал его иметь немного терпения.
Кредитор, то ли будучи в нужде, то ли в дурном настроении, не удовольствовался этими столь справедливыми и разумными оправданиями, но требовал и переспрашивал, вовремя и не вовремя, кричал, бушевал и оглашал своими жалобами все вокруг.
Блаженный просил у него лишь времени, чтобы получить известия от дворянина и дать ему полное удовлетворение. Другой же не желал и этого промедления, прибегая к резким выражениям и неприличным упрекам.
Блаженный сказал ему с неимоверной кротостью: «Сударь, я ваш Пастырь. Неужели у вас хватит духу, вместо того чтобы питать меня, как подобает овце моего стада, отнять у меня хлеб изо рта? Вы знаете, что я весьма стеснен в средствах и имею лишь самое малое и необходимое для своего содержания. Я никогда не держал в руках той суммы, которую вы с меня требуете и за которую я, тем не менее, поручился из милосердия. Неужели вы хотите взыскать с меня прежде, чем с основного должника?
У меня есть некоторое достояние, я уступаю его вам. Вот моя мебель, выставляйте ее на улицу, продавайте; я предаю себя вашей воле. Я лишь прошу вас, чтобы вы любили меня ради Бога и чтобы не оскорбляли Его ни гневом, ни ненавистью, ни соблазном. Если будет так, я буду доволен».
Другой же ответил, что все эти слова — лишь дым и лесть придворная.
Наконец он загремел, не устрашив, однако, мужа Божия; он изрыгнул тысячу оскорблений, которые Блаженный принимал как благословения, словно тот бросал ему в лицо жемчуг и розы. Однако, тронутый внутренней сердечной болью от того, что Бог подвергается такому поруганию, и дабы одним ударом пресечь поток оскорблений и чтобы терпение его не стало мостком для ряда новых грехов, он сказал ему с дивным спокойствием: «Сударь, мое неблагоразумное поручительство — причина вашего гнева. Я приложу все возможные старания, чтобы дать вам удовлетворение. Но после всего я хочу, чтобы вы знали: даже если бы вы выкололи мне один глаз, я смотрел бы на вас другим так же ласково, как на лучшего друга, какой только есть у меня на свете».
Тот удалился, весь в смущении, хотя и бормотал себе под нос весьма неразборчиво какие-то резкие слова. Блаженный же известил дворянина, который поспешно приехал и скорой уплатой избавил Блаженного от этого несправедливого кредитора. Последний, полный стыда и смущения, пришел к Блаженному и просил у него тысячу раз прощения. Он принял его с распростертыми объятиями и с тех пор любил его с особой нежностью, называя своим «вновь обретенным другом».
Я жаловался нашему Блаженному на неких мелких деревенских дворянчиков, которые, будучи бедны как Иов, корчили из себя вельмож, не говоря ни о чем, кроме своего благородства и подвигов своих предков.
Он отвечал мне с дивной грацией: «Чего же вы хотите? Чтобы эти бедняги были бедны вдвойне? По крайней мере, если они богаты честью, они тем меньше думают о своей бедности. Они подобны тому юному афинянину, который в своем безумии считал себя богатейшим человеком в своем отечестве, а будучи излечен от своего душевного недуга заботами друзей, подал на них в суд, требуя, чтобы его приговорили вернуть ему его приятные грезы.
Чего же вы хотите? Благородству свойственно не падать духом перед лицом злой судьбы. Оно великодушно, как пальма, что выпрямляется под своей тяжестью. О, если бы только у них не было недостатков более великих! Вот о чем следует сокрушаться — об этих несчастных и мерзких дуэлях», — и при этих словах он вздохнул.
Однажды, когда в его присутствии с громкими восклицаниями и даже с яростными нападками говорили о чрезвычайно соблазнительном проступке, который, хотя и был совершен по немощи, в коем был повинен человек из Общины, он не говорил ничего иного, кроме: «О, убожество человеческое! О, бедная природа человеческая!». В другой раз: «Как же мы окружены немощами!». В третий: «Что мы можем делать сами по себе, кроме как ошибаться?». И еще: «Возможно, мы были бы хуже, если бы Бог не держал нас за правую руку и не вел бы по Своей воле».
Наконец, когда на этот проступок стали нападать с резкими и колкими преувеличениями, он воскликнул: «О, блаженная ошибка! Она станет причиной великого блага! Эта душа была бы потеряна вместе со многими другими, если бы не потеряла себя; ее потеря станет ее приобретением и благом для многих других!».
Некоторые отнеслись к этому предсказанию пренебрежительно. Тем не менее, события подтвердило его правоту, ибо смущение этой грешницы принесло славу Богу не только через ее обращение, которое было выдающимся, но и через то, что она своим примером вдохновила всю Общину, которая была весьма распущенной.
Сей дорогой Отец часто укорял меня за мои недостатки, а после говорил мне: «Я хочу, чтобы вы были мне за это весьма признательны, ибо это — величайшие свидетельства дружбы, какие я могу вам оказать. И по тому, готовы ли вы ответить мне взаимностью, я и познаю, истинно ли вы меня любите. Но я замечаю в вас в этом отношении лишь холодность. Вы слишком осмотрительны. У любви глаза завязаны, она не смотрит на столько обстоятельств, она идет напролом и без долгих размышлений.
Поскольку я люблю вас чрезвычайно, я не могу снести в вас ни малейшего несовершенства. Я желал бы, чтобы сын мой был таков, каким святой Павел желал видеть своего Тимофея, — неукоризненным (ср. 1 Тим. 3:2). То, что на другом, которого я не любил бы так сильно, показалось бы мне мухой, на вас, кого я люблю истинно, как то ведомо Богу, выглядит слоном.
Разве не был бы достоин порицания хирург, и скорее безжалостным, нежели сострадательным, который позволил бы человеку умереть, не имея мужества перевязать его рану? Острое слово, сказанное к месту, бывает порой столь же полезно для святости души, сколь и удар ланцета, нанесенный как должно, — для здоровья тела.
Достаточно одного кровопускания, сделанного вовремя, чтобы вернуть жизнь, и одного обличения, также сделанного вовремя, чтобы спасти душу от вечной смерти.
Один клирик из его епархии был заключен в темницу за некий соблазн. Блаженного настоятельно просили его должностные лица, чтобы он позволил свершить наказание по всей строгости законов. И он связал руки своей кротости и позволил им действовать. Помимо покаянных трудов, которые ему велели совершить, прежде чем выйти из темницы, он был на шесть месяцев отрешен от священнослужения.
Но все это не только не исправило его, а напротив, сделало еще хуже. В итоге его были вынуждены лишить бенефиция и изгнать из епархии. Находясь в темнице, он казался самым сговорчивым и самым смиренным, и, казалось, каялся пуще всех; он плакал, молился, обещал и клялся. Когда же заговорили о лишении его бенефиция, он притворился, что желает исправиться, но, столько раз обманув Правосудие, он нашел врата милосердия затворенными.
Несколько лет спустя другой клирик был также заключен в темницу за проступки не меньшие. Должностные лица хотели поступить с ним тем же образом и помешать ему прибегнуть к состраданию Блаженного Франциска, своего Епископа. Тот же клирик ежечасно взывал к нему, говоря, что готов сложить с себя свой сан, лишь бы это было у его стоп, ибо он надеялся, что в его глазах тот сможет прочесть искренность его раскаяния.
Блаженный повелел, чтобы его привели к нему. Должностные лица воспротивились. «Что ж, — сказал он им, — если вы запрещаете ему явиться передо мной, вы не запретите мне явиться перед ним. Вы не хотите, чтобы он вышел из темницы, — так позвольте же мне войти к нему, и я стану спутником его заточения. Ибо надобно утешить этого бедного брата, который взывает к нам. Я обещаю вам, что он выйдет лишь с вашего согласия».
Он пошел навестить его в темницу в сопровождении своих должностных лиц. Едва он увидел этого бедного человека у своих ног, как, весь в слезах, пал на его лицо, обнял и поцеловал его с величайшей любовью. И, обернувшись к своим служащим, сказал: «Возможно ли, чтобы вы не видели, что Бог уже простил этого человека? Есть ли осуждение для тех, кто во Христе Иисусе? (ср. Рим 8:1). Если Бог его оправдывает, кто его осудит? (ср. Рим 8:33-34). Воистину, я хорошо знаю, что это буду не я. Иди, брат мой, — сказал он виновному, — иди с миром и впредь не греши (ср. Ин. 8:11). Я знаю, что ты истинно раскаялся».
Должностные лица сказали ему, что это — лицемер, и что тот, другой, которого пришлось низложить, выказывал куда большие знаки покаяния, чем этот.
«Возможно, — возразил Святой, — и тот истинно обратился бы, если бы вы обошлись с ним с кротостью. Берегитесь, как бы однажды душа его не была взыскана с вас. Что до меня, то если вы желаете принять меня поручителем за этого, я согласен. Я доподлинно считаю, что он тронут как должно; и если он обманет меня, то себе он причинит больше вреда, чем мне».
Виновный, заливаясь слезами, просил, чтобы ему наложили в темнице любую епитимью, какую пожелают, что он готов на все, и что скорбь его терзает его больше, чем все покаяния, какие только можно на него наложить. Он сказал, что добровольно откажется от своего бенефиция, если Монсеньор сочтет это уместным.
«Я был бы весьма огорчен этим, — подхватил Блаженный, — ибо я надеюсь, что как колокольня, упав, сокрушила Церковь своим соблазном, так она и украсит ее отныне, будучи восстановлена».
Должностные лица уступили, темницы были открыты. После месяца отстранения от священнодействия он вернулся к исполнению своего служения, в котором с тех пор источал такое благоухание во Христе Иисусе, что пророчество Святого оказалось истинным.
Когда однажды в его присутствии говорили о падении одного и об обращении другого, он сказал это памятное слово: «Лучше творить кающихся кротостью, нежели лицемеров — суровостью».
В 1608 году я был назначен на епископскую кафедру Белле Генрихом Великим, а в 1609 году, 30 августа, я был рукоположен в кафедральном соборе Белле нашим Блаженным, получив дозволение по возрасту, ибо мне тогда было всего лишь двадцать пять лет. Дозволение это было даровано мне Папой по причине нужд этой епархии, остававшейся без Епископа на протяжении четырех лет.
Впоследствии меня стали одолевать некоторые угрызения совести из-за этого рукоположения, совершенного прежде времени, которые я и открыл этому Блаженному Проводнику души моей. Он же утешил и укрепил меня многими доводами: необходимостью, в которой находилась епархия, свидетельствами, которые дали обо мне столько знатных и благочестивых людей, суждением Генриха Великого и, наконец, повелением Его Святейшества. После всего этого, говорил он, мне не следует более оглядываться назад, но, по совету Апостола, устремляться к тому, что впереди (ср. Флп. 3:13).
«Вы пришли в виноградник, — говаривал он мне, — в первый час вашего дня. Смотрите, не трудитесь в нем так лениво, чтобы те, кто пришел в последний час, не превзошли вас и в труде, и в награде» (ср. Мф. 20:1-16).
Однажды я сказал ему: «Отче мой, сколь бы добродетельным и образцовым вас ни почитали, вы все же не преминули совершить эту ошибку, рукоположив меня слишком рано».
Он отвечал: «Воистину, я совершил этот грех и боюсь, что Бог мне его не простит, ибо до сего часа я так и не смог в нем раскаяться.
Заклинаю вас состраданием общего нашего Учителя, живите так, чтобы не дать мне повода для огорчения в этом деле. Видите ли, меня много раз звали на рукоположение других Епископов, но лишь в качестве ассистента. Я же никогда не рукополагал никого, кроме вас. Вы — мой единственный; вы — мое ученичество и мой шедевр в одно и то же время.
Будем же мужественны. Бог нам в помощь. Он — наша помощь и наше спасение, чего нам убояться? Он — защитник жизни нашей, кого нам страшиться?» (ср. Пс. 26:1).
Он не желал, чтобы произносили слова смирения, если они не исходят от чувства искреннего и истинного. Он говорил, что подобные слова — это самый тонкий цвет, сливки и эликсир самой изощренной гордыни. Истинно смиренный не желает казаться таковым, но быть им. Смирение столь деликатно, что боится собственной тени и не может слышать своего имени, не рискуя при этом потерять себя.
Тот, кто порицает себя, окольным путем идет к похвале и поступает подобно гребцу, который поворачивается спиной к тому месту, куда стремится всеми силами.
Он был бы весьма огорчен, если бы поверили тому дурному, что он говорит о себе, и именно из гордыни он желает, чтобы его почитали смиренным.
Однажды Блаженному довелось проезжать через город Женеву, чтобы обсудить дела Ордена с господином бароном де Люксом, кавалером Ордена и наместником короля в Бургундии, прибывшим туда нарочно по велению Его Величества.
В этом путешествии Блаженный подверг себя большой опасности. И когда я однажды заговорил с ним об этом в добром обществе, где каждый высказывал на сей счет свое суждение, он сам обвинил себя в неблагоразумии, не оправдываясь своими людьми, которые, по сути, и привели его на этот опасный путь, будучи уверены, что никто не осмелится на него напасть или причинить ему зло.
Мне случилось сказать ему: «Что ж, отче мой, худшее обернулось бы для вас лучшим; если бы этот народ побил вас камнями, из исповедника они сотворили бы мученика».
«Откуда вы знаете, — сказал он мне, — оказал ли бы мне Бог эту милость и дал ли бы мне постоянство, необходимое для достижения такого венца?».
Я ответил, что мое предположение было весьма основательно, ибо я думал, что он предпочел бы претерпеть тысячу смертей, нежели отречься от веры.
«Я хорошо знаю, — подхватил он, — что я должен был бы сделать, — именно то, о чем вы говорите. Но разве я Пророк, чтобы угадать, что я бы сделал? Святой Петр, покровитель Женевской Церкви, был, конечно, так же решителен, как и я, однако вы знаете, что он сделал при простом голосе служанки. Блажен тот, кто всегда пребывает в страхе и в недоверии к собственной немощи, и кто не опирается на самого себя, возлагая все свое упование на Бога. Мы все можем в укрепляющем нас [Иисусе]; без Него — ничего» (ср. Флп. 4:13).
«Отче мой, — сказал я ему однажды, — как возможно, чтобы те, кто облечен властью, могли практиковать добродетель послушания?».
Он отвечал мне: «Они могут это делать гораздо лучше и более героически, чем те, кто находится в подчинении».
Этот ответ изумил меня, и когда я попросил его раскрыть мне его смысл, он объяснил это так: «Те, кто обязан послушанию, подчиняются, как правило, лишь одному настоятелю, чье повеление они должны настолько предпочитать всякому другому, что они даже не могут повиноваться иному без дозволения или согласия тех, кому они подчинены.
Но те, кто начальствует, имеют больше простора, чтобы повиноваться более полно и повиноваться даже тогда, когда повелевают. Ибо если они помыслят, что это Бог поставил их над другими и повелевает им повелевать, и если они повелевают лишь для того, чтобы повиноваться повелению Божию, разве не очевидно, что даже их повеление есть акт послушания?
Этот вид послушания может практиковаться даже государями, у которых над ними лишь один Бог, и лишь Богу они должны давать отчет в своих действиях.
Добавьте к этому, что нет власти столь возвышенной, которая не признавала бы даже на земле некоего рода начальство — по крайней мере, в духовном, в ведении своей души и в руководстве своей совестью.
Но вот степень послушания еще более высокая, до которой могут возвыситься все Начальствующие, — это та, которую советует Апостол святой Петр, когда говорит: „Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа“ (ср. 1 Пет. 2:13).
Именно через это всеобщее послушание всякому творению мы делаемся всем для всех, чтобы всех приобрести для Иисуса Христа (ср. 1 Кор. 9:22). Именно через него мы взираем на всех людей как на вышестоящих, становясь слугами всех ради Господа нашего».
Также я замечал, что когда кто-либо подходил к нему, вплоть до самых малых, он принимал вид подчиненного перед своим начальником, никого не отсылая, не отказываясь ни беседовать, ни говорить, ни слушать, и не выказывая ни малейшего знака скуки, нетерпения или беспокойства, сколь бы ни были назойливы и сколь бы много времени у него ни отнимали.
Великим его словом было: «На то воля Божия, чтобы я был здесь и сейчас; Он хочет от меня именно этого, чего же мне еще? Пока я занимаюсь этим, я не обязан заниматься другим. Наше средоточие — это пресвятая воля Божия; вне ее — лишь смятение и суета».
Одна знатная особа обратилась к нашему святому, дабы получить от него увещевательную грамоту. Не найдя, однако, дело ее справедливым, он постарался самыми кроткими словами и лучшими доводами убедить эту особу отказаться от своего требования.
Другая сторона, уязвленная этим отказом, громко кричала о несправедливости, на что Святой не отвечал ничего иного, кроме того, что он опечален, что совесть не позволяет ему дать ей удовлетворение.
«Я друг, — добавил он, — лишь до алтаря, и до тех пор, пока служение Богу и свобода моей совести не оскорбляются. Просите у меня того, что справедливо, и вы будете услышаны».
Проситель, раздраженный еще более прежнего, обратился в Сенат Шамбери, получил право действовать через увещевательную грамоту и уведомил его об этом. На это муж Божий вел себя как скала среди волн. Блаженный не дал иного ответа, кроме того, что ему надобно спасать свою душу и хранить свою совесть, и что он готов дать отчет в своем отказе.
Дело зашло так далеко, что уже собирались конфисковать его мирское имущество.
Когда эта буря утихла и с ним заговорили об этом, он кротко ответил: «Если бы они отняли у меня мое мирское имущество, они оказали бы мне величайшее благо, какое только могло бы со мной случиться, ибо они сделали бы меня всецело духовным. И в этом случае я бы судил их, ибо разве не сказано, что „духовный судит о всем, а о нем судить никто не может“?» (ср. 1 Кор. 2:15).
Беседуя с ним в другой раз на эту тему, он сказал мне, что те, кто хотел конфисковать его имущество, причинили ему большой вред тем, что не завладели им, поскольку Бог вернул бы ему его сторицею. «Думаете ли вы, — говорил он, — что мои епархиане оставили бы меня умирать с голоду? Я уверен, что у меня было бы больше хлопот отказываться, нежели принимать».
Подчиняться начальствующим — это скорее справедливость, нежели смирение, поскольку разум требует, чтобы мы признавали их за наших наставников. Подчиняться равным — это дружба, или учтивость, или благопристойность. Подчиняться же низшим — вот истинная суть смирения, ибо эта добродетель, давая нам познать, что мы — ничто, ставит нас под ноги всему миру.
Наш Блаженный практиковал это смирение в высочайшей степени. Он повиновался своему камердинеру в том, что касалось его отхода ко сну и пробуждения, его одевания и раздевания, словно он был слугой, а тот — господином. Когда он засиживался далеко за полночь, то ли за учением, то ли за написанием писем, он предлагал тому идти спать, из боязни, как бы тот не утомился в ожидании.
Однажды летом он проснулся очень рано утром и, имея в мыслях нечто весьма важное, позвал его, чтобы тот пришел его одеть. Тот спал так глубоко, что не услышал его голоса. Блаженный прелат встал, думая, что того нет в его гардеробной, и, заглянув туда, увидел, что тот спит с таким благостным видом, что он побоялся повредить его здоровью, если разбудит. Он оделся сам и принялся молиться, учиться и писать.
Проснувшись и одевшись, этот юноша вошел в комнату своего господина и увидел его работающим. Он резко спросил его, кто его одел. «Я сам, — сказал ему святой прелат, — разве я не достаточно велик и силен для этого?». Тот, ворча: «Неужели вам так трудно было позвать?». «Уверяю тебя, дитя мое, — сказал Блаженный, — дело было не в этом, и я кричал несколько раз. Наконец, полагая, что ты снаружи, я встал, чтобы посмотреть, где ты, и нашел тебя спящим с таким благостным видом, что почел за грех совести тебя будить». «У вас куда лучше получается, — сказал юноша, — так насмехаться надо мной». «О, друг мой, — подхватил прелат, — я сказал это не в духе насмешки, но, воистину, в духе радости. Полно, я обещаю тебе, что не перестану звать, пока ты не проснешься, или сам пойду тебя будить. И раз уж ты так хочешь, я больше не буду одеваться без тебя».
У него был слуга приятной наружности, добродетельный, учтивый и весьма любезный в общении. Многие горожане желали его в зятья. Он попросил передать об этом Блаженному, который однажды сказал ему:
«Дорогой мой... я люблю твою душу как свою собственную, и нет такого блага, которого я бы тебе не желал и которого не сделал бы для тебя, будь у меня на то возможность. Полагаю, ты не можешь в этом сомневаться. Ты молод, и, возможно, твоя молодость привлекает взоры некоторых особ, которые желают тебя; но, по моему мнению, вступать в семейную жизнь надобно в возрасте более зрелом и с большим рассуждением. Подумай об этом хорошо, ибо когда корабль уже отплыл, раскаиваться поздно.
Супружество — это такой орден, где обеты приносят прежде новициата; и если бы в нем был год искуса, как в монастырях, то постриг принимали бы немногие.
Впрочем, что я тебе сделал, что ты хочешь меня покинуть? Я стар, я скоро умру, и тогда ты сможешь устроить свою жизнь, как тебе будет угодно. Я оставлю тебя моему брату, который позаботится о том, чтобы пристроить тебя не менее выгодно, чем те партии, что тебе предлагают».
При этих словах юноша бросился к стопам своего господина, прося прощения за одну лишь мысль о том, чтобы покинуть его, и снова принося ему заверения в верности и в готовности служить ему до смерти и в жизни.
«Нет, — сказал ему тот, — дитя мое, я не посягаю на твою свободу; я хотел бы выкупить ее, как святой Павлин, ценой своей собственной. Но я даю тебе совет друга, и такой, какой я дал бы своему родному брату, будь он в твоем возрасте».
Именно так он и обращался со своими слугами, как истинный отец семейства, видя в них не прислугу, но своих родных братьев и своих детей.
До него дошли сведения, что я чрезвычайно долго готовлюсь к святой мессе, и что это весьма стесняет многих людей.
Он пожелал исправить меня в этом. Он приехал навестить меня в Белле, согласно нашему обычаю взаимных ежегодных визитов. Случилось так, что во время его пребывания в нашем доме, в одно утро у него оказалось множество срочных писем, которые задержали его в комнате допоздна. Приближалось одиннадцать часов, а он еще не отслужил Мессу, которую он не пропускал ни одного дня, если только не был болен или весьма нездоров.
И вот он является в Часовню, облаченный в рокетто и камаиль, и, поприветствовав тех, кто там был, совершает довольно краткую Молитву у подножия Алтаря, облачается и служит мессу. Окончив ее, он снова преклоняет колени и, после также довольно краткой молитвы, подходит к нам с таким ясным ликом, что мне он показался ангелом, и беседовал с нами, покуда нас не позвали к столу, что случилось вскоре после.
Я, внимательно следивший за всеми его действиями, был удивлен краткостью этого приготовления и этого благодарения. Вечером, когда мы остались одни, я сказал ему с той доверчивостью, которую давало мне звание сына: «Отче мой, мне кажется, что для человека вашего положения, вы поступаете весьма поспешно. Я обратил внимание сегодня утром на ваше приготовление и ваше благодарение и нашел и то, и другое весьма кратким».
«О Боже, — сказал он, — какое вы доставляете мне удовольствие, говоря мне так прямо правду в глаза!». И, говоря это, он обнял меня. «Уже три или четыре дня, как и у меня есть для вас нечто подобного же рода, и я не знал, как к этому подступиться. Но что вы сами скажете о вашей медлительности, от которой все изнывают? Каждый жалуется, и во весь голос. Возможно, однако, что до вас это еще не дошло, — так мало людей осмеливаются говорить прелатам правду. Без сомнения, только потому, что здесь нет никого, кто любил бы вас так, как я, мне и дали это поручение. Не сомневайтесь, что я уполномочен на то добрым доверием, и нет нужды показывать вам подписи. Кое-что из того, что у вас в избытке, пошло бы нам обоим на великую пользу: вы поступали бы проворнее, а я не шел бы так быстро. Но разве не прекрасно, что епископ Белле упрекает епископа Женевского в том, что тот идет слишком быстро, а епископ Женевский — епископа Белле в том, что тот идет слишком медленно? Неужто мир перевернулся вверх дном?
Подумайте, какое дело тем, кто желает присутствовать на вашей мессе, до ваших великих церемоний и до множества молитв и воздыханий, что вы творите в молельне вашей ризницы? И еще меньше дела до этого тем, кто ждет, пока вы отслужите мессу, чтобы поговорить с вами о делах».
«Но, отче мой, — сказал я ему, — как же следует готовиться к святой мессе?». «Почему бы вам, — отвечал он, — не совершать это приготовление с самого утра, во время молитвенного упражнения, которое, я знаю, или, по крайней мере, думаю, вы не пропускаете?». «Я встаю в четыре часа летом, — сказал я ему, — а к алтарю подхожу лишь в девять или десять». «И вы считаете, — подхватил он, — что этот промежуток в четыре-пять часов не является весьма великим перед Тем, в чьих очах тысяча лет как день вчерашний, что прошел?» (ср. Пс. 89:5).
«А благодарение?» «Подождите, чтобы совершить его в вашем вечернем упражнении. К тому же, разве, испытывая свою совесть, вы не должны взвешивать столь примечательное деяние, и разве благодарение не является одним из пунктов испытания совести? И то, и другое можно сделать и более неспешно, и более спокойно вечером и утром. Это никого не стеснит, будет сделано лучше и более зрело, ни в чем не помешает исполнению ваших обязанностей и не доставит никакого беспокойства ближнему».
«Но не послужит ли это к дурному назиданию, — добавил я, — видеть, как все это совершается с такой поспешностью, ведь Бог не желает, чтобы Ему поклонялись на бегу?». «Сколько бы мы ни бежали, — возразил он, — Бог все равно движется быстрее нас. Он есть дух, который исходит с Востока и в то же мгновение является на Западе. Для Него все — настоящее, нет ни прошлого, ни будущего. Куда мы можем уйти от духа Его?». Я согласился с этим советом и с тех пор находил в нем для себя большое благо.
«Берегитесь, — сказал он мне, — искушения, которое побуждает вас желать оставить свой пост и отречься от своего Епископства, чтобы удалиться в частную и уединенную жизнь. Супруга ваша свята (подразумевая Церковь, с которой при рукоположении он обручил меня кольцом), и она способна освятить вас более, чем верная жена, о которой говорит Апостол (ср. 1 Кор. 7:14).
Правда, что множество духовных детей, которых она влагает в ваши руки, доставляет вам боль, которая есть своего рода мученичество. Но вспомните, что в этой горчайшей горечи вы найдете мир души вашей, мир Божий, превосходящий всякое разумение (ср. Флп. 4:7). Если же вы оставите ее в поисках покоя, возможно, Бог допустит, чтобы ваше мнимое спокойствие было нарушено столькими гонениями и превратностями, что вы станете подобны тому доброму Брату Леонису, которого часто посещали небесные утешения посреди суеты хозяйственных дел в его Монастыре. Но он был лишен их, когда по своей настойчивости получил от Настоятеля разрешение удалиться в свою келью, чтобы, как он говорил, с большей пользой предаваться созерцанию.
Знайте (о, как это слово глубоко запечатлелось в моей памяти!), что ненавистен Богу покой тех, кого Он предназначил для битвы. Он есть Бог воинств и сражений, так же как и Бог мира».
Хотя он и рукоположил меня в Епископы в возрасте двадцати пяти лет, по дозволению Святого Престола, он, тем не менее, желал, чтобы я предавался всем пастырским трудам. Он хотел, чтобы я служил мессу каждый день, преподавал всякого рода таинства, совершал визитации, проповедовал, наставлял в вере; одним словом, чтобы я целиком посвящал себя всем своим обязанностям без всякого исключения, дабы исполнить мое служение.
Однажды, уставший и подавленный от стольких трудов, я пожаловался ему на это. Он отвечал, чтобы я вспомнил написанное: что женщина, когда рождает, терпит скорбь, но испытывает радость, как только явит человека в мир (ср. Ин. 16:21).
«Какая честь для вас, — [продолжал он], — что Бог удостаивает использовать вас, чтобы развязывать столько бедных душ, извлекать их из смерти греха и возвращать к жизни благодати! Это подобно сборщикам винограда и жнецам, которые никогда не бывают так довольны и радостны, как когда сгибаются под тяжестью своей ноши. Кто когда-либо слышал, чтобы они жаловались на избыток жатвы или урожая винограда?
Впрочем, я хорошо вижу, что вы хотите, чтобы я вас немного пожалел и утешил вас в вашей сладостной муке. Что ж, да будет так. Итак, я признаю вам, что как мы называем мучениками тех, кто исповедует Бога перед людьми, так не было бы большой опасности называть в некотором роде Мучениками и тех, кто исповедует людей перед Богом; даже исповедниками и мучениками одновременно», — ободряя меня оставаться на этом кресте и пребывать на нем до конца.
«Тогда, — сказал я ему, — более чем мучениками следует называть тех, кто исповедует людей совестливых и скрупулезных».
«О, воистину, — подхватил он, — вы правы; и это все равно что подставить лицо, натертое медом, под пчелиный рой».
Я питал к нему столь высокое почтение, что все его манеры приводили меня в восторг. И пришло мне на ум подражать ему в искусстве проповеди. Не воображайте, однако, будто я хотел подражать высоте его мыслей, глубине его учения, силе его доводов, благости его суждений, сладости его речей или тому порядку и столь верной связи его рассуждений, и той несравненной кротости, что сдвигала скалы с их мест. Все это было за пределами моих возможностей.
Я поступил, как те мухи, которые, не в силах удержаться на глади зеркального стекла, садятся на его раму. Я забавлялся и, как вы сейчас услышите, заблуждался, желая сообразоваться с его внешней манерой, с его жестами, с его произношением. Все это в нем было медленно и размеренно. Моя же манера была совершенно иной, и я претерпел столь странное превращение, что меня перестали узнавать; это был уже не я. Я испортил свой собственный оригинал, чтобы сделать весьма дурную копию с того, кому я хотел подражать.
Наш Блаженный был извещен обо всей этой тайне. Однажды он сказал мне, порядочно походив вокруг да около: «К слову о проповедях, есть большие новости. Мне сказали, что вам пришла охота копировать Епископа Женевского, когда вы проповедуете». Я отразил этот выпад, сказав ему: «Что ж! Разве это такой дурной пример? По-вашему, разве он проповедует не лучше меня?». «Ах, конечно, — отвечал он, — вот и выпад в адрес его репутации! О нет, по правде говоря, он проповедует недурно; но беда в том, что, как мне сказали, вы подражаете ему так плохо, что в вашем исполнении не остается ничего от оригинала. Вы портите епископа Белле, ничуть не походя на епископа Женевского. Так что впору было бы вам уподобиться тому дурному живописцу, которому приходилось подписывать на своих творениях их названия, дабы хоть кто-то мог их узнать*».
«Дайте ему срок, — возразил я, — и вы увидите, что мало-помалу из подмастерья он станет мастером, и что его копии в конце концов сойдут за оригиналы». «Шутки в сторону, — подхватил он, — вы портите себя и разрушаете прекрасное здание, чтобы возвести на его месте новое, против всех правил природы и искусства. И затем, в том возрасте, в каком вы находитесь, когда вы, подобно камлоту, приобретете дурную складку, будет нелегко ее изменить.
О Боже! Если бы можно было обменяться натурами, чего бы я не отдал взамен за вашу! Я делаю все, что могу, чтобы себя расшевелить, я подкалываю себя, чтобы поспешить, и чем больше я тороплюсь, тем меньше продвигаюсь. Мне трудно находить слова, и еще труднее — их произносить. Я тяжелее пня, я не могу ни сам прийти в движение, ни подвигнуть других. И хоть я много потею, но мало продвигаюсь. Вы идете под всеми парусами, а я — на веслах. Вы летите, а я ползу или тащусь, как черепаха. В кончике вашего пальца больше огня, чем у меня во всем теле; у вас поразительная быстрота и живость, подобная птичьей. А теперь говорят, что вы взвешиваете слова, что вы считаете свои периоды, что вы волочите крыло, что вы томны и нагоняете томление на ваших Слушателей».
Скажу вам, что это лекарство оказалось столь действенным, что излечило меня от этого сладкого заблуждения и заставило вернуться к моей прежней манере.
* Имеется в виду античный анекдот о художнике (часто приписываемый Зевксису), чьи картины были настолько плохи и неузнаваемы, что ему приходилось их подписывать, например: «Это — лошадь». Смысл ироничного упрека св. Франциска: «Вы так плохо мне подражаете, что в вас совершенно не узнать меня. Ваше подражание настолько не похоже на оригинал, что вам пришлось бы „подписывать“ на своей проповеди: „Это я пытаюсь быть как Епископ Женевский“, чтобы хоть кто-то понял ваш замысел»
Когда в его присутствии говорили об одной девице из хорошего дома, впавшей в весьма соблазнительный грех, он сказал: «Поразительно, что каждый имеет столько рвения и любви к целомудрию, и так немногие имеют их к целомудрию любви».
Он объяснил это так: «Все ревнуют о сохранении целомудрия, до такой степени, что даже те, кто его не любит, хвалят его, и те, кто его не соблюдает, заставляют соблюдать его людей, которые от них зависят, в чем они и похвальны. Ибо нельзя с излишним усердием хранить столь богатое сокровище, видя, что в этом заинтересовано и общественное благоприличие, и честь семей.
Но, о если бы мы имели столько же рвения к целомудрию любви! Я называю целомудрием любви чистоту и непорочность этой добродетели, матери, царицы и души всех прочих, без которой они либо не являются истинными добродетелями, либо мертвы и лишены заслуги перед Богом.
Но сколь же много на свете любви нечистой и притворной, а значит, и не целомудренной! И сие достойно великого сожаления. Именно такая любовь и есть та, что под личиной своей оскорбляет истинную любовь к Богу и ближнему. Это предательство, не знающее себе равных, ибо тот, кто прибегает к нему, предает и самого себя.
Я имею обыкновение говорить, что рвение — добродетель опасная, потому что мало кто умеет практиковать ее как подобает. Многие подобны дурным кровельщикам, которые больше черепиц портят, чем кладут на место.
Мы приходим к целомудрию и девственной чистоте любви лишь тогда, когда взираем только на Бога во всем и на все — в Боге. Однако немногие ревнуют о такой чистоте той же божественной ревностью, что пылала в великом Апостоле (ср. 2 Кор. 11:2)».
Этим мудрым отступлением он далеко отстранил оскорбительный разговор, ранивший его слух, ибо в нем бесчестился Бог в злословии, которому подвергали ближнего.
К нему привели одного юношу, чтобы он сделал ему суровое внушение. Но он говорил с ним со своей обычной кротостью и, видя его ожесточение, пролил слезы, сказав, что человек с таким твердым и несгибаемым сердцем дурно кончит.
Когда ему сказали, что мать прокляла его, он воскликнул: «Ах! Это еще хуже. Если слово этой женщины будет услышано, у нее будет добрый повод проклинать свои же проклятия. Несчастная мать еще более несчастного сына».
Он оказался слишком хорошим Пророком, ибо этот юный отрок вскоре после погиб в жалкой дуэли, и тело его было съедено псами и волками, а его мать умерла от горя.
Когда же некоторые стали упрекать его в слишком большой кротости при том исправлении, он сказал им: «Что вы хотите, чтобы я сделал? Я сделал все, что мог, дабы вооружиться гневом, который не грешит. Я собрался с духом, но у меня не хватило сил обрушить этот гнев ему в лицо.
И потом, сказать вам правду, я боялся расплескать за четверть часа тот малый сосуд благодушия, который я стараюсь собирать вот уже двадцать два года, словно росу, в сосуд моего сердца.
Пчелы многие месяцы трудятся, чтобы собрать немного меда, а человек съедает его одной ложкой.
И потом, к чему говорить там, где тебя не слушают? Этот юноша не был способен к увещеванию, ибо свет его очей, то есть его разумения, был не с ним. Это ничему бы ему не послужило, а я, быть может, причинил бы себе большой вред и уподобился бы тем, кто тонет вместе с теми, кого, как им кажется, они спасают. Милосердие должно быть благоразумным и рассудительным».
В 1619 году он прибыл в Париж, сопровождая господина кардинала Савойского, который приехал, чтобы присутствовать на свадьбе своего брата, господина принца Пьемонтского, сочетавшегося браком с Мадам, сестрой Короля, Кристиной Французской.
Один человек из «Религии» [протестант] попросил с ним поговорить, и его ввели в комнату. Этот муж, войдя, спросил его без лишних предисловий и поклонов: «Это вас называют Епископом Женевским?». «Сударь, — сказал ему наш Прелат, — меня так называют». «Я хотел бы знать от вас, которого повсюду почитают за Апостольского мужа, ездили ли Апостолы в каретах?».
Наш Блаженный от этого выпада несколько опешил. Однако, придя в себя, он вспомнил то, что написано о святом Филиппе в Деяниях Апостолов, который вошел в колесницу евнуха Кандакии, царицы Эфиопской (ср. Деян. 8:27-31). Это дало ему повод ответить, что они ездили в каретах, когда представлялись удобство и случай.
Другой покачал головой: «Я хотел бы, чтобы вы мне показали это в Писании». Тогда он привел ему тот пример, который мы только что указали. «Но эта карета, — сказал другой, — была не его, а евнуха, который и пригласил его в нее сесть». «Я и не говорил вам, что карета была его, но лишь то, что, когда представлялся случай, они ездили в каретах». «Но в каретах позолоченных, вышитых и таких богатых, что и у Короля не нашлось бы более драгоценных, запряженных лучшими лошадьми и ведомых кучерами в лучших ливреях? Вот чего не увидишь [в Писании], и вот что соблазняет меня в вас, который изображает из себя Святого, и которого таковым почитают. Поистине, хороши же святые, что едут в Рай со всеми удобствами».
«Увы, сударь, — сказал ему наш Святой, — те, кто в Женеве владеет достоянием моего Епископства, оставили мне так мало, что я едва могу жить скромно и бедно на то, что мне остается. У меня никогда не было своей кареты, ни средств, чтобы ее иметь». «Значит, та карета, столь пышная и великолепная, в которой я вас вижу каждый день, не ваша?». «Нет, — подхватил Епископ, — и вы правы, называя ее величественной, ибо она принадлежит Его Величеству. Она из числа тех, что Король повелел предоставить тем, кто, как и я, находится в свите господ Принцев Савойских. Вы можете узнать это по королевским ливреям, которые носит тот, кто ею правит».
«Поистине, это меня удовлетворяет, и я еще более проникаюсь к вам симпатией. Значит, вы бедны, как я погляжу?». «Я не жалуюсь на свою бедность, поскольку имею достаточно, чтобы жить достойно и без излишеств. И если бы я и чувствовал ее неудобства, я был бы неправ, жалуясь на то, что Иисус Христос избрал Своим уделом в течение всех дней Своей жизни, живя и умирая в объятиях бедности.
Впрочем, поскольку дом, давший мне рождение, находится в подданстве у дома Савойского, я почел за честь сопровождать господина кардинала Савойского в этом путешествии и присутствовать на торжестве союза, который господин принц Пьемонтский, его брат, заключает с Францией, вступая в брак с Мадам, сестрой Его Величества».
Все это удовлетворило того протестанта до такой степени, что он пообещал впредь иметь его в почтении и удалился с большим удовлетворением.
Когда Блаженный проповедовал в Гренобле во время Великого Поста и Адвента, на его проповеди собиралось такое множество слушателей, не только католиков, но и протестантов Женевского исповедания, что их проповеди оставались без слушателей.
Один из пасторов, человек буйный, видя свою паству поредевшей, после многих нападок и оскорбительных речей против Святого, пригрозил ему устроить официальный диспут, на что Блаженный согласился.
Одна почтенная особа, которая не считала, что Блаженному следует подвергать себя этому, указала ему на дерзкий нрав пастора, у которого были «уста, подобные аду», и самый ядовитый и злоречивый язык в мире.
«Хорошо, — сказал Блаженный, — это как раз то, что нам нужно».
И когда этот друг стал говорить ему, что пастор обойдется с ним недостойно и не проявит к нему больше уважения, чем к ничтожному человеку, — «Тем лучше, — возразил святой Епископ, — это и есть то, чего я прошу. О, какую славу Бог извлечет из моего посрамления!». «Но, — возразил другой, — неужели вы хотите подвергнуть свой сан позору?». «Господь наш, — подхватил Блаженный, — и не такое претерпел. Разве Он не был пресыщен оскорблениями?». «О, — сказал этот друг, — вы берете слишком высокую ноту». «Что я вам скажу, — продолжил наш Блаженный, — я уповаю, что Бог окажет мне милость стерпеть больше оскорблений, чем тот сможет мне сказать. И если мы со всей доблестью претерпим унижение, Бог будет великолепно превознесен. Вы увидите обращения целыми толпами после этого, тысяча падет слева, и десять тысяч — справа. Таков обычай Бога — являть Свою славу в нашем унижении. Разве апостолы не выходили радостными с собраний, где претерпели поругание за имя Иисуса? Будем же мужественны, Бог поможет нам. Уповающие на Него ни в чем не будут нуждаться и никогда не будут посрамлены».
Но враг, из боязни проиграть в этой игре, внушил столько доводов человеческого благоразумия приверженцам пастора, которые сомневались в его силах, что они добились отмены этого диспута через наместника Короля, который тогда еще был их веры.
В юности у Блаженного был один весьма добродетельный клирик, которого он держал при себе до самой его смерти. Он руководил его учением в Савойе, в Париже и в Падуе и приобрел великое влияние на его дух.
Блаженный всегда питал к нему большое уважение, называя его и своим отцом, и своим наставником. А когда он стал Епископом, он сделал его Каноником в своей Церкви и с честью обеспечил его, предоставив ему, кроме того, и дом, и стол.
Этот добрый клирик, со своей стороны, имел такое рвение к чести своего ученика, что не смог бы стерпеть, если бы кто-нибудь сказал в его присутствии хоть одно нелестное слово о нем, не придя тотчас в дурное расположение духа.
Добрый епископ иногда указывал ему, что неразумно быть столь чувствительным к репутации своего Ученика. «Что, — говорил он ему, — разве я совершенен? Разве я святой?». «Я желаю вам быть таковым», — говорил добрый клирик. «И если бы я им и был, — говорил ученик, — разве у Святых не было порицателей и насмешников? Разве они были избавлены от бича гонений и от прекословия языков? Чего только не говорили о Господе нашем? Не упрекал ли святой Павел святого Петра? И разве его самого не почитали безумным из-за его великой учености?».
Но добрый монсеньор не удовлетворялся этими доводами. Он упрекал его за малейшие недостатки, или за то, что ему таковыми казалось, с такой свободой, которая истощила бы всякое иное терпение и которая могла быть извинена лишь пламенной ревностью Наставника и неимоверной кротостью Ученика.
В начале его Епископства, на которое он был возведен примерно в возрасте тридцати шести лет, он давал свободный доступ всем без разбора, чтобы быть солью и светом для всех, поскольку Бог поставил его на подсвечнике. Этот добрый наставник говорил, что это не подобает епископскому достоинству. Особенно же он не мог снести, чтобы женщины подходили к нему и говорили с ним так долго.
Святой Прелат, который считал себя должником всех, не отвергал никого. Однажды, когда тот особенно на него наседал и заклинал его избавиться от такой назойливости, сберечь свое время, которое он мог бы употребить на лучшие занятия, и, главное, избегать дурных слухов, которым это могло бы дать повод, он сказал ему: «Монсеньор д'Авриль, чего вы хотите? Попечение о душах состоит не в том, чтобы нести обиды, а в том, чтобы сносить немощных. Не стоит браться за этот труд, или уж нужно отдаваться ему всецело. Бог ненавидит теплохладных и желает, чтобы Ему служили без меры. Я, конечно, люблю мудрость змеиную, но несравненно больше — простоту голубиную. Бог, Который есть сама любовь, приставив меня к этому служению любви, знает, что во всем этом я взираю лишь на Его любовь. Пока я буду держаться Его, Он не оставит меня. Он никогда не покидает тех, кто ищет Его и кто взыскует Его всем своим сердцем. Будем же мужественны, Он поможет нам и не позволит нам упасть и разбиться. Он поддержит нас Своей рукой; Он — могущественный помощник; те, кто в Его руке, не могут погибнуть. Он может извлечь нас из бездн земных, насколько же легче Ему помешать нам туда спуститься. Он умерщвляет и оживляет. Он низводит в преисподнюю и изводит. С Ним мы не должны бояться тысяч воинов. И с Ним мы достаточно сильны, чтобы преодолеть всякого рода препятствия».
«Я только и слышу, что разговоры о совершенстве, — говаривал иногда наш Блаженный, — но вижу весьма немногих, кто его стяжал на деле. Каждый кроит его на свой лад: одни полагают его в строгости одеяний, другие — в воздержании в пище, иные — в милостыне, иные — в частом обращении к Таинствам, иные — в молитве, иные — в некоем роде пассивного и сверхъестественного созерцания, иные — в тех чрезвычайных благодатных дарах, что даются без заслуг. И все они заблуждаются, принимая средства или следствия за причину.
Что до меня, то я не знаю и не признаю иного совершенства, кроме как любить Бога всем сердцем своим и ближнего своего как самого себя. Всякое иное совершенство без этого есть совершенство ложное. Любовь — это единственные узы совершенства среди христиан и единственная добродетель, которая соединяет нас с Богом и с ближним как должно, в чем и состоит наша цель и конечное свершение.
В этом — конец всякого свершения и свершение всякого конца. Те, кто выдумывает для нас иные совершенства, обманывают нас.
Все добродетели, которые казались бы величайшими и превосходнейшими, суть ничто без любви. Ни вера сама по себе, хотя бы она и горы переставляла, и проникала в таинства; ни пророчество; ни языки человеческие и ангельские; ни раздача всего своего имения; ни даже мученичество, будь то и огненное, — все это ни к чему не служит без любви (ср. 1 Кор. 13:1-3). Всякий, кто не пребывает в любви, пребывает в смерти (ср. 1 Ин. 3:14). И все дела, какой бы видимой добротой они ни обладали, суть дела мертвые и не имеющие никакой цены для Вечности.
Я знаю, что суровые подвиги, молитва и другие упражнения в добродетели суть весьма добрые средства для преуспеяния в совершенстве, при условии, что они совершаются в любви и по побуждению любви. Однако не следует полагать совершенство в средствах, но в той цели, к которой эти средства ведут. В противном случае это означало бы остановиться на пути и в середине ристалища, вместо того чтобы достичь цели».
Когда я спросил его, что нужно делать, чтобы достичь этого совершенства, он подхватил: «Нужно, — сказал он, — возлюбить Бога всем сердцем своим и ближнего своего, как самого себя».
«Я не спрашиваю вас, что есть совершенство, — возразил я ему, — я спрашиваю, каким путем надобно идти, чтобы достичь его». «Любовь, — сказал он мне, — есть добродетель дивная. Она есть и средство, и цель одновременно; она есть и путь, и его завершение; она есть дорога, чтобы прийти к ней самой, то есть, чтобы преуспеть в совершенстве. „Я покажу вам путь еще превосходнейший“, — говорит святой Павел (1 Кор. 12:31), и тотчас дает пространное описание любви.
Всякая добродетель мертва без нее, и потому она есть жизнь. Никто не достигает без нее последней и верховной цели, которая есть Бог, и потому она есть путь. Без нее нет истинной добродетели, и потому она есть истина. Она есть жизнь души, ибо через нее мы переносимся от смерти греха к жизни благодати. Именно она делает веру, надежду и все прочие добродетели живыми и одушевленными. Как душа есть жизнь тела, так и любовь есть жизнь и совершенство души».
«Все это я знаю, — сказал я ему, — но я желаю знать, как нужно поступать, чтобы возлюбить Бога всем сердцем и ближнего своего как самого себя».
Он отвечал мне: «Нужно возлюбить Бога всем своим сердцем и ближнего своего как самого себя».
«Вот я и остался так же умен, как и был, — подхватил я. — Я желаю узнать подходящее средство, чтобы научиться любить Бога всем сердцем и ближнего как самого себя». «Самое подходящее, самое легкое, самое короткое и самое полезное средство, чтобы возлюбить Бога всем сердцем, — это возлюбить Бога всем сердцем».
Так он находил удовольствие в том, чтобы держать меня в напряжении. Наконец он объяснился и сказал мне: «Многие, так же как и вы, спрашивают у меня о методах, средствах и секретах совершенства. И я отвечаю им, что не знаю больших хитростей, чем возлюбить Бога всем сердцем своим. ...И вся тайна достижения этой любви состоит в том, чтобы любить. Ибо как учатся учиться — учась, говорить — говоря, бегать — бегая, трудиться — трудясь, так и учатся любить Бога и ближнего — любя Его. И те, кто избирает иной метод, заблуждаются.
Итак, доброе средство, чтобы любить Бога, — это любить Его все больше и больше. Продвигайтесь вперед без остановки и не тешьте себя, оглядываясь назад. Пусть ученики начинают, и, любя усердно, они станут в этом мастерами. Пусть те, кто более преуспел, продвигаются все дальше и дальше, не думая, что уже достигли цели, ибо любовь в этой жизни может всегда возрастать, до последнего вздоха. И пусть самые преуспевшие говорят с Давидом: „Ныне я начинаю“ (Пс. 76:11), или с великим святым Франциском: „Когда же мы начнем любить и служить Богу всем сердцем нашим и лелеять нашего ближнего как нас самих?“».
«Я хорошо знаю, — сказал я ему, — что христианское совершенство состоит в любви, и что эта любовь есть любовь к Богу ради Него Самого, и к ближнему — ради любви к Богу. Но что значит любить?»
Он отвечал мне: «Любовь есть первая страсть нашего сердца, которая побуждает нас желать блага. Любить Бога и ближнего любовью-милосердием, которая есть истинная любовь-дружба, — это желать блага Богу ради Него Самого, а ближнему — в Боге и ради любви к Богу».
«Но какого блага, — подхватил я, — можем мы желать Богу, Который есть верховное благо и сама сущностная благость?».
«Мы можем, — ответил он, — желать Ему блага двоякого рода. Во-первых, того, которое Он уже имеет в Своем самоуслаждении, — радуясь тому, что Он есть то, что Он есть, и что ничего не может быть добавлено к величию и бесконечности Его внутреннего совершенства. Во-вторых, мы можем желать Ему того внешнего блага, что исходит от нас, приумножая его на деле, если это в нашей власти, или же стремясь к этому всем сердцем, если это нам неподвластно».
«И какого же блага не имеет Бог?» — возразил я. «А я как раз, — подхватил он, — собирался вам об этом сказать. Это благо называют внешним, и оно проистекает от той чести и славы, что воздают Ему творения, в особенности разумные. Если мы истинно любим Бога, мы стараемся доставить Ему это благо, посвящая Его славе все наше существо и все наши действия, не только добрые, но и безразличные. И, не довольствуясь этим, мы прилагаем все наше усердие и все наши усилия, чтобы попытаться привести ближнего к служению Ему и к любви к Нему, дабы повсюду и во всем Бог был прославляем.
Любить ближнего в Боге — значит радоваться тому благу, которое он имеет, постольку, поскольку он использует его во славу Божию. Это значит оказывать ему всю возможную помощь, которой он от нас требует в своей нужде. Это значит иметь рвение о спасении его души и заботиться о нем, как о своем собственном, потому что так желает Бог и находит в этом удовольствие.
Вот что значит иметь истинную любовь, и твердо и искренне любить Бога ради Него Самого, и ближнего — ради любви к Богу».
Одна достойная доверия особа как-то сказала ему, что не находит в христианстве ничего труднее, чем любовь к врагам. «А я, — отвечал он, — уж и не знаю, так ли устроено мое сердце, или то Сам Бог соизволил сотворить мне совершенно новое. Ведь я не только не нахожу никакого труда в исполнении этой заповеди, но обретаю в ней такое удовольствие и ощущаю такую восхитительную и особенную сладость, что, если бы Бог запретил мне их любить, мне было бы весьма трудно Ему повиноваться».
Когда же однажды его весьма оскорбило одно частное лицо, он сперва с несравненной кротостью привел множество добрых доводов, чтобы успокоить того, а в завершение сказал ему: «После всего я хочу, чтобы вы знали, что даже если бы вы выкололи мне один глаз, я смотрел бы на вас другим так же ласково, как на лучшего друга, какой только есть у меня на свете».
«Правда, — добавил он, — что в чувствах происходит некая малая битва, но в конце концов нужно прийти к этому слову Давида: „Гневаясь, не согрешайте“ (Пс. 4:5). О нет, ибо почему бы нам не сносить тех, кого сносит Сам Бог, имея перед глазами этот великий пример — Иисуса Христа, молящегося на Кресте за Своих врагов?
Они еще не распяли нас, они еще не преследовали нас до смерти, мы еще не до крови сражались (ср. Евр. 12:4). Но кто не возлюбит его, этого дорогого врага, за которого молился Иисус Христос, за которого Он умер? Ибо, видите ли, Он молился не только за тех, кто Его распинал, но и за тех, кто преследует нас и кто преследует Его в нас, как Он засвидетельствовал Савлу, когда воскликнул ему: „Почему ты гонишь Меня?“ (Деян. 9:4), что понимается как „в членах Моих“.
По правде говоря, мы не обязаны любить его порок, его ненависть или ту вражду, которую он к нам питает, ибо это неугодно Богу, Которого этим оскорбляют. Но мы должны отделять грех от грешника, драгоценное от низкого, если мы хотим, чтобы уста наши были как уста Господни.
Это малые огни гаснут от ветра, большие же — разгораются еще сильнее. Лучшая рыба питается в соленых водах морских, а лучшие души возрастают в благодати посреди противоречий, чьи воды не могут угасить любовь. Ею они возносятся к Богу, подобно тому как Ковчег Ноев возносился к Небесам на водах потопа».
Он учредил конкурс на соискание бенефициев в своей епархии и не раз говорил мне, что без этого Пастырское служение было бы для него невыносимым.
И дабы пресечь путь интригам и покровительству и связать себе руки, он образовал совет, состоявший из нескольких докторов и самых ученых и добродетельных клириков своей епархии. Среди них он был лишь председателем и имел только один голос при выборе того из соискателей, кто был признан наиболее способным.
Поистине святое правило, и остается лишь пожелать, чтобы ему следовали во всех Епархиях.
Однажды он жаловался мне на свою слабую память. «Этот недостаток, — сказал я ему, — хорошо восполняется рассудительностью. Последняя — госпожа, первая же — лишь слуга, которая производит много шума, но мало плода, если рассудительность не сопутствует ее шагам».
«Это правда, — отвечал он мне, — что блестящая память и глубокая рассудительность обыкновенно не живут в одном доме. И что это — словно два несовместимых бенефиция, и редко дается дозволение владеть ими вместе.
Оба этих качества могут существовать в одной и той же особе в посредственной степени, но в степени выдающейся и возвышенной — это случается весьма редко».
Я привел ему в пример великого кардинала дю Перрона, это чудо памяти и знания, который также изобиловал и рассудительностью. Он согласился с этим примером, сопроводив его похвалой, которая свидетельствовала о великом почтении, которое он питал к этой великой Особе.
И по правде говоря, эти два качества так несхожи по своей природе, что редко уживаются вместе: одно происходит от живости, другое же шествует свинцовыми шагами. «Посему, — говорил я ему, — вам не на что жаловаться на свою долю, ибо вам досталась наилучшая часть, а именно — рассудительность. О, если бы я мог дать вам немного от моей памяти, которая часто удручает меня своей легкостью, ибо она наполняет меня таким множеством идей, что я задыхаюсь от них, когда проповедую и даже когда пишу! И если бы у меня было немного вашей рассудительности, ибо в ней, уверяю вас, я весьма слаб».
Услышав это, он рассмеялся и, нежно меня обняв, сказал: «Поистине, теперь я знаю, что вы действуете совершенно чистосердечно. Кроме вас, я встретил лишь одного человека, признавшегося мне в недостатке рассудительности. Ибо это такая вещь, которой те, кому ее более всего недостает, полагают, будто наделены ею щедрее всех. И поистине, самый скудный умом — это тот, кто мнит, будто превосходит в нем других.
Жаловаться на недостаток памяти и даже на злую волю — дело довольно обычное; мало кто стесняется в этом признаться. Но вкусить этого блаженства — нищеты духа, то есть смиренного признания своей нерассудительности, — не желает никто. Каждый отталкивает его как бесчестье. Но будьте мужественны, возраст принесет вам его в достатке; это один из плодов опыта и старости.
Этого нельзя сказать о памяти. Это один из несомненных недостатков стариков, потому я и мало надеюсь на ее улучшение. Но лишь бы у меня ее хватило на то, чтобы помнить о Боге, — этого довольно».
«Есть две добродетели, — говорил он, — которые нужно стяжать непрестанно и, если бы то было возможно, никогда не называть их по имени, или же столь редко, чтобы эта редкость сходила за молчание. Это добродетели смирения и целомудрия».
«Боже мой, — сказал я ему, — Отче, я нисколько не разделяю вашего мнения. Я желал бы, чтобы ничто, кроме этих двух прекрасных имен, не оглашало воздух, и чтобы они были вырезаны на коре всех деревьев и написаны золотыми буквами на всяком мраморе».
«И вот почему, — подхватил Святой, — нельзя ни назвать эти две добродетели, ни восхвалить их самих по себе или в ком-либо, не исказив их.
Что до целомудрия, то:
Вот почему я считаю актом благоразумия называть их нечасто. Но еще большим [актом благоразумия] является стяжать их непрестанно, ибо первая — одна из превосходнейших добродетелей духа, а другая — прекрасная и непорочная добродетель тела.
Я не говорю, однако, что нужно быть скрупулезным до такой степени, чтобы не сметь называть их при случае, даже с похвалой. Нет, сколько бы их ни хвалили, ни ценили, ни почитали и ни взращивали, этого никогда не будет довольно. Но чего стоят все эти похвалы? Все эти листья похвал не стоят и малейшего плода делания».
«Теперь выслушаем ваши доводы». «У меня их больше нет, — сказал я ему. — После этих я с охотой оставляю свои, чтобы согласиться с вашими, которых и хочу держаться».
Размышляя о его высоком и крепком росте, о его здоровом желудке, о его телосложении, сулившем долгую жизнь, о благоразумии, с которым он берег свое здоровье для служения Богу, и о его умеренности в пище, я говаривал ему, что ему, по всей видимости, суждена долгая жизнь. Ему было тогда сорок два или сорок три года.
Он отвечал мне со вздохом: — Самая долгая жизнь — не значит лучшая, но лишь та, что наиболее наполнена служением Богу. Затем он добавил эти слова Пророка: — «Горе мне, что странствование мое продлилось! Я обитал с теми, кто живет во тьме, душа моя долго была странницей» (ср. Пс. 119:5-6).
Я подумал, что он опечален тем, что находится вдали от своей кафедры и своей дорогой Женевы, — так он ее называл. И я сказал ему: «Мы сидели на реках Вавилонских и там плакали, вспоминая о Сионе» (ср. Пс. 136:1). «— О нет, — отвечал он, — не это изгнание печалит меня. Разве не слишком хорошо мне и здесь, в нашем прибежище, дорогом Анси? Я говорю об изгнании этой жизни. Пока мы в ней, разве не изгнаны мы от Бога и не вдали от нашего отечества? Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Это сделает благодать Божия через Иисуса Христа, Господа нашего» (ср. Рим. 7:24-25).
«У вас нет причин, — сказал я ему, — быть недовольным этой жизнью, где все вам улыбается. Мне кажется, вся ваша жизнь — сплошной праздник: друзья вас уважают, и даже враги нашей Религии вас почитают; вы — услада для всех, кто с вами общается». «— Все это, — сказал он, — весьма маловажно, и на это не стоит полагаться. Те, кто пел „Осанна“ Сыну Божию, три дня спустя кричали: „Распни“.
Кроме того, нет для меня ничего дороже души моей. И уверяю вас, если бы кто-нибудь пришел и заверил меня, что я проживу еще столько же, сколько уже прожил, без боли, без тяжб, без невзгод, без неудобств, но среди всевозможных услад и в полном благоденствии, каких только можно пожелать в этой жизни, — то я был бы в великом затруднении. Для того, кто взирает на Вечность, то, что подвластно времени, — вещь малая».
Мне всегда весьма было по душе это прекрасное изречение блаженного Игнатия Лойолы: «О, сколь низкой и презренной кажется мне земля, когда я размышляю и созерцаю Небо!».
Мы вместе отправились навестить одну знатную даму из моей епархии, которая жила в деревне. Она была весьма преклонных лет, находилась при смерти и незадолго до того приняла Святые Дары.
Мы застали ее в великом мире и душевном покое, ибо все дела ее были уже устроены. Лишь одно ее беспокоило: видеть, как ее дети терзаются днем и ночью, чтобы доставить ей какое-нибудь облегчение.
Наш Блаженный, чтобы избавить ее от этой печали, сказал ей: «— А мне, дорогая матушка, во время болезни ничто не приносит большего успокоения, чем вид хлопочущих вокруг меня домашних и слуг». Мы спросили у него о причине. «— Дело в том, — ответил он, — что я знаю: Бог щедро вознаградит их за помощь, которую они мне оказывают, ибо подобные жертвы весьма Ему угодны.
Поистине, если те, кто служит нам, будь то в здравии или в болезни, обращают свой взор лишь на нас, а не на Бога, и ищут лишь нашей благосклонности, они весьма дурно употребляют свои труды, и справедливо будет, если им достанется лишь горечь. Но если они служат нам ради Бога, то они более достойны зависти, нежели жалости».
Наш Блаженный вел себя с больными, находящимися при смерти, подобно добрым Ангелам, внушая им кроткие и нежные помыслы. Он говорил им время от времени краткие, хорошо подобранные слова, сообразно состоянию больных. Иногда он произносил перед ними краткие молитвенные воззвания, иногда просил их произнести их вслух или лишь сердцем, если речь их затрудняла, а затем надолго умолкал, чтобы дать им вкусить их. «— О Иисусе, я предаю себя, я вверяю себя Тебе. О Боже, я — Твой, спаси меня во славу Твою. О Отче, я вручаю мою душу, мое тело, все мое существо в Твои руки. О Боже, да будет воля Твоя; да, Господи Иисусе, воля Твоя, а не моя». И между каждым воззванием он оставлял изрядную паузу, чтобы дать им его прочувствовать.
Он с болью смотрел, как мучают бедного умирающего долгими увещеваниями. «Это не время для проповеди, — [говорил он], — ни даже для того, чтобы заставлять его читать длинные молитвы. Следует лишь укреплять его в покорности божественной воле, которая должна стать его вечной стихией и его вечным занятием на Небесах».
Он иногда совершал этот благочестивый труд милосердия и по отношению к преступникам, сопровождая их на казнь и помогая им хорошо умереть, и обходился с ними так же, как и с больными, о чем мы только что говорили. Приняв их исповедь, он давал им немного передохнуть, затем, время от времени, предлагал им совершить акты веры, затем — надежды, затем — любви, а после — раскаяния и покорности воле Божией, предания себя Его милосердию, не утомляя их назойливостью, от которой не свободна ни одна долгая речь.
Этот блаженный прелат достигал в этом искусном чередовании такого успеха, что иногда сопровождал на смерть несчастных, которые шли на нее с такой радостью и таким довольством, каких они никогда не испытывали в течение всей своей беспорядочной жизни. Они почитали себя более счастливыми умереть таким образом, нежели жить дольше так, как они жили прежде. «— Именно с любовью лобызая стопы правосудия Божия, — говорил он им, — мы вернейшим путем приходим в объятия Его милосердия. И нужно считать за непреложную истину, что уповающие на Его благость никогда не бывают посрамлены».
Он внушал им этот дух упования столь любвеобильно, что побуждал их жить согласно этим словам святого Августина: «Лучше умереть, любя Бога, чем жить, оскорбляя Его».
Я жаловался ему на бремя епископского служения и уверял его, что если бы я знал о нем прежде, чем вступил на это поприще, я бы никогда на это не пошел. Я добавлял, что не без причины Тридентский Собор называет его «бременем, непосильным даже для ангельских плеч».
«— Поистине, — отвечал он мне, — вам ли жаловаться, вам, кому достался лишь малый сад для возделывания, и сад, очищенный от терниев ереси. Как же стенали бы вы, если бы были обременены Епархией, столь же тяжкой, как моя, которая есть вместилище всех заблуждений и прибежище всех отступников, покинувших лоно истинной Церкви?».
«Не думаю, — говорил я ему, — что во всей Франции найдется Епархия лучше устроенная или более образцовая, чем ваша, или столь же богатая добрыми Пастырями и мудрыми и добродетельными Клириками».
«— Увы! Это правда, — отвечал он, — что Бог, Который благ, посылает нам ветер по нашим парусам и позволяет нам извлекать некоторую пользу из наших скорбей. Иначе, если бы Бог не оставил нам это малое семя благочестия, не стали ли бы мы подобны Содому? (ср. Рим. 9:29). Несмотря на это, мы стенаем на берегах этой великой реки, что течет из нашего Вавилона, и утешаемся блаженной надеждой, что Отец светов однажды просветит эту тьму, и что после этого мрака Он даст воссиять Своему солнцу над этими бедными людьми, сидящими в стране тени смертной (ср. Мф. 4:16).
Вы бы иначе запели, будь у вас на плечах такое бремя». «Но, — говорил я, — зачем вам обременять себя теми, кто снаружи и кто добровольно отторг себя от Церкви, матери своей? Овцы, что остаются у вас, столь послушны, что они — ваша радость и венец ваш в Господе» (ср. Флп. 4:1).
«Я ловлю вас на слове, добрый слуга, — сказал он мне, — и почему же вы не смотрите на своих овец теми же глазами, какими вы смотрите на моих? Неужели вы полагаете, что ваши менее послушны? Надобно иметь дух справедливый и не следует столь высоко ценить добро, которое Бог творит для других, чтобы из-за этого презирать или не замечать того добра, что Он творит для нас. Духу низкому свойственно говорить: „Жатва у нашего соседа всегда обильнее нашей, и стада его тучнее“. Следует благословлять Бога за одно и не быть неблагодарным за другое».
«И все же это — тяжкое бремя, — говорил я ему, — будь то для вас или для меня». «— Оно и впрямь было бы так, — отвечал он, — если бы мы несли его в одиночку. Но ведь в этом иге самую тяжкую часть несет Господь наш, ибо Он несет и нас самих вместе с нашей ношей.
— Разве вы ни во что не ставите необходимость давать отчет за столько душ? — говорил я. И он возражал: — Мы имеем дело с господином, который богат милостью к тем, кто его призывает; он прощает десять тысяч талантов по малейшей просьбе. Надобно иметь о Нем помышления, достойные Его благости. Следует служить Ему со страхом, но, однако, и трепеща, не переставать радоваться. Смирение, которое ввергает в уныние, — не есть доброе смирение».
Некто восхвалял уединенную жизнь, называя ее святой и невинной. Он отвечал, что она имеет свои недостатки, так же как и та жизнь, что ведут в миру. И что как существуют общества добрые и дурные, так существует и уединение доброе и уединение дурное. Доброе — когда Бог привлекает нас, согласно словам Пророка: «Уведу ее в пустыню и там буду говорить к сердцу ее» (Ос. 2:14). Дурное же то, о котором написано: «Горе одному» (Еккл. 4:10).
Если бы для того, чтобы стать святым и невинным, достаточно было удалиться в уединение, то святость и невинность были бы легкой добычей.
Ему возразили, что в уединении меньше искушений и меньше поводов ко греху. «— Есть демоны, — ответил он, — которые бродят по пустынным местам так же, как и среди городов. Если благодать не помогает нам повсюду, мы повсюду падаем. Лот, который был столь свят и столь праведен в самом позорном из всех городов, в уединении совершил нечистые дела, вызывающие ужас. Человек повсюду носит с собой самого себя, и убожество его неотделимо от него, как собственное тело.
Многие заблуждаются и обманывают самих себя, воображая, будто обладают добродетелями, раз не видят в себе противоположных им пороков. Но велико расстояние между отсутствием порока и обладанием противоположной добродетелью. Это, конечно, начало мудрости — не иметь безумия, но начало столь слабое, что едва ли заслуживает имени мудрости.
Воздерживаться от зла — это не то же самое, что делать добро, хотя это воздержание и есть своего рода добро. Это — как бы основание, на котором еще предстоит возвести здание. Добродетель состоит не столько в навыке, сколько в действии. Навык есть качество по природе своей праздное, которое, правда, лишь предрасполагает к добрым делам, но все же не совершает их, если его склонность не претворена в действие.
Как научится послушанию тот, кому никто не повелевает? Терпению — тот, кому никто не перечит? Постоянству — тот, кому нечего сносить? Смирению — тот, у кого нет начальника? Дружбе — тот, кто, подобно дикарю, избегает общения с другими людьми, которых он обязан любить как самого себя?
Есть множество добродетелей, которые невозможно практиковать в уединении, в особенности — милосердие, о котором нас спросят и по которому будут судить в последний день, и о котором сказано: „Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут“» (Мф. 5:7).
Когда я собирался проповедовать Великий пост в Париже, Блаженный научил меня не придавать большого значения тому, что станут говорить люди, рассказав следующую историю.
Настоятель одного коллегиума, — продолжал он, — поручил доброму старику ведать башенными часами, чтобы тот не скучал. Испытав новое послушание, старец убедился, что никогда ещё не получал задания тягостнее и труднее.
— Как же так? — удивился настоятель. — Неужели трудно два
раза в день поднимать гири?
— О, нет, — ответил старик, — мучения мои совсем в другом: меня дёргают со всех
сторон.
— Каким же образом?
— Стоит часам чуть замедлиться, сотрудники коллегиума жалуются; чтобы их
успокоить, я немного ускоряю ход — и тут же горожане нападают на меня с
упрёком, что часы спешат. Задержу стрелки, чтоб угодить горожанам, — первые
снова поднимают ропот. Голова моя стала тем самым колоколом, в который бьёт
молоток часов; я оглушён их бесконечными претензиями.
Настоятель, желая его утешить, сказал:
— Дам вам дельный совет, который восстановит мир. Если часы спешат и вам
жалуются, отвечайте: «Оставьте это мне, я скоро их замедлю». — Но тогда, —
возразил старик, — придут другие и начнут кричать. — А вы им скажите: «Друзья,
оставьте это мне, я ускорю часы».
А в конце концов пусть часы идут своей дорогой, как смогут; вы лишь раздавайте всем добрые, ласковые слова — и все останутся довольны, а вы — в покое.
— Видите ли, — подытожил наш Блаженный, — вас ждут самые разные суждения. Если ловить каждое чужое слово, конца не будет. Что же делать? Уделяйте всем добрые и кроткие ответы, но, в конце концов, идите своей дорогой. Следуйте своей природе, не кроите её по советам, что будете получать, — зачастую противоречивым; взирайте на Бога и всецело доверяйтесь действию благодати.
Нам должно быть весьма безразлично, как судят о нас люди, раз мы и не ищем им угождать: наш Судия — Бог, Который видит глубины сердца и то, что скрыто во мраке.
Однажды я проповедовал в монастыре Посещения и, зная, что наш Блаженный будет там присутствовать вместе с большим собранием народа, я, по правде говоря, немного подумал о себе и приготовился основательно.
Когда мы удалились к нему и он остался со мной наедине, он сказал: «Что ж, вы сегодня доставили большое удовлетворение нашим людям; они уходили, говоря Mirabilia [«Дивные дела!»] о вашем прекрасном и хорошо причесанном Панегирике. Я встретил лишь одного, кто не был доволен».
«Что же я мог сказать такого, — спросил я его, — что могло бы его уязвить? Ибо я не горю желанием знать его имя». «А у меня, — подхватил он, — напротив, велико искушение назвать его вам». «Так кто же он? Я постараюсь загладить свою вину». «Если бы я не питал к вам большого доверия, я бы вам его не назвал; но поскольку я вас знаю, я сделаю это с охотой. Видите ли вы его здесь?».
Я огляделся вокруг, но не увидел никого, кроме него. «Значит, это вы», — сказал я ему. «Я самый», — подхватил он. «Воистину, — возразил я, — я предпочел бы одно ваше одобрение одобрению всего собрания. Слава Богу, я попал в руки, что ранят лишь для того, чтобы исцелить. И все же, что вы нашли сказать [против]? Ибо я знаю, что вы, в своей доброте, не спускаете мне ничего».
«Я слишком вас люблю, — сказал он, — чтобы вам льстить. И если бы вы любили наших Сестер такой же любовью, вы бы не тешились тем, что надмевали их умы, вместо того чтобы их назидать; не хвалили бы их состояние, вместо того чтобы преподать им урок смирения, что было бы куда спасительнее. С яствами духовными дело обстоит так же, как и с телесными: льстивые речи пусты, а от пустых лишь раздувает, как от бобов, но сытости в них нет*. Проповедуя, надобно представлять не ту пищу, что проходит, и память о которой исчезает вместе со звуком, но пищу, пребывающую в жизнь вечную.
Впрочем, никогда не следует всходить на кафедру, не имея особого намерения воздвигнуть какой-нибудь уголок стен Иерусалимских, научая исполнению какой-либо добродетели или бегству от какого-либо порока. Ибо весь плод проповеди — в том, чтобы искоренять грех и возвращать праведность. „О Господи, — говорил Давид, — научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся“» (ср. Пс. 50:15).
«Но о каком обращении, — сказал я ему, — мог я проповедовать этим душам, избавленным из рук их врагов: мира, дьявола и плоти, и которые служат Богу в святости?». «Им следовало научиться, — подхватил он, — остерегаться, чтобы не упасть, раз уж они стоят (ср. 1 Кор. 10:12); совершать свое спасение по совету Святого Духа, со страхом и трепетом (ср. Флп. 2:12), и даже после отпущения грехов не терять страха (ср. Сир. 5:5). Вы же описали их как Святых. Вам, вижу, ничего не стоит канонизировать живых людей. Не следует так подкладывать подушки под локти и давать молока тем, кто нуждается в цикории и полыни».
«Я сделал это, — сказал я, — чтобы ободрить и укрепить их в их святом начинании». «Нужно вселять это мужество, не подвергая особу опасности самонадеянности и тщеславия. Всегда надежнее смирить слушателя, чем позволять ему витать в материях высоких и дивных, что превыше его разумения. Я убежден, что в другой раз вы обратите на это внимание».
Скажу вам, что это лекарство оказалось столь действенным, что излечило меня от этого сладкого заблуждения и заставило вернуться к моей прежней манере.
*В оригинале использован непереводимый каламбур. Французское слово flatteuses (льстивые) созвучно со словом, означающим метеоризм. Слово venteuses означает одновременно и «ветреные/пустые», и «вызывающие ветры». Таким образом, св. Франциск говорит, что льстивая проповедь, подобно бобам, вызывает лишь пустое «вздутие» духа (тщеславие), не давая истинного насыщения.
На следующий день он велел мне проповедовать в монастыре Дочерей святой Клары. Он и сам там присутствовал, и собрание было не меньшим, чем накануне. Я всячески остерегался натолкнуться на тот риф, который он мне указал: я построил свою речь с великой простотой языка и мысли, стремясь чисто к назиданию. Я действовал с большим порядком и твердо держался своего предмета.
По возвращении наш Блаженный пришел навестить меня в моей келье, которая на самом деле была его, — ибо, принимая меня у себя, он всегда уступал мне собственную комнату. И, нежно меня обняв, он сказал: «— Поистине, весьма любил я вас вчера, но сегодня люблю еще несравненно больше. Вы, по правде говоря, пришлись мне по сердцу, и, если не ошибаюсь, угодны и Самому Богу. Думаю, что и Он принял вашу жертву как угодную. Не думал я, что вы столь податливы и уступчивы. Воистину, „человек покорный будет говорить о победах“ (ср. Притч. 21:28), а вы сегодня превзошли самого себя.
Знаете ли вы, что большинство ваших слушателей говорили: „Дни следуют один за другим, но не похожи друг на друга“, и что они были не так довольны, как вчера? И что тот, кто не был удовлетворен вчера, сегодня удовлетворен чрезвычайно?
Сим я дарую вам полное прощение за все ваши прошлые проступки. Вы сегодня поступили всецело по моему желанию. А если будете так продолжать, окажете великую услугу Хозяину виноградника.
Проповедь не должна опираться на слова и мысли человеческой мудрости, но на явление духа и силы (ср. 1 Кор. 2:4). Будьте верны этой манере, и Бог дарует вашим трудам и почет, и благое завершение. Вы будете благоразумны в духовном слове и овладеете наукой Святых — той наукой, что творит Святых.
И что мы хотим знать, кроме Иисуса, и притом распятого?» (ср. 1 Кор. 2:2).
Святой Григорий весьма хорошо сказал, что когда хвалят мудрого человека в его присутствии, то оскорбляют его слух и ранят его сердце. Наш Блаженный был именно таков. Тот, кто с любвеобильно принимал оскорбляющих его, с готовностью сам ответил бы оскорблением тем, кто говорил ему малейшую похвалу.
Однажды, проповедуя перед ним в Анси, я, вспомнив слова, которые однажды сказал ему владыка епископ Салуццо: «Tu sal es, ego vero neque sal neque lux» («Ты — соль, я же — ни соль, ни свет»), позволил себе легкий намек на его имя и сказал, что он и есть та соль, которой приправлена вся масса этого народа*.
Эта похвала произвела на него столь дурное впечатление, что по возвращении он упрекнул меня с интонацией, которая была бы суровой, если бы он вообще был способен на суровость. «— Вы шли так прямо, — сказал он мне, — вы так хорошо бежали, что заставило вас совершить этот неверный шаг? Знаете ли вы, что вы все испортили, и что одно это слово может лишить всю вашу Проповедь доверия? Разве привносить слово человеческое в чистое золото слова Божия — не значит портить его примесью? А разве похвала живым — это не слово человеческое? Разве не написано: „Никого не хвали прежде смерти его“?» (Сир. 11:28).
«Хороша же соль! Соль, потерявшая свою силу и испорченная, которая ни на что не годна, как разве выбросить ее на улицу, под ноги прохожим. Я жалею о стольких добрых семенах, заглушенных горстью плевел. Воистину, если вы сказали это, чтобы посрамить меня, вы нашли верный способ».
*Здесь автор (Ж.-П. Камю) обыгрывает фамилию святого (Sales), которая созвучна с латинским выражением sal es («ты — соль») и французским sel («соль»).
Он не мог не знать о великом почтении, которое не только его народ, но и весь мир питал к его благочестию. Эта слава часто смущала его пред Богом, и он много раз краснел перед людьми, когда видел или слышал, что его считают святым мужем и верным рабом Божиим.
Не было в его обычае произносить смиренные речи, говоря о себе; он избегал их, словно рифов, грозящих крушением смирению. Он был щепетилен до такой степени, что упоминал о себе — с похвалою ли, порицанием, или просто безразлично — лишь словно бы по принуждению. Он говаривал иногда, что речь о себе — дело не менее трудное, чем канатоходство, и что надобно иметь надёжный противовес, чтобы не упасть, и обладать необычайной осмотрительностью, чтобы не оступиться.
«Видите ли, — говорил он, — по милости этих добрых людей со всеми их похвалами и почтением, я в конце концов соберу весьма горький плод их дружбы. А именно, они обрекут меня томиться в Чистилище из-за того, что не будут молить Бога за мою бедную душу, когда я умру, воображая, будто она отправилась прямиком в Рай. Вот и вся польза, которую принесет мне эта репутация.
Я предпочел бы найти в них плод добрых дел и елей милосердия, нежели листья стольких пустых рукоплесканий и тщетных похвал. Один золотник дела дороже пуда слов. Говорят о „придворной святой (bénite) воде“*, а я называю это „святой водой мира сего“. Это — сладкие благословения (bénédictions), ведущие к горькой богооставленности».
* Французская идиома «eau bénite de Cour» означает пустую, лицемерную лесть. Св. Франциск по аналогии называет тщетную мирскую похвалу «святой водой мира сего».
Я начал писать очень молодым и слишком рано — печататься. И когда я однажды каялся нашему Блаженному в этой поспешности, он отвечал мне, что на сей счет можно составить два противоположных суждения, и оба они будут подкреплены добрыми доводами.
«— Самое распространенное мнение, — сказал он мне, — состоит в том, что писать надобно поздно, а говорить — рано. Один молодой Монах, который был Священником и Проповедником, написав книгу, которую желал выпустить в свет, принес ее своему Настоятелю, чтобы получить дозволение. Тот, взяв его книгу и пообещав прочесть ее на досуге и высказать свое суждение, сказал ему лишь краткое слово: „Отче мой, неужели вам больше нечему учиться?“, и на том его оставил. Словно бы он хотел сказать: „Не во время учения надобно писать книги, но после того, как многому научился“.
Наш Блаженный полагал, что плоды этого рода созревают лишь поздней осенью. Что до плодов Проповеди, то их свежесть приятна, и они более питательны Весной и в летний зной.
Для письма требуется больше свинца; для речи — больше ртути.
С другой стороны, некоторые считают, что хорошо писать и публиковаться рано, поскольку так есть возможность внести исправления во вторые издания. Можно узнать, куда дует ветер общественного мнения, и вовремя отступить, если не преуспеешь.
Добавьте к этому, что так и человек наслаждается плодами своего труда, подобно тем, кто строит или сажает в юности.
Мнение первых несколько сурово, а мнение вторых — более снисходительно. И то, и другое, впрочем, не так уж и важно, лишь бы конечной целью всякого труда был Сам Бог.
Те, кто откладывает публикацию трудов до своей кончины, дабы не впасть в тщеславие от рукоплесканий и похвал, поступают неплохо, при условии, что это и есть их истинный мотив. Но если это делается для того, чтобы не испытывать досады от порицаний и упреков, то это значит бежать от одного тщеславия, чтобы впасть в другое.
Во всем превосходна золотая середина. И писать в зрелом возрасте тому, кто имеет этот талант, — совет весьма благоразумный, ибо еще остается достаточно жизни для исправления ошибок. А за талант, что дарован Богом, придется дать ответ Богу. А опасаться различных суждений — это все равно что бояться путешествовать летом из-за мух».
Когда умирал кто-либо из его друзей или знакомых, он неустанно говорил о них доброе и призывал всех молиться о них.
Обыкновенно он говорил: «Мы недостаточно помним о наших мертвых, о наших дорогих усопших. И доказательство тому — то, что мы недостаточно о них говорим. Мы уклоняемся от этой беседы, как от предмета зловещего; мы позволяем мертвым погребать своих мертвецов (ср. Мф. 8:22). Память о них угасает у нас вместе со звоном колоколов. И мы не думаем о том, что дружба, которой и сама смерть может положить конец, никогда не была истинной, ибо само Писание говорит нам, что истинная любовь сильнее смерти» (ср. Песн. 8:6).
После смерти в похвалах уже нельзя заподозрить лесть. И как есть своего рода нечестие в том, чтобы терзать репутацию мертвых, уподобляясь тем свирепым зверям, что выкапывают тела, дабы их пожрать, так же и в рассказе об их добрых качествах проявляется благочестие, ибо это побуждает нас к подражанию им.
Добавлю, что он часто говаривал: «Лишь одно это дело милосердия [молитва за усопших] вмещает в себя и все тринадцать прочих».
«Разве мы не посещаем некоторым образом больных, — говорил он, — когда своими молитвами испрашиваем облегчения для бедных душ, что пребывают в Чистилище?
Разве мы не даем пить тем, кто так жаждет лицезрения Божия и находится посреди того жестокого пламени, уделяя им от росы наших молитв?
Разве мы не кормим алчущих, помогая их освобождению теми средствами, которые внушает нам вера?
Разве мы не искупаем воистину пленников?
Разве мы не одеваем нагих, испрашивая для них одеяние света, и света славы?
Разве это не выдающееся гостеприимство — способствовать их введению в небесный Иерусалим и делать их согражданами святых и своими в доме Божием в вечном Сионе?
Разве поместить души на Небо — не большее служение, чем погребать тела и предавать их земле?
Что до духовных [дел милосердия], разве это не деяние, заслуга которого сравнима с тем, чтобы давать совет простым, исправлять ошибающихся, учить невежественных, прощать обиды и сносить несправедливости? И можно ли утешить скорбящих сего мира так, как утешают наши молитвы те бедные души, страдающие столь мучительно?».
Святой Карл Борромео читал святое Писание только на коленях, словно слушал Бога, говорящего на горе Синай посреди огней и громов. И наш Блаженный требовал, чтобы к Писанию прикасались — будь то в публичной речи, в письме или в частном чтении — лишь с крайним благоговением.
Он был против того, чтобы проповедник сразу углублялся в мистический смысл, не объяснив предварительно смысла буквального. «В противном случае, — говорил он, — это все равно что строить крышу дома прежде фундамента. К Священному Писанию надобно подходить с большей основательностью и почтением. Это не та ткань, которую можно кроить по своему усмотрению, чтобы сшить себе из нее наряды на свой лад».
Когда истинный смысл буквы был объяснен, тогда он позволял извлекать из него нравоучения и применять их к жизни. Но и здесь он требовал великой рассудительности, без «притягивания образов за уши». В противном случае он называл их «искаженными образами» и нравоучениями, подобными колокольному перезвону, в котором каждый слышит то, что хочет.
Вот пример его щепетильности на сей счет. Однажды, проповедуя перед ним, я применил — а это расхожее изречение — слово Пророка «С милостивым Ты поступаешь милостиво, а с лукавым — по лукавству его» (ср. Пс. 17:26-27) к заразительности дурных сообществ. Я тотчас заметил, что он не доволен. А после, когда мы остались наедине, он спросил меня, почему я так исказил этот отрывок, хорошо зная, что это не есть его буквальный смысл. Я сказал ему, что это была аллюзия. «Я понимаю, что это была аллюзия, — подхватил он, — но по крайней мере вы должны были сказать, что это — не буквальный смысл. Ибо согласно букве, его следует понимать по отношению к Богу, Который благ, то есть милосерден, к тем, кто благ, и строг к тем, кто зол, наказуя одних и милуя других».
По этому можно судить, сколь бережно он обращался со Словом Божиим, ведь он был так строг к другим в этом вопросе — он, который во всем остальном оказывал несравненно больше снисхождения к другим, нежели к себе самому.
В 1610 году я был приглашен проповедовать во время Великого Поста перед Сенатом Савойи в столице Провинции, городе Шамбери. Едва ли прошло шесть месяцев с тех пор, как я принял епископское рукоположение из рук нашего Блаженного.
Я был тогда в пору моей ранней юности, и в памяти моей были еще совсем свежи познания, полученные в Школах, в особенности же в изящной словесности, которую я всегда весьма ценил. И поскольку я мог делиться лишь тем, что знал, то извлекал из ларца своего сердца лишь содержимое сокровищницы моей памяти, вынося на свет множество вещей старых и новых, что хранились у меня в запасе. Примеры их можно увидеть в тех моих «Разнообразных историях»*, что являются первыми — как бы это сказать..? опытами или всё-таки уже плодами (efforts ou effets) — моего ума.
До Блаженного, который находился в своей резиденции в Анси, за семь лиг оттуда, донесли, что речи мои были сотканы из одних лишь цветов и благоуханий, привлекающих всех слушателей, подобно пчелам, летящим на сахар и мед.
Он же, будучи искусен в этом искусстве, судил об этом совершенно иначе и желал бы [слышать в моих проповедях] больше божественных словес, нежели человеческих, больше действенной силы духа благочестия, нежели остроумных выражений, убедительных для мудрости человеческой.
По этому поводу он написал мне прекрасное письмо, в котором извещал меня, что благоухание моих ароматов доносится до него. Он сравнивал себя с Александром, который, плывя к Островам Блаженных, угадывал их близость по благоуханиям, которые ветер, скользя по глади морской, доносил до его кораблей.
Но, спрятав горькую пилюлю в сладкой оболочке, он вонзив ланцет, сказал мне, что после того, как столько гонцов ежедневно доносили ему, будто ложе наше все в цветах, убранство наше все из кипариса и кедра, а наши цветущие виноградники повсюду распространяют свое благоухание, и что в цветнике нашем видны одни лишь цветы, и что Весна наша улыбается отовсюду (ср. Песн. 1:13-15), — он ждет других [гонцов], которые принесли бы ему вести о Лете и об Осени, о жатве и о сборе винограда. «Я всё слушаю, — писал он, — an flores fructus parturant (не принесут ли цветы плодов, ср. Вульг. Песн. 7:12)».
В завершение он советовал мне обрезать на моей виноградной лозе лишние побеги изящной словесности, — tempus putationis advenit (ибо настало время подрезки, ср. Вульг. 2:12), — подстричь ее и отсечь все множество чуждых украшений.
И хотя похвально использовать сосуды Египетские на службу Скинии, делать это надобно, тем не менее, сдержанно. [Он напоминал]: Рахиль, правда, была милее, но менее плодовита, чем Лия. Толкование Евангелия должно соответствовать его стилю и его простоте. Теологии не из таковых, кому следует щёки белить и румянить. И гораздо более следует остерегаться порчи слова Божия, нежели государственной монеты.
[Он написал и] множество других подобных наставлений, которые сделали меня с тех пор куда более сдержанным и умеренным в отношении этих яств, скорее пустых, чем сытных, и внимательнее к стяжанию той пищи, «пребывающей в жизнь вечную» (ср. Ин. 6:27), которую столь настоятельно заповедует нам Писание.
* «Les Diversités» — одно из многочисленных произведений самого автора, Жан-Пьера Камю.
Когда епископ Женевский помышлял о том, чтобы сделать нашего Блаженного своим коадъютором, наш Блаженный занемог и дошел до такой крайности, что Врачи отчаялись в его жизни.
Ему объявили об опасности, в которой он находился, что он воспринял со столь ясным челом, словно видел Небеса отверстые, готовые его принять.
Наш Святой, безразличный к смерти и к жизни, не говорил ничего иного, кроме: «Я — Божий; да сотворит Он со мной по Своему благому изволению».
И когда однажды в его присутствии сказали, что ему следует желать жить, если не для служения Церкви, то хотя бы ради покаяния, он ответил: «— Воистину, рано или поздно надобно умереть. И в какой бы час это ни случилось, мы всегда будем нуждаться в великом милосердии Божием. Лучше ввериться Его милосердию сегодня, чем завтра.
Он всегда неизменен в Своей благости и богат милостью к тем, кто Его призывает; а мы — всегда дурны. Кто скорее завершил свой бег, тому и меньший отчет давать. Я вижу, что на меня хотят возложить бремя, не менее устрашающее, чем смерть, и если бы все зависело от моего мнения, мне было бы весьма трудно выбирать. Лучше ввериться попечению Провидения; лучше почивать на груди Христой, чем где угодно бодрствовать. Бог любит нас, Он знает, что нам нужно, лучше нас самих. „Живем ли мы, или умираем, — всегда Господни“ (Рим. 14:8).
У Него ключи жизни и смерти. Уповающие на Него никогда не бывают посрамлены. „Пойдем и мы и умрем с ним“» (Ин. 11:16).
И когда ему с сожалением говорили, что он умирает во цвете лет, — ибо ему было тогда лишь тридцать пять, — он ответил: «— Господь наш умер еще моложе. Число наших дней — пред Ним. Он умеет собирать Свои плоды во всякое время года.
Не будем же отвлекаться на все эти частности; будем взирать лишь на Его пресвятую волю. Да будет она нашим славным крестом; она приведет нас к Иисусу Христу — и к Его яслям, и на Его Голгофу. „Кто следует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“ (Ин. 8:12), жизни вечной, смерти уже неподвластной».
«Великое приобретение, — говорит Священное Писание, — быть благочестивым и довольным» (1 Тим. 6:6). Так и наш Блаженный умел довольствоваться тем малым, что оставалось ему от доходов его Епископства.
«Разве двенадцать сотен экю годового дохода — это не много? — говаривал он. — Разве и этого не довольно? Апостолы, которые несравненно превосходили нас в епископском достоинстве, не имели и того. Мы не достойны служить Богу за свой собственный счет.
О, если бы Бог лишил нас и этого остатка, но зато чтобы католическая вера пользовалась Женеве такою же свободой, как в Ла-Рошели, и чтобы у нас там была, как и здесь, небольшая Часовня... за короткое время она достигла бы там большого успеха. В народе больше расположения [к истине], чем думают; просто государственный интерес, прикрываемый мнимой свободой, вытесняет там интерес [защиты] веры».
Он жил в Анси в очень красивом и просторном съёмном доме. Покои его были поистине прекрасны, но он удумал поселиться в маленькой, темной и довольно неприятной комнатке и называл её «комнатой Франциска», а ту, где он принимал светских особ, — «комнатой Епископа».
Это напоминает мне о святом Карле Борромео, у которого была маленькая келья на верхнем этаже его Дворца, наподобие кельи Юдифи, куда он удалялся для молитвы и где спал на соломе, называя эту келью «комнатой Карла», а ту, что была открыта для просителей, — «комнатой Кардинала».
Однажды он сказал мне, показывая рясу, которую ему сшили и которое он носил под сутаной: «Мои люди творят маленькие чудеса, ибо из старой мантии они сшили мне этот совершенно новую рясу. Ну не сделали ли они из меня франта?». «Это чудо, — сказал я ему, — кажется, превосходит чудо сынов Израилевых, чьи одежды не ветшали в течение сорока лет, пока они пребывали в пустыне; ибо ваши ухитряются обновлять изношенное».
Иногда его эконом жаловался, что денег больше нет. «О чем вы печалитесь? — говорил он ему. — Этим мы лишь более уподобляемся нашему Учителю, у Которого не было и камня, где преклонить голову». «Но где же их взять?» — говорил эконом. «Сын мой, — отвечал он, — надобно жить хозяйством». «Воистину, — говорил тот, — самое время хозяйствовать, когда уже ничего не осталось». «Вы не понимаете меня, — подхватил Блаженный. — Я имею в виду, что нам надобно продать или заложить что-нибудь из нашего хозяйства, чтобы жить. Разве это, друг мой, не значит „жить хозяйством“?».
Однажды я подивился, как он может содержать свой дом при столь малом доходе. «Это Бог, — сказал он, — умножает пять хлебов». Когда же я настойчиво просил его рассказать, как это происходит, он с доброй улыбкой отвечал: «Это не было бы чудом, если бы об этом можно было рассказать. Разве не великое счастье — жить так, чудом? По милости Господа мы не исчезли» (ср. Плач. 3:22). «Своими ответами вы обращаете в прах всю мою мудрость», — сказал я ему. «— Видите ли, — подхватил он, — богатства суть истинные терния, как учит нас Евангелие. Они колют тысячью скорбей при их приобретении, еще большими заботами — при их сохранении, еще большими хлопотами — при их трате, и еще большими огорчениями — при их потере.
Впрочем, мы лишь их арендаторы и экономы, в особенности если это достояние Церкви, которое есть наследие бедных. Важно найти верных управителей. „Имея пропитание и одежду, будем довольны тем“ (1 Тим. 6:8). Чего нам еще желать? Quoa amplius est a malo est. (ср. „А что сверх этого, то от лукавого“ (Мф. 5:37)).
Хотите, я скажу вам откровенно? Я хорошо знаю, как управляться с тем, что имею. Мне отмерено немного. Будь у меня больше, я был бы в затруднении, как этим распорядиться. Разве не счастье — жить, как беззаботное дитя? Для каждого дня достаточно своей заботы (ср. Мф. 6:34). Кто имеет больше, с того больше и спросится».
Среди добродетелей он высоко ценил ту, что помогает нам кротко сносить назойливость ближнего. «Немного кротости, — говорил он, — умеренности и скромности, — вот и все, что для этого нужно.
Когда речь заходит о терпении, можно подумать, будто его следует проявлять лишь при страданиях от тех скорбей, что приносят нам славу. Между тем, пока мы ожидаем этих великих и выдающихся событий, которые происходят в жизни редко, мы пренебрегаем малейшими. И мы не только ни во что не ставим терпеливое отношение к назойливости ближнего, но, напротив, почитаем за слабых тех, кто ее сносит.
Мы воображаем, будто наше терпение способно вынести великие скорби и оскорбления, и при этом впадаем в нетерпение от малейшей назойливости.
Нам кажется, что мы могли бы помогать ближнему, служить ему и облегчать его страдания в тяжких и долгих болезнях, и при этом мы не можем снести его дурное расположение духа, его грубость, его невежливость, и особенно — его назойливость, когда он приходит некстати, не вовремя, чтобы занять нас вещами, которые нам кажутся легковесными или суетными.
И здесь мы начинаем самодовольно оправдываться в нашем нетерпении, ссылаясь на ценность времени, в отношении которого одного, как сказал один из древних, скупость похвальна. И мы не видим, что тратим его на множество других, куда более тщетных дел, нежели внимание к ближнему, и, возможно, менее серьезных, чем те, которыми он нас занимает и которые мы называем потерей времени.
Когда беседуешь с ближним, надобно радоваться этой беседе и выказывать свою радость. А когда ты один, надобно находить удовольствие в уединении. Но беда в том, что непостоянство нашего духа побуждает нас всегда оглядываться назад: в обществе мы вздыхаем об уединении, а в уединении, вместо того чтобы наслаждаться его сладостью, мы желаем общения.
Надобно иметь дух более ровный и рассудительный. И во время, предназначенное для отдыха, любить отдых; и так же любить чтение, молитву, труд в часы, для них предназначенные, и молчание, когда оно предписано правилом послушания. Так мы сможем сказать с Пророком: „Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих“ (Пс. 33:2). Ибо благословлять и хвалить Господа во всякое время — это и значит любые поступки: благие и повседневные, да и бегство от поступков дурных, совершать во славу Его».
«Собаки лают не на домашних, а на чужих. Дьяволу нет нужды искушать тех, кто ищет искушения сам и кто ему и так принадлежит.
Когда он донимает и мучит какое-либо сердце, это знак того, что он не имеет над этим сердцем власти. И чем пуще он усиливает искушение, тем явственнее это указывает на выдающуюся добродетель, ибо мощные нападения он совершает лишь на самые сильные крепости, которые оказывают ему наибольшее сопротивление.
Если бы мы умели извлекать добрую пользу из искушений, — говорил наш Блаженный, — то вместо того чтобы их страшиться, мы бы сами их накликивали и, я бы даже сказал, желали их. Но поскольку наша немощь и наше малодушие слишком хорошо известны нам по многим опытам и печальным падениям, у нас есть веская причина говорить: „Не введи нас во искушение“.
И все же, если бы к этому справедливому недоверию к самим себе мы присоединяли упование на Бога (Чья сила избавить нас от искушения превосходит нашу слабость, из-за которой мы можем в нем погибнуть), то наши надежды укрепились бы по мере умаления наших страхов. Мы сказали бы с Пророком: „Тобою мы будем избавлены от искушения, и помощью Твоею, о Боже мой, мы преодолеем все преграды, которые, подобно стене или крепости, противостоят нашему спасению“. С такой помощью мы, без сомнения, сможем смело наступать на аспида и василиска, и попирать ногами льва и дракона (ср. Пс. 90:13).
Ибо как в великих искушениях мы познаем величие нашего мужества и нашей верности Богу, так и в этих случаях мы возрастаем в добродетели и учимся владеть оружием нашей брани, которую мы ведём духовно, против злобы наших незримых врагов (ср. Еф. 6:12).
Именно тогда наша душа, вся облеченная в благодать, предстает пред ними столь же грозной, как полк, построенный к битве (ср. Песн. 6:3).
Есть те, кто думает, что все потеряно, когда их терзают богохульные и нечестивые помыслы, и воображают, будто у них больше нет веры. Однако, пока эти помыслы им неприятны, они не могут им повредить, и эти порывистые ветры лишь помогают им пустить более глубокие корни в вере. То же самое следует сказать и об искушениях против чистоты, и о прочих».
О ежедневном служении святой мессы.
Один молодой клирик, уже бывший пастырем, довольствовался тем, что служил мессу лишь по воскресеньям и праздникам. Поскольку наш Блаженный весьма его любил, он придумал такое средство, чтобы побудить его служить ежедневно.
Он преподнес ему в дар ларец, обтянутый красным атласом, весь в золотом и серебряном шитье, украшенный несколькими жемчужинами. И прежде чем вручить ему этот ларец, он сказал: «— Я хочу просить вас об одной милости, в которой, я уверен, вы мне не откажете, поскольку она касается лишь славы Божией, я знаю, что ваше сердце только её и ищет». Пастырь сказал ему: «Повелевайте». «— О нет, — возразил Святой, — я говорю не повелевая, но прося, и притом — прося во имя Божие и ради любви Его».
Молчание этого юного Пастыря лучше всяких слов свидетельствовало о его расположении. Тогда Блаженный, открыв ларец, показал ему, что он полон еще не освященных облаток, и сказал: «— Вы — Священник, Бог призвал вас к этому званию, и более того — к Пастырству. Хорошо ли было бы, если бы Ремесленник, Судья или Врач вздумал заниматься своим ремеслом лишь один-два дня в неделю? Вы имеете священный сан, дающий вам власть служить святую Мессу каждый день, почему же не пользоваться ею?
У вас, слава Богу, нет ничего, что мешало бы этому. Я знаю вашу душу, насколько вообще душа может быть познана. Более того, я вижу, что все вас к этому побуждает. Итак, я делаю вам этот подарок и умоляю вас: поминайте у святого Алтаря того, кто говорит с вами ныне от имени Бога».
Юный пастырь был несколько удивлен и, не смея противиться столь веским словам, удовольствовался тем, что представил на суд святого Прелата свои душевные немощи, свою юность, недостаток самообуздания и страх злоупотребить столь великим Таинством, ибо жизнь его была недостойна того, чтобы столь часто его совершать.
«Все эти оправдания, — подхватил Блаженный, — обернулись бы столькими же обвинениями, захоти я их разбирать. Но не будем входить в прения; довольно и того, что вы вверились моему суждению. Итак, я говорю вам (а, думаю, и я имею духа Божия (ср. 1 Кор. 7:40)), что все доводы, которые вы приводите, чтобы уклониться от ежедневного служения, суть те самые, которые вас к нему обязывают.
Именно это святое действо при частом свершении и позволит вам, мой юный друг, достичь зрелости, облегчит самообуздание, ослабит ваши искушения, укрепит вас в ваших немощах, осветит ваши пути. А по мере того, как вы будете творить его, достигнете в том совершенства.
Впрочем, если даже недостоинство ваше и будет по смирению отвращать вас от него, что случалось некогда со святым Бонавентурой, и если бы это делание приносило вам меньше пользы из-за вашего нерасположения, подумайте о том, что вы — лицо публичное. Ваши овцы и ваша Церковь в этом нуждаются, а усопшие — и подавно. И более всего, в те дни, когда вы от этого воздерживаетесь, вы препятствуете приумножению славы Божией, лишаете Ангелов радости [лицезреть Святую жертву], а блаженных — несравненной утехи».
Клирик, вняв этому совету, сказал: «Fiat, fiat» («Да будет, да будет»). И с тех пор в течение тридцати лет не упускал возможности [отслужить Мессы] без важной причины.
Один Прелат не дозволял женщинам, какого бы звания они ни были, входить в его дом, основываясь на примере и совете святого Августина. По этой причине он велел устроить в одной из часовен своего рода приемную с решетками, где он с ними и говорил.
Блаженный, который любил этого Прелата, не порицая его суровости, довольствовался тем, что любезно улыбался и говорил, что этот Прелат — Пастырь лишь наполовину, раз уж он так отделяет себя от половины своего стада.
Наслушавшись жалоб, Блаженный, пообещал поговорить с ним. Прелат в свою защиту сослался на свой еще молодой возраст, на опасение стать предметом пересудов, на страх впасть в грех из-за этих бесед, на советы древних Отцов по этому поводу, на добрый пример, который это подавало другим Клирикам, и на множество подобных причин.
Наш Блаженный похвалил его рвение и предосторожность, но сказал ему, что вместо того, чтобы прибегать к этой внешней суровости, можно найти средство более легкое, более надежное, доставляющее меньше неудобств и навлекающее на себя меньше порицаний и осуждения. «Никогда, — сказал он, — не говорите с женщинами иначе как в присутствии нескольких человек. И дайте вашим слугам прямое указание никогда не терять вас из виду, когда какая-либо женщина пожелает с вами посоветоваться.
Я не говорю, что слугам непременно необходимо слышать то, что вы говорите посетительницам, ибо это не всегда уместно, и часто речь идет о делах совести. Но по крайней мере пусть их глаза следят за вами и будут свидетелями вашего поведения.
Если же вы дадите дозволение тому из ваших Капелланов, которому вы вверяете сокровищницу вашей внутренней жизни, делать вам замечания касательно ваших жестов или ваших действий, поверьте, все это будет надежнее всех решеток в мире, будь они хоть из железа и сплошь утыканы шипами».
И тому же совету, который он давал другим, он следовал и сам. Ведь хотя дом его и был открыт для всего мира, он никогда не говорил с женщинами, в каком бы месте он ни был, без свидетелей, которые внимательно за ним следили.
Он дал ему и другой совет, касающийся писем. «Никогда не пишите женщинам без крайней необходимости, — сказал он ему, — кроме как в ответ; никогда — по собственному почину, если только речь не идет об особах, находящихся вне всякого подозрения, как то: мать, сестра, женщина в весьма преклонных летах. И даже тогда — редко и кратко.
Писать женщине, будь на то возможность, следовало бы не кончиком пера, а острием ножичка — чтобы не сказать ни единого лишнего слова».
Он часто ловил на слове того или ту, кто произносил в его присутствии самоуничижительные речи. И даже усугублял их, дабы вызвать спасительное смущение в особе, их произносившей, и предостеречь ее от того, чтобы впредь так поступать. Ибо он был уверен, что большинство из тех, кто говорит подобное, были бы весьма огорчены, если бы им поверили, что они таковы, как говорят. Вот два примечательных примера.
Будучи новопоставленным епископом, я считал, что он требует от меня подвигов слишком высокого совершенства. «Но, Отче мой, — сказал я ему однажды, — неужели вы забыли, что я только что из мира, что я оказался наставником, не побыв прежде учеником? Вы говорите со мной как с человеком, весьма преуспевшим в благочестии и способным учить ему других, а я едва стою у порога».
«Это правда, — сказал он мне, — и я верю в это больше, чем вы, и, возможно, вижу так же хорошо, как и вы, все то, что вы говорите. Я смотрю на вас как на человека, спасшегося при кораблекрушении или вышедшего из пожара и ещё разящего гарью. Но после всего вы теперь — Епископ. Надобно иметь отеческие чувства, надобно устремлять свое мужество к совершенству. И не следует довольствоваться тем, чтобы пить воду из своего колодца, надобно делиться ею с другими (ср. Притч. 5:15). Бог, разум, ваш сан — все требует этого от вас. Не время оглядываться назад, если вы не хотите превратиться в соляной столп (ср. Быт. 19:26).
Если вы будете уповать на себя, вы никогда ничего не совершите. Но если вы уповаете на Бога, чего вы только не совершите? Вы сможете все. Ему угодно являть Свое могущество в нашей немощи, Свою силу — в нашей слабости, и посрамлять то, что есть, тем, чего нет (ср. 1 Кор. 1:28). Недоверие к себе — вещь весьма добрая, при условии, что за ней следует упование на Бога. И чем более мы преуспеваем в последнем, тем более пользы извлекаем из первого. Смирение, которое ввергает в уныние, — не есть доброе смирение».
Другой пример касается одной сестры, которая, будучи избрана Настоятельницей, отказывалась принять [должность], всячески подчеркивая свое недостоинство. В ответ на это наш Блаженный взял слово и, усугубляя то, на что она ссылалась, сказал ей, что, по правде говоря, между «девой» и «листом»* разница невелика; что всем сестрам хорошо известны ее неспособность, скудость ее духа, слабость ее суждения, ее неискушенность в делах управления, ее всем явные несовершенства, ее дурной пример; и что, возможно, Бог и допустил ее избрание, чтобы исправить ее от всех ее недостатков, или по крайней мере, чтобы она постаралась их скрыть, видя, что стала зрелищем для Бога, Ангелов и человеков (ср. 1 Кор. 4:9).
Пусть она убедит себя, что не ей вверяют эту Общину, а Богу, Который избирает неразумное, чтобы посрамить и наставить мудрых, — Ему, Который пожелал спасти нас безумием Креста (ср. 1 Кор. 1:21). Пусть она помнит, что тростник из пустыни в руке Иисуса Христа становился колонной Храма; пусть она крепко держится за эту спасительную руку, которая никогда не оставляет тех, кто взывает о ее поддержке.
Извлеките пользу из этих двух примеров и научитесь избегать слов тщеславия, которые надевают личину смирения и облекаются в покровы утонченности.
*В оригинале использована непереводимая игра слов, основанная на созвучии французских слов fille (дева, дочь) и feuille (лист), призванная подчеркнуть податливость и уязвимость.
Когда я спросил его, каково наилучшее расположение для благой кончины, он спокойно отвечал: «Любовь».
Я сказал ему, что хорошо знаю: тот, кто не пребывает в любви, пребывает в смерти, и что умереть в Господе — значит умереть если не в самом состоянии (l’acte), то по крайней мере в готовности (l’habitude)* к любви, объемлющей все прочие добродетели и вносящей их в душу. Но что я желал бы знать, — предполагая, что любовь уже есть, — какие добродетели, оживляемые и одушевляемые любовью, наиболее приличествуют этому моменту.
Он сказал мне: «Смирение и упование». И чтобы изъясниться в своей любезной манере, он добавил: «— Ложе благой кончины должно иметь своим тюфяком любовь. Но хорошо, чтобы голова покоилась на двух подушках: смирения и упования. И чтобы человек испускал дух со смиренным упованием на милосердие Божие.
Первая из этих подушек, смирение, дает нам познать наше убожество и заставляет нас трепетать от страха, но от страха, исполненного любви (ибо я предполагаю, что он одушевлен любовью), который зачинает и рождает в нас дух спасения. Смирение мужественное и великодушное, которое, повергая нас ниц, возносит нас в Боге и заставляет нас опираться на Него одного.
С этой первой подушки легко перейти на другую, а именно — упования на Бога. Что же есть это упование? Не что иное, как надежда, укрепленная размышлением о бесконечной благости нашего небесного Отца, Который сильнее нас самих желает нам блага. О Боже, я уповал на Тебя, да не постыжусь вовек (ср. Пс. 30:2). Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, и воспарят, и не упадут (ср. Ис. 40:31)».
____
* Речь идёт о томистическом различении реально совершающегося «акта» и готовности, обусловленной «привычкой».
Светлейший Карл-Эммануил, герцог Савойский, был одним из самых выдающихся государей своего времени, редкого ума и весьма искушен в политике.
Я сказал однажды нашему Блаженному, что этот государь, в чьих владениях он родился и где жил, кажется мне, совершает заметную ошибку, не привлекая его к своим делам. Ибо не было бы такого дела, особенно во Франции, которое он бы ему ни поручил и которое не увенчалось бы успехом согласно его желанию. «Ибо, — говорил я ему, — помимо вашего благоразумия, которое неведомо лишь вам одному, и вашей ловкости, кротости и терпения в переговорах, молва о вашей честности и вашем благочестии столь всеобща, что, прежде чем вы успели бы открыть уста, вам бы уступили в любой просьбе.
Дело должно было бы быть совсем безнадежным, — добавлял я, — чтобы оно не увенчалось успехом в ваших руках. Я даже думаю, что вы бы справились и с невозможным». «Воистину, — сказал он мне, — вы говорите слишком много, и ваше красноречие чрезмерно. Вы воображаете, что другие меня ценят так же, как и вы, ибо вы смотрите на меня лишь сквозь увеличительное стекло дружеской пристрастности. Но оставим это как оно есть.
Мое же суждение о нашем государе весьма отлично от вашего, ибо именно в том, о чем вы говорите, я и нахожу проявление его великой рассудительности. Ведь, помимо того, что я не признаю за собой такой ловкости и такого благоразумия в ведении политических дел, как вы себе представляете, я скажу вам, что одни лишь слова „расчётливость“*, „дела“ и „политика“ наводят на меня страх, и я так мало в них разбираюсь, что это малое — есть ничто».
Он добавил: «Я доверю вам одну тайну, но как друг и на ухо, причём даже на ухо сердца: я совершенно не владею ни искусством лгать, ни скрывать, ни ловко притворяться, а ведь это — главная пружина в ведении политики и искусство из искусств в делах мирского благоразумия.
Ни за все владения Савойи, ни Франции, ни всей Империи я не понес бы за пазухой лживого донесения. Я поступаю на старинный галльский манер, во всем с доброй верой и со всей простотой. Что у меня на уме, то и на языке. Я не могу говорить с сердцем двоящимся (ср. Пс. 11:3), зная, что мерзок пред Господом человек лукавый. Всякий, кто меня знает, знает и эту мою особенность. Поэтому совершенно справедливо считают, что я ничуть не гожусь для того, что зовется Политикой. Кроме того, я всегда почитал как небесное, верховное и божественное правило это великое слово Апостола: тот, кто посвящен Богу, не должен вмешиваться в дела мирские» (ср. 2 Тим. 2:4).
________
* prudence в общем случае означает «благоразумие» и является одной из кардинальных добродетелей, но в данном случае имеется в виду мирская ловкость, политическая осмотрительность и дальновидность, которой св. Франциск был чужд, похоже, хотя по своему смирению заодно и отрицал наличие у себя и наличие соответствующей добродетели в высоком смысле.
Одна монахиня из Конгрегации Посещения, прожив долгую, полную недугов жизнь с таким образцовым терпением, что приводила в изумление всех, кто видел, как она страдает не только с упованием, но, что еще более примечательно, с радостью, — наконец слегла под натиском жестокой болезни, от которой и умерла.
Примерно за два часа до того, как она испустила дух, позвали нашего Блаженного, чтобы он сопутствовал ей в этом последнем переходе. Блаженный, который давно знал эту душу и которому было ведомо, что Господь наш вел ее крестным путем с редкостным терпением, без всякого труда приготовил ее к смерти. Напротив, ему стоило бы больших трудов, чтобы отговорить ее от желания умереть, если бы не ее совершенная покорность воле Божией.
Эта дева, уже на пороге агонии, но сохранившая, однако, ясный рассудок, совершила все акты веры, любви и сокрушения, к которым Блаженный кротко и неспешно ее побуждал. И вот, верный своей обычной манере, он предложил ей акты смирения, упования и покорности воле Божией. Внезапно, чувствуя острейшие боли, эта добрая монахиня с глубоким вздохом промолвила: «Но, Отче мой, не будет ли в том для меня греха?..».
Блаженный, заподозрив в этом искушение от лукавого и зная, что в этот миг он нападает с великой яростью, чтобы с неистовством увлечь душу к погибели, спросил ее: «Какой грех, дочь моя?». Умирающая: «Увы, дорогой мой Отче, нет, это было бы слишком большим нечестием», — и на этом остановилась.
Блаженного охватила еще большая тревога. «Какое нечестие? — сказал он, — дорогая моя дочь! Что случилось! Кто в этот последний час лишил вас того драгоценного упования, которое Господь наш вложил в вас через меня? Ах! это мои грехи тому причиной». «Нисколько, отче мой, — сказала умирающая, — я уповаю на ваше милосердие более, чем когда-либо; но этим не стоит вам досаждать». «Возможно, — подхватил Святой, — это имеет большее значение, чем вы думаете. Духовные козни искусителя более тонки и коварны, чем вы себе представляете, особенно в предсмертные мгновения, когда он прибегает к еще большим ухищрениям, чем когда-либо. Умоляю вас и заклинаю вас не скрывать от меня того, что причиняет вам боль». «Ах! добрый мой отче, — сказала она, — это было бы слишком большим нечестием по отношению к Господу нашему; именно сейчас я должна быть Ему наиболее покорна». «Дочь моя, — сказал Блаженный, — нет для вас ни большего знака покорности, ни дела, более угодного Ему, чем просто, чистосердечно и доверчиво сказать мне то, что заставило вас вздохнуть». «Отче мой, — сказала она, — я и не такое претерпела; теперь, более чем когда-либо, время подавлять всякую жалость к себе и не давать воли жалобам». «Всякая жертва ниже послушания, — сказал Блаженный. — Я не осмеливаюсь во Имя Его повелеть вам объявить мне о вашем беспокойстве, но я умоляю вас, дорогая моя дочь, по крайней мере избавьте меня от терзающей меня тревоги, ведь знай вы, сколь она мучительна, вы бы сжалились надо мною,». «Отче мой, — сказала она, — у вас достанет силы духа, чтобы не тревожиться и недоумевать из-за такой мелочи». «Вы называете мелочью, — сказал Святой, — спасение души, за которую умер Иисус Христос? Я содрогаюсь при виде опасности, грозящей вашей душе, возможно, из-за сущего пустяка». «Вы правы, отче мой, — сказала она, — ибо это — ничто». «О, какое же это ничто! — воскликнул святой пастырь, — коль из-за него обрекают себя на проклятие и Бог карает его вечной мукой! Увы, моя добрая дочь, неужели мне придется прибегнуть к крайним средствам, чтобы отогнать от вас этого демона злобы, который связывает вам язык и лишает вас дара речи?».
Он уже хотел велеть всем сестрам молиться, и тут умирающая сказала ему прерывающимся и тихим голосом: «Что ж, отче мой, если вы повелеваете мне это в силу святого послушания, я скажу вам, в чем дело». «На этом и порешим, — сказал Блаженный, — о, как вы меня утешаете! Воистину, вы снимете с моего сердца мельничный жернов. Душа моя в тисках, доколе вы не даруете мне этого утешения». «Но, отче мой, уверяете ли вы меня, что в этом нет греха?». «О, дочь моя, без сомнения, грех был бы в том, чтобы не сказать после такого повеления. Будьте уверены, в этом нет ни тени греха, в чем я и ручаюсь вам своей душой». «Увы! — сказала она, — Отче мой, неужели я должна проявить малодушие на исходе моей жизни?». «Какое малодушие? — сказал он, — говорите яснее». «Увы! разве это не величайшее малодушие, — сказала она, — и великое нечестие по отношению к Господу нашему — сказать, что мне очень больно?».
Блаженный, видя, что это и был весь яд, что таился в сердце бедной умирающей, громко воскликнул: «Нет, именем Бога [говорю вам], дочь моя, в этом нет ни малодушия, ни какого-либо нечестия! О, воистину, вы только что даровали мне жизнь! И это все?». «Да, это всё, отче мой, — сказала она. — Но не для того ли, чтобы успокоить и утешить меня в печали, вы говорите мне с такой горячностью, что в этом нет греха?». «Нисколько, дочь моя, я ненавижу притворство, особенно в таком деле, где говорить надобно от всего сердца.
Итак, дочь моя, после примера, который я вам сейчас приведу, нужно, чтобы все ваши тени рассеялись, как рассеиваются тени ночи при восходе солнца. Сын Божий, наш Спаситель и наш Учитель, будучи на Кресте в жесточайших предсмертных муках, не воскликнул ли громким голосом: „Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?“ (Мф. 27:46). Сравните ваши слова с этими, и увидите, не подобны ли они слабой лампаде пред солнцем.
Это до такой степени не является злом — жаловаться и даже кричать под гнётом боли, что, напротив, я считаю: святая добродетель правдивости, чистосердечия и простоты обязывает нас, когда мы чувствуем боль, особенно когда она сильна, объявлять о ней тем, кто может принести облегчение. Ибо как они подумают о том, чтобы нас утешить, если мы забудем жаловаться и объявлять им об этом?»
«— О, отче мой, — сказала она, — значит, я и впрямь совершила много проступков. Ибо уже много лет я постоянно больна и, можно сказать, поселилась в лазарете. Я почти не помню, чтобы прожила хоть мгновение без боли, и часто сносила её, не жалуясь.
Правда, теперь, когда во мне нет ни сил, ни крепости, я чувствую, что боли стали нестерпимыми. И я боялась говорить о них и сетовать, считая, что это было бы проявлением жалости к себе, малодушием и неверностью по отношению к Иисусу Христу, Который претерпел куда большее за меня на Кресте».
Посему она пожелала получить от нашего Блаженного и благословение, и отпущение этих проступков. Вскоре после этого чувства ее начали угасать, и после получасовой тихой агонии она предала свою прекрасную душу в объятия Иисуса Христа.
Блаженный обливаясь слезами утешения, видя столь блаженную кончины. Он воспользовался этим случаем, чтобы поведать сестрам о героическом самообладании святой монахини: ведь она в предсмертных ужасах и муках не осмеливалась даже открыть уст, словно сердце ее говорило вместе с Пророком: «Я был нем и не открывал уст моих, потому что Ты соделал это» (Пс. 38:10).
Однако сам Блаженный, рассказавший мне эту историю, признался, что никогда не испытывал такой глубокой печали и что он вышел оттуда весь в слезах и поту, словно проповедовал о Страстях три часа подряд.
Он чрезвычайно одобрял краткость в проповеди и говорил, что многословие — самый распространенный недостаток Проповедников его времени.
«Вы называете это, — говорил я ему, — недостатком, и изобилию даете имя скудости?».
«Когда виноградная лоза, — отвечал он, — дает много древесины, именно тогда она приносит меньше всего плодов. Множество слов не порождает великих деяний.
Посмотрите на все Гомилии или Проповеди Отцов, сколь они кратки, и сколь более действенны они были, нежели наши!
Добрый святой Франциск предписывает в своем Уставе Проповедникам своего Ордена быть краткими и приводит тому такую причину: Бог сократил слово Свое на земле (ср. Рим. 9:28).
Поверьте мне, — говорил он, — я говорю вам это по опыту, и по долгому опыту: чем больше вы скажете, тем меньше удержат в памяти. Чем меньше вы скажете, тем больше извлекут пользы. Перегружая память слушателей, ее разрушают, подобно тому как гасят лампады, наливая в них слишком много масла, и заставляют задыхаться растения, поливая их без меры.
Когда речь слишком длинна, конец заставляет забыть середину, а середина — начало.
Посредственные Проповедники приемлемы, лишь бы они были кратки; превосходные же становятся в тягость, когда говорят слишком долго. Нет у Проповедника качества более отталкивающего, чем многословие».
«Великая да будет ваша радость, — говорил он, — когда, взойдя на кафедру, вы увидите, что собрание ваше немногочисленно».
«Но ведь, — говаривал я ему, — научить многих стоит не большего труда, чем научить немногих».
«Это, — отвечал он, — тридцатилетний опыт в этом упражнении заставляет меня так говорить. А я всегда замечал, что проповеди, произнесенные при малом числе слушателей, приносят больше плода для служения Божия, нежели те, что произнесены в присутствии множества.
Когда я был Настоятелем собора, мой предшественник Епископ послал меня с другими Клириками проповедовать. В одно Воскресенье, когда была весьма дурная погода, в Церкви оказалось всего семь человек, из-за чего некто сказал мне, что не стоит и труда проповедовать.
Я возразил, что меня ни большое число слушателей не воодушевляет, ни малое не расхолаживает, и что, лишь бы хоть один получил назидание, этого довольно.
Итак, я взошел на кафедру. И я помню, что проповедь моя была о молитве к Святым. Я излагал этот предмет весьма просто. Я говорил без всякого пафоса и возбуждения. Однако один из слушателей начал весьма горько плакать и даже громко всхлипывать и вздыхать.
Подумав, что ему стало дурно, я попросил его не сдерживаться и сказал, что мы готовы прекратить речь и помочь ему, если он в том нуждается».
Он отвечал, что телом здоров и чтобы я продолжал говорить, ибо, мол, слова мои затронули его за живое.
Когда проповедь, а она была весьма коротка, окончилась, он подошел и бросился к моим ногам, громко крича: «Господин Настоятель, господин Настоятель, вы даровали мне жизнь, вы спасли мою душу сегодня! О, да будет благословен тот час, в который я пришел и в который я вас услышал! Этот час возвратил мне вечность!».
И вслед за тем он рассказал, что беседовал с несколькими пасторами о молитве к Святым, и они представили ее ему как ужасное идолопоклонство, после чего он уже назначил следующий четверг днем своего отречения от Католической Веры. Но проповедь, которую он только что услышал, так его вразумила, что, избавившись от всех сомнений, он от всего сердца отверг обещание, которое им дал, и обновил свой обет послушания Римской Церкви.
Не могу вам передать, какое впечатление этот великий пример, явленный среди столь немногих людей, произвел на всю округу, и сколько сердец обратил к нам, сделав их послушными и восприимчивыми к слову жизни.
Я мог бы привести вам и другие подобные [случаи], и еще более примечательные, которые породили во мне столь нежную привязанность к малым собраниям, что никогда не бываю так доволен, как в те минуты, когда, взойдя на кафедру, вижу перед собой немного людей.
Таково было его убеждение: проповеднику недостаточно иметь лишь общее намерение учить путям Божиим, но надобно ставить себе и некую частную цель, например, познание того или иного Таинства, прояснение какого-либо положения веры, искоренение некоего порока или же насаждение некоей добродетели.
«Вы и представить не можете, — говорил он, — сколь важен сей совет, и сколько прекрасных, тщательно подготовленных проповедей остаются бесплодными из-за небрежения им. Если вы последуете этому правилу, то сделаете ваши проповеди весьма плодотворными; в противном случае вы, быть может, и вызовете восхищение, но не принесете никакого плода».
Когда ему говорили, что некий проповедник говорит чрезвычайно хорошо, он спрашивал: «В каких добродетелях он особенно силен? В смирении, в умерщвлении плоти, в кротости, в мужестве, в набожности и тому подобных?»
Когда же ему сообщали, что, по слухам, он хорошо проповедует, святой отвечал: «Говорить — еще не значит делать. Одно куда легче другого. Сколь многие говорят, но не делают, и дурным своим примером разрушают то, что созидают языком? Не чудовищен ли тот человек, у которого язык длиннее рук?»
Однажды о ком-то, приведшем всех в восторг, сказали: «Он явил сегодня чудеса». «Вот тот, — сказал на это святой, — кто был найден безупречным, кто не гнался за золотом и не уповал на сокровища мира сего» (ср. Сир. 31:8).
В другой раз ему сказали, что этот проповедник превзошел самого себя. «На какое пошел он внутреннее самоотречение? — спросил святой. — Какую обиду он претерпел? А ведь именно в таких случаях превозмогают себя».
«Хотите знать, — добавил он, — по чему я узнаю превосходство и ценность проповедника? По тому, когда слушатели, выходя с проповеди, говорят, ударяя себя в грудь: „Буду исправляться!“, а не когда они восклицают: „О, сколь прекрасно он говорил! Какие дивные слова!“ Да, ибо возвещать прекрасные истины, и притом красноречиво, — значит лишь явить ученость или красноречие человеческое; но когда грешники воистину обращаются, сходя с порочных путей своих, — вот верный знак того, что устами проповедника говорит Сам Бог, что он обладает истинным ведением пути [спасения] и ведением святых. Истинный плод проповеди в том, чтобы грех был истреблен, и правда воцарилась на земле. Именно для этого Бог посылает проповедников, как Иисус Христос — Своих Апостолов: чтобы они шли и приносили плод, и чтобы плод их пребывал (ср. Ин. 15:16)».
Однажды в присутствии нашего Блаженного зашла речь о некоем прелате, занимавшим высокое положение в Церкви; он, как говорили, на всех парусах мчался к кардинальскому сану, а его отсутствие создавало некоторый беспорядок в епархии.
«О Господи, — сказал Блаженный, — хоть бы уже стал наконец кардиналом!»
Я спросил его, почему он так говорит.
«Тогда, — отвечал он, — он помышлял бы о лучшем». «Вот так! — возразил я, — неужели о том, чтобы стать Папой? И кто отпустил бы ему сей грех?» «Я не то имею в виду, — сказал он, — но душепопечение, сие искусство из искусств, упражняясь в коем можно сослужить величайшую службу Господу нашему». «Но разве высокий сан, — продолжал я, — не помешает ему посвятить себя этому?» «Вовсе нет, — ответил он, — ибо святой Карл в наши дни преизрядно в том преуспел. Я хочу сказать, что, когда бы погоня за почетным званием перестала занимать его ум, он обратился бы к своему сердцу и помыслил о своих пастырских обязанностях, кои от Божественного права, и всего себя посвятил бы им с нераздельным вниманием. А это послужило бы великому назиданию для Церкви».
Когда этот прелат менее всего ожидал чести, которой так долго домогался, он получил ее как бы внезапно, — в тот самый час, когда мирские средства иссякли, все ухищрения были исчерпаны и Промысл Божий явил свою силу.
И когда он достиг желаемого, то, дивное дело, столь мало стал он ценить то, что прежде так превозносил, и сколь высоко поставил пастырское достоинство, которым, казалось, пренебрегал.
Он уже готов был удалиться в свою резиденцию, где, имея дарования великие, он полагал употребить все свои силы на великие свершения; но Богу угодно было удовольствоваться его добрым намерением, и Он призвал его из сего мира, после того как тот всего шесть месяцев и почти без всякого удовлетворения пользовался тем, чего доискивался более тридцати лет с такими трудами и горестями, которые легче вообразить, нежели описать. Пример примечательный и достойный серьезного размышления.
Один человек возымел смелость попросить у него взаймы двенадцать экю и, вопреки воле Блаженного, не желавшего никакой расписки, настоял на том, чтобы дать ему письменное обязательство. Срок обязательства, по выбору самого просителя, составлял всего месяц. Месяц сей растянулся на год, по прошествии коего человек тот вновь явился к Блаженному и, ни словом не упомянув о занятых двенадцати экю, попросил у него еще десять.
Блаженный попросил его подождать в зале, а сам пошел за его обязательством и, вернувшись, сказал: «Вы просите у меня взаймы лишь десять, а вот двенадцать, которые я от всего сердца дарю вам», — что он и сделал, возвращая ему его же расписку.
Другой попросил у него взаймы двадцать экю и также хотел дать ему обязательство. Блаженный не всегда располагал такими суммами, чтобы их дарить; однако, поскольку сердце его было добрым и он готов был на все ради ближнего, он придумал уловку, которая и выручила сего человека, и соразмерила щедрость прелата с его возможностями.
Он пошел за десятью экю и, вернувшись, сказал ему: «Я нашел способ, который позволит нам обоим сегодня же выиграть по десять экю, если вы мне поверите».
«Монсеньор, — сказал тот человек, — что же для этого надобно сделать?»
«Нам с вами нужно лишь разжать руку, — отвечал святой, — что не так уж и трудно. Вот, держите десять экю, которые я даю вам в чистый дар вместо того, чтобы одолжить двадцать; эти десять вы выигрываете. А я сочту за выигрыш другие десять, если вы избавите меня от необходимости давать их вам взаймы».
Однажды я посетовал нашему Блаженному на тяжкую обиду, мне нанесенную. Неправота обидчиков была столь явной, что Блаженный со мною согласился.
Воодушевленный его поддержкой, я торжествовал и, упиваясь правотою своего дела, находил для него все новые и новые доказательства.
Блаженный, желая остановить этот словесный поток, сказал: «Поистине, они во всем неправы, что так с вами обошлись. Поступок сей недостоин их, тем паче в отношении человека вашего звания. И все же во всем этом деле я вижу лишь одно, в чем можно вас упрекнуть».
«Что же именно?» — спросил я.
«То, что в вашей воле явить больше мудрости и промолчать».
Ответ этот так меня обезоружил, что я тотчас умолк, и в моих устах не нашлось слов для возражения.
До Блаженного дошли слухи, будто меня порицают за то, что я проповедую в своей епархии в Пост, в Адвент, а также по воскресным и праздничным дням. На это он отвечал, что упрекать земледельца или виноградаря в том, что он слишком усердно возделывает свою землю, значит расточать ему истинные похвалы.
После этого, опасаясь, как бы эти упреки не охладили мое рвение, он сказал мне при беседе: «У меня был лучший в мире отец, который, однако, провел немалую часть своей жизни при дворе и на войне. Когда я был настоятелем собора, я при всяком удобном случае старался проповедовать, как в самом соборе, так и в приходах, вплоть до самых малых братств; я не знал, что значит отказывать: Всякому, просящему у тебя, давай (Лк. 6:30).
Мой добрый отец, заслышав звон к проповеди, спрашивал, кто проповедует. Ему отвечали: „Кто же еще, как не ваш сын?“ Однажды он отвел меня в сторону и сказал: „Настоятель, ты проповедуешь слишком часто. Я слышу, как звонят к проповеди даже в будние дни, и мне всякий раз говорят: это настоятель, настоятель. В мое время было не так, проповеди были куда большей редкостью. Но зато какие это были проповеди! Видит Бог, они были исполнены учености, глубоко продуманы, в них изрекались дивные вещи, а латыни и греческого в одной такой проповеди приводили больше, чем ты в десяти. Все бывали в восхищении и назидались, народ стекался толпами, можно было подумать, что идут собирать манну небесную. Ныне же ты сделал это дело столь обыденным, что никто его больше не ценит, да и к тебе уже не питают прежнего уважения“.
Видите ли, — продолжал Блаженный, — добрый мой отец судил по-своему. Нельзя и помыслить, чтоб он желал мне зла; но он говорил со мной по меркам мира сего.
Поверьте мне, проповеди никогда не бывает много. Numquam satis dicitur quod numquam satis discitur (Никогда не говорится довольно о том, чему никогда не научиться вдосталь)¹, в особенности теперь и в этом краю, соседствующем с ересью; ересью, которая держится одними лишь проповедями и которая одной лишь святой проповедью и будет сокрушена».
¹ Цитата из Сенеки («Нравственные письма к Луцилию», 75, 6).
Однажды он увидел в моей библиотеке несколько томов одного писателя, весьма ученого, но вместе с тем столь неясного в своих выражениях, что и самые искусные умы ничего в них не разумели.
Кто-то ради шутки начертал на первом листе слова: Fiat lux (Да будет свет).
Блаженный нашел эту выдумку забавной и, помедлив немного, словно пытаясь раскусить этот черствый сухарь, но, не одолев его, сказал мне с великой любезностью: «Сей муж произвёл на свет множество книг, но я не вижу, чтобы он пролил свет хотя бы на одну».
Весьма прискорбно быть столь ученым и не иметь дара ясно выражать свои мысли. Умеренные познания при легком слоге куда как предпочтительнее.
Изречение, приписываемое Фоме Кемпийскому, почитаемому за автора «Подражания», было ему весьма по сердцу: «Я искал покоя повсюду и обрел его лишь в тихом уголке, с небольшой книгой». И он говорил, что для преуспеяния в учении надлежит читать одну-единственную книгу, ибо те, кто лишь скользит по страницам многих, никогда не обретают полноценного знания.
Посему он и советовал взять какую-нибудь благую книгу, по возможности малую и удобную для ношения, и читать ее часто, а еще усерднее — жить по ней.
«Духовная брань» была его книгой-любимицей, его драгоценной наперсницей. Он не раз говорил мне, что носил ее в кармане более восемнадцати лет и каждый день прочитывал несколько глав или по меньшей мере несколько строк. Он советовал эту книгу всем, кто к нему обращался, называя ее достолюбезной и всецело применимой на деле.
Однажды в Париже несколько знатных дам, выйдя с проповеди, которую он только что произнес, пришли навестить его.
У каждой было какое-то затруднение, которое она хотела ему изложить; одна просила его совета в одном, другая — в другом, и все почти одновременно.
Блаженный, не зная, которую слушать, сказал им: «Я отвечу на все ваши вопросы, если только вы соблаговолите ответить на один мой вопрос. Скажите по-вашему: что можно услышать в собрании, где всякий говорит и никто не слушает?»
Все дамы пришли в великое смущение и умолкли, подобно тому как в одно мгновение смолкают тысячи лягушек, когда в воду бросают камень.
Один весьма ученый проповедник, которому его проповеди стоили многих трудов, но на которые мало кто ходил, посвятил добрую часть своего часа жалобам на нерадение тех, кто не пришел слушать слово Божие, и дошел до того, что пригрозил все бросить и оставить кафедру.
Блаженный, присутствовавший на сей проповеди, сказал одному из своих доверенных лиц, выходя из церкви: «На кого гневается сей добрый человек? Он укорял нас за вину, которой мы не совершали, ибо мы здесь были. Неужто он хотел, чтобы мы разорвали себя на части, дабы заполнить прочие пустующие места? Гневался он на отсутствующих, которые оттого не станут усерднее, ибо не слышали его. Если бы он хотел говорить с ними, ему следовало бы пойти по улицам и площадям города, чтобы понуждать тех, кто их наполняет, войти на его пир. Он кричал на невинных, а виновных оставил в покое».
Хотя наш Блаженный обладал добродетелями самыми выдающимися, он, тем не менее, питал нежную любовь к малейшим, то есть к тем, что кажутся таковыми в глазах людей; ибо нет ни одной, особливо из дарованных свыше, которая не была бы велика пред Богом.
«Всякий, — говорил он, — желает добродетелей блистательных и заметных, пригвожденных к самому верху Креста, дабы их видели издали и ими восхищались. Весьма немногие спешат собирать те, что, подобно чабрецу, растут у подножия сего Древа Жизни, в тени его. А между тем, они-то и есть самые благоуханные и обильнее прочих орошены кровью Спасителя, Который дал христианам первый урок: Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем (Мф. 11:29).
Не всякому дано упражняться в великих добродетелях: в мужестве, в великодушии, в щедрости, в готовности к мученичеству, в терпении, в уповании, в доблести. Случаи для их проявления редки, однако все к ним стремятся, ибо они блистательны и славны; и часто бывает, что, вообразив себя способными их явить, люди надмеваются от пустого самомнения, а при первом же испытании ударяются лицом в грязь.
Возможность заработать большие деньги выпадает не каждый день, но каждый день можно заработать гроши и полушки, и, сберегая эту малую прибыль, иные со временем становятся богачами. Мы бы накопили великие духовные богатства и собрали бы себе многие сокровища на небе (Мф. 6:20), если бы все малые случаи, выпадающие нам на каждом шагу, обращали на служение святой любви Божией.
Недостаточно совершать деяния великих добродетелей, если не совершать их с великой любовью; ибо именно эта добродетель дает основание, вес и цену добрым делам пред Богом. И деяние малой добродетели (ибо не все добродетели равны по своей природе), совершенное с великой любовью к Богу, много превосходнее деяния добродетели самой изысканной, но совершенного с меньшей любовью к Богу.
Чаша холодной воды (Мф. 10:42), поданная с сей великой любовью, заслуживает вечной жизни. Две лепты, монеты самого малого достоинства, принесенные с той же любовью бедной вдовой, Сам Иисус Христос предпочел значительным дарам, которые богатые клали в сокровищницу (ср. Лк. 21:1–4).
Почти не обращают внимания на сии малые добродетели: на снисхождение к дурному нраву ближнего; на кроткое терпение его несовершенств; на готовность смиренно снести недовольный взгляд; на любовь к презрению и собственному уничижению, на [способность вытерпеть] малую несправедливость и то, что другим оказывают предпочтение перед нами, и резкий упрек, и докучливость; на [расположение к] исполнению низких, не соответствующих нашему положению обязанностей, на любезный ответ тому, кто укоряет нас напрасно и с гневом; на [мужество], упав, стерпеть насмешку; с кротостью принять отказ в милости, с благодарением принять благодеяние; на [силу] смиряться перед равными и низшими, обращаться со слугами человеколюбиво и с добротой. Все это кажется малым в глазах тех, у кого сердце надменно и взор вознесен. Мы желаем лишь добродетелей доблестных и нарядных, приносящих славу, не помышляя о том, что угождающий людям не раб Христов (ср. Гал. 1:10), и что дружба с миром делает нас врагами Богу (ср. Иак. 4:4).
Говорил я однажды одному великому и благочестивому прелату, что восхищаюсь в нашем Блаженном той несравненной кротостью, с которой он без всякого насилия все подчинял своей воле.
«Он делает, что хочет, — говорил я, — и притом с такой мягкостью и вместе с тем с такой силой, что ничто не может ему противостоять. Тысяча падет подле него, и десять тысяч одесную его (ср. Пс. 90:7). Все уступает его увещеваниям; он достигает цели, к которой стремится, кротко и сильно; можно подумать, что он к ней и не прикасается, а дело уже сделано».
Он отвечал мне с большой рассудительностью (ибо был он просвещен в путях Божиих и в ведении святых): «Именно эта кротость и делает его столь могущественным; разве вы не знаете, что сталь, которая много крепче железа, имеет закалку куда более мягкую? Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю (Мф. 5:5). Любая воля покорится им, они станут царями сердец, и все побегут за ними на благоухание ароматов их (ср. Песн. 1:3)».
Таково было одно из важнейших и непреложных правил нашего блаженного Отца: «Блаженны сердца мягкие, ибо они никогда не разобьются». Воистину, не они разобьются — но все разобьется у подножия их.
Когда целомудрие боязливо — это добрый знак. Его оплот и его крепость — это страх. Ты исполнил ужаса твердыни его (Пс. 88:41, Вульг.). В этом вопросе, как и во всяком другом, можно сказать: Блажен, кто всегда пребывает в страхе (Притч. 28:14, Вульг.).
«Среди всех борений христианских, — говорит святой Иероним (Письм. 34 Неп.), — самые ожесточенные — это борения за целомудрие; они самые частые, и, однако, победа в них — самая редкая. Тот, кто полагается на свое прошлое целомудрие, подвергается великой опасности пасть».
Но если страх столь необходим для целомудрия, то не менее нуждаемся мы и в целомудрии страха, дабы совершать наше спасение со страхом и трепетом (Флп. 2:12).
Когда я спросил его, что он разумеет под целомудрием страха, он отвечал: «Страх целомудренный, который Пророк называет святым и который пребывает вовек (ср. Пс. 18:10), — это тот, что происходит от любви к Богу и одушевлен милосердной любовью; любовью, которая побуждает нас заботиться о славе Божией более, чем о нашей собственной пользе, и, следовательно, более страшиться оскорбить Его, нежели наказания, которое за тем последует.
Когда мы боимся оскорбить Бога, потому что Он благ Сам по Себе, а не потому что Он — Бог отмщений, тогда страх наш целомудрен и чист, и подобен страху верной супруги, которая ничего так не боится, как огорчить своего супруга, ибо любит его и почитает за великое счастье быть им любимой.
Одним словом, страх целомудренный и святой есть страх благоговения, любви и почтения, не рабский и не корыстный, но сыновний, приличествующий даже величайшим святым.
Это не значит, что рабский страх препятствует вхождению любви в душу; напротив, он готовит ей путь, будучи, согласно сравнению святого Августина (Толк. 9 на посл. Иоан.), иглой, которая вводит золотую или шелковую нить. Препятствием же служит рабская природа этого страха, которая состоит в том, чтобы отвращаться от зла из боязни мучений, но так, что если бы не было мучений, которых следует страшиться, зло совершали бы с охотой.
Есть разница между тем, чтобы сказать: „Я воздерживаюсь от греха, потому что боюсь наказания, следующего за грехом“, — или: „Я воздерживаюсь от греха лишь потому, что за грехом следует наказание“. Первое — хорошо; второе — нет, ибо это все равно что сказать: „Если бы не было наказаний, которых следует страшиться, я бы не заботился о том, чтобы не оскорблять Бога“».
Он высоко превозносил страх, берущий начало в любви, как страх всецело сыновний, и его великим изречением было: «Нужно бояться Бога из любви, а не любить Его из страха».
Сердце его было столь благостно, что он не мог питать дурных чувств даже к злым людям. Он делал все, что мог, дабы покрыть грехи ближнего, ссылаясь то на немощь человеческую, то на силу искушения, то на великое число тех, кто совершает подобные прегрешения.
Когда же грехи были столь явными и общеизвестными, что скрыть их было невозможно, он обращался к будущему и говорил: «Кто знает, не обратится ли он, и кто мы такие, чтобы судить братьев наших? Если бы Господь не был нам помощником, мы были бы хуже, и вскоре вселилась бы душа наша в преисподнюю (ср. Пс. 93:17, Вульг.)¹.
Для каждого дня довольно своей заботы (ср. Мф. 6:34)². Величайшие грешники порой становятся величайшими кающимися, свидетельством тому Давид и многие другие; и покаяние их назидает более, чем их грех творит разрушений. Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму (ср. Мф. 3:9). Дивными переменами десницы Своей Он делает сосуды чести из тех, что были сосудами позора (ср. Рим. 9:21)³.
Он никогда не желал, чтобы отчаивались в обращении грешников до самого их последнего вздоха, говоря, что жизнь сия есть путь нашего странствия, на котором стоящие могут пасть, а павшие могут, по благодати, восстать.
Он шел и далее, ибо даже после смерти он не допускал, чтобы дурно судили о тех, кто вел неблагую жизнь, исключая лишь тех, чье осуждение засвидетельствовано в Писании. Помимо сего, он не желал, чтобы вторгались в тайну Божию, которую Он оставил в ведении лишь Своей премудрости и Своего могущества.
Главное его основание было в том, что как первая благодать не дается по заслугам, так и последняя благодать, то есть способность выстоять до конца, также не дается по заслугам. Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? (Рим. 11:34)⁴.
По этой причине он призывал и после смерти человека надеяться на благой удел его души, какой бы тяжкой ни казалась его кончина, ибо мы можем лишь строить догадки, основанные на внешнем, а в этом и самые опытные могут обмануться.
На сей счет он рассказал мне то, что я сейчас поведаю. Один проповедник, человек легкого нрава, говоря об известном ересиархе, ставшем причиной отпадения Женевской Церкви, сказал, что не должно выносить приговор об осуждении кого бы то ни было после смерти, исключая тех, кто объявлен отверженным в Писании, — и даже о сем ересиархе, который причинил столько зла своими заблуждениями. «Ибо кто знает, — говорил он, — не коснулся ли его Бог в мгновение смерти, и не обратился ли он?
Истинно, — продолжал он, — вне Церкви и без истинной веры нет спасения; но кто знает, не возжелал ли он спасительно своего воссоединения с Католической Церковью, от которой отделился, и не признал ли он в сердце своем истину той веры, с которой боролся, и не умер ли в истинном покаянии?»
И, продержав всех своих слушателей в напряжении, он в конце заключил: «Истинно, мы должны иметь величайшее упование на благость Божию. Сам Иисус Христос предложил Свой мир, Свою любовь и спасение предателю, который предал Его лобзанием; почему же Он не мог бы предложить ту же благодать и сему несчастному ересиарху? Разве рука Господня коротка? (ср. Ис. 59:1). Разве Он стал менее благ и менее милосерд, Он, Кто есть само милосердие, милосердие без числа, без меры и без конца?
Но, — добавил он, — поверьте мне, и я могу уверить вас, что не лгу: если он не осужден, то спасся он таким чудом, какого не бывало; и если он избежал вечной погибели, то должен поставить за это Богу такую знатную свечу, какой не ставил никто из людей его звания».
Сей столь неожиданно веселый конец заставил слушателей скорее рассмеяться, нежели прослезиться.
Однажды некая особа предстала пред ним на Таинстве Покаяния и, поведав о жизни, весьма недостойной ее положения в обществе, под конец спросила: «Что же, отче, какого мнения вы будете обо мне отныне?» «Как о святой», — сказал он. «В таком случае, — возразила она, — это будет противно вашему знанию и вашей совести». «Это будет согласно и с тем, и с другим, а не противно им», — отвечал он. «Как же так?» — переспросила та особа. «Я не настолько несведущ в том, что происходит в мире, — ответил Блаженный, — чтобы до меня не доходили слухи о вас, и это причиняло мне великое огорчение как из-за оскорбления, наносимого Богу, так и ради вашего доброго имени, которое я не знал, как защитить. Но теперь, когда я вижу, что душа ваша примирилась с Богом через доброе покаяние, у меня в руках есть все, чтобы защитить вас и перед бесами, и перед людьми, и чтобы решительно опровергнуть все зло, которое могли бы сказать о вас». «Но, отче, о прошлом-то будут говорить правду». «Вовсе нет, — сказал святой, — не в глазах благих душ. Что же до ропотников и фарисеев, которые будут судить вас, как фарисей судил обращенную Магдалину, то Защитником вашим будет Сам Иисус Христос (ср. Лк. 7:39)». «Но вы сами, что вы будете думать о прошлом?» «Ничего, — сказал святой, — ибо, помимо того, что нам это не дозволено, как, скажите, мысль моя может сосредоточиться на том, что упразднено, уничтожено, одним словом, на том, чего более нет пред Богом? Как можно помыслить о ничто, если не так, чтобы вовсе о нем не мыслить? Изгоните из ума вашего эту мысль о моей мысли; ибо моя мысль о вас и ради вас будет славить Бога, и все мои мысли о вас будут для Него праздником, и я хочу праздновать сей драгоценный праздник с Ангелами, которые совершают его на Небесах, ликуя об обращении вашего сердца (ср. Лк. 15:10)».
Особа эта пересказала сей разговор одной доверенной душе, которой была известна ее жизнь, и добавила, что когда лицо Блаженного оросилось слезами, она сказала ему, что он плачет от ужаса перед ее грехами. «Нет, — сказал он, — я плачу от радости о вашем воскресении к жизни в благодати».
Я часто слышал, как наш Блаженный хвалил склонность святой Терезы читать жития святых, бывших великими грешниками, ибо по её словам в них она видела, как великолепие Божественного милосердия сияет посреди их крайнего убожества.
Когда я спросил его однажды, что надобно делать, дабы достичь совершенного недоверия к себе, он ответил: «Совершенно уповать на Бога».
Он добавил, что упование на Бога и недоверие к себе — словно две чаши весов: насколько поднимается одна, настолько опускается другая. Чем больше в нас недоверия к себе, тем больше наше упование на Бога. Чем меньше в нас недоверия к себе, тем меньше наше упование на Бога. Если же в нас нет ни малейшего доверия к себе, тогда наше упование на Бога совершенно.
«Но разве не могу я, — возразил я, — совершенно не доверять себе, ясно сознавая свое убожество и бессилие, и при этом не возлагать упования на Бога?»
«Нет, — сказал он, — если вы основаны и укоренены в любви и если вы действуете в согласии с этой добродетелью. Иначе это было бы недоверие к себе не христианское и не сверхъестественное. То недоверие, о котором вы говорите, породило бы в вас лишь печаль, уныние и малодушие; но истинное недоверие к себе, христианское и от любви исходящее, есть недоверие радостное, мужественное и великодушное, которое побуждает нас говорить: Не я, впрочем, а благодать Божия со мною (1 Кор. 15:10); без Нее я не могу делать ничего (ср. Ин. 15:5), даже и малейшей доброй мысли иметь. С Нею же я все могу (ср. Флп. 4:13), зная, что невозможное человекам возможно Богу (ср. Лк. 18:27), Который может все, что хочет, на небе и на земле. Посему Господь наш говорил Своим Апостолам: Мужайтесь: Я победил мир (Ин. 16:33). Надеющийся на Господа, — говорит Пророк, — как гора Сион, не подвигнется вовек (ср. Пс. 124:1)».
Одно из прекраснейших изречений, которые я слышал из уст нашего Блаженного, таково:
«Верный признак того, что любовь наша принадлежит одному лишь Богу, — это когда мы любим Его равно при любых обстоятельствах. Ибо, поскольку Он всегда равен Себе, непостоянство нашей к Нему любви может проистекать лишь из внимания к тому, что не есть Он».
Я бы желал, чтобы изречение сие было начертано во всех самых видных местах ваших домов и в начале всех духовных книг, которые вам дают читать, дабы, имея его всегда перед глазами, вы лучше претворяли его в жизнь.
Сие и есть тот пробный камень, на котором испытывается, истинны ли или притворны наша любовь и наше благоговение. О, если бы душа наша достигла этой высоты, мы могли бы сказать, что она, подобно Ноеву ковчегу, покоится на вершинах высочайших гор и утверждена на высочайших холмах благочестия.
Все было бы для нас равно: жизнь, смерть, здоровье, болезнь, бедность, богатство; и никакие превратности сей жизни не смогли бы, не скажу поколебать, но опрокинуть наш челн, ибо мы держали бы его руль твердо и прямо и видели бы, что все эти обстоятельства находятся в руке Божией, Который равно достоин любви и когда Он нас карает, и когда Он нас милует; ибо правосудие Его, не менее чем милосердие, есть дщерь Его благости. Мы бы знали, что рука Его, когда она нас наказывает, подобна руке хирурга, который ранит лишь для того, чтобы исцелить, и что в конце громы его, как говорит Пророк, обращаются в дожди, и в дожди благодатные, которые Бог хранит для наследия Своих избранных (ср. Пс. 67:10, Вульг.), о ком сказано: Блаженны плачущие, ибо они утешатся (Мф. 5:4).
Именно в сем твердом и непоколебимом расположении духа великий Апостол бросал вызов всем творениям и не страшился, что они отлучат его от любви Христовой (ср. Рим. 8:35).
Наш Блаженный, проповедовав в Адвент и в Великий Пост в Гренобле, возжелал посетить Великую Шартрезу, которая находится всего в трех лье оттуда.
В то время приором и генералом всего ордена был дом Брюно д'Аффренк, уроженец Сент-Омера во Фландрии, муж глубокой учености и еще более глубоких смирения и простоты.
Он принял нашего Блаженного с радушием, достойным его благочестия, чистосердечия и искренности; вот лишь один тому пример, который наш Блаженный превозносил до небес.
Проводив его в одну из гостевых келий, подобающую его сану, и побеседовав с ним о вещах поистине возвышенных, он откланялся, чтобы подготовиться к предстоящей утрене, много извиняясь, что не может долее составить ему компанию.
Блаженный весьма одобрил такую строгость в соблюдении устава; добрый приор же вновь извинился, сославшись на праздник одного святого, особо чтимого в его ордене. Простившись со всеми знаками почтения и уважения, каких только можно желать, он удалился в свою келью, но по дороге был встречен одним из прокураторов обители, который спросил его, куда он идет и где оставил монсеньора Женевского. «Я, — сказал тот, — оставил его в его келье и откланялся, дабы удалиться в нашу и пойти нынче ночью на утреню ради завтрашнего праздника».
«Право же, — сказал ему на это монах, — преподобный отче, вы большой знаток светских церемоний! Да что там, это всего лишь орденский праздник! Разве каждый день в этой пустыни мы принимаем прелатов таких достоинств? Неужели вы не знаете, что Богу угодны подвиги гостеприимства? У вас всегда будет довольно времени, чтобы воспевать хвалу Богу, утрени у вас будут и в другие дни; да и кто может лучше занять беседой такого прелата, как не вы? Какой позор для обители, что вы оставляете его так, в одиночестве!»
«Сын мой, — сказал преподобный отец, — я думаю, ты прав и я дурно поступил». И с этими словами он тотчас вернулся к монсеньору Женевскому и сказал ему со всем простодушием: «Монсеньор, уходя от вас, я встретил одного из наших управителей, который сказал мне, что я совершил ошибку, оставив вас одного, и что утреня у меня будет и в другой раз, а вот монсеньора Женевского у нас каждый день не бывает. Я поверил ему и тотчас вернулся просить у вас прощения и молить извинить мой проступок, ибо уверяю вас, что совершил его не подумав и что я говорю сущую правду».
Блаженный был ослеплен блеском этой дивной откровенности, чистосердечия, простодушия и простоты и сказал мне, что восхитился этим более, нежели если бы увидел, как тот сотворил чудо.
Наш Блаженный чрезвычайно хвалил этого доброго настоятеля Шартрезы за его исполнительность, ибо тот был столь точен в соблюдении малейших правил устава, что во внимании к нему не уступил бы и последнему послушнику. Равным образом, он, сдерживая неумеренное рвение, не желал ни на йоту преступить правила, опасаясь увлечь за собой других своим примером.
Наш Блаженный, сравнивая его с предшественником на посту настоятеля, который предавался столь суровым подвигам, что, казалось, либо не имел тела вовсе, либо имел тело из железа, говорил: «Он походил на тех врачей, что плодят холмики на кладбищах; ибо желание подражать ему в его подвижничестве многих сводило в могилу, тех, кого рвение не по разуму толкало превзойти свои силы. Сей же, напротив, кротостью и умеренностью берег мир и смирение в душах и здоровье в телах».
Предстал однажды перед этим добрым настоятелем один юноша. Преподобный отец, видя, сколь он хрупок, как то обыкновенно бывает с отпрысками хороших семей, представил ему всю суровость ордена и строгость обители. Юноша сказал ему, что все это предвидел и что Бог будет его силой.
Генерал, видя, что тот говорит с глубокой решимостью, сказал ему строгим тоном: «Что вы себе думаете, желая вступить в наш орден? Воображаете, что это детская игра? Знаете ли вы, что для вступления к нам мы требуем в доказательство сотворить какое-нибудь чудо? Сотворите ли вы его?»
«Не я, — отвечал юноша, — но сила Божия во мне. Я так уповаю на Его благость, что, призвав меня на служение Ему в этом звании и дав мне великое отвращение к миру, Он не позволит мне ни оглянуться назад, ни вернуться в мир, от которого я отрекся всей душой. Требуйте от меня какого хотите знамения, я уверен, что Бог сотворит его через меня во свидетельство моего призвания». Говоря это, он, казалось, весь воспламенился, и глаза его сияли, как звезды.
Дом Брюно, изумленный такой твердостью, принял его, обнял и, проливая слезы умиления на его лицо, обратился к тем, кто оказался рядом: «Братья мои, — сказал он, — вот призвание, прошедшее все испытания». И, обратившись к юноше: «Дерзай, сын мой, Бог поможет тебе и возлюбит тебя, а ты возлюбишь Его и будешь служить Ему, что дороже всякого чуда».
Наш Блаженный подражал этому доброму отцу, когда к нему приходила какая-нибудь девица [с желанием поступить в монастырь]. Он говорил ей лишь о Голгофе, о гвоздях, о терниях, о кресте, о внутреннем самоотречении, об отречении от своей воли, о распятии собственного суждения, о смерти для самой себя и о том, что жить нужно лишь для Бога, в Боге и ради Бога; что нельзя далее жить по влечению чувств и природным склонностям, но всецело по духу Веры и Устава.
Он разделял настоятелей на четыре вида: «Во-первых, — говорил он, — есть те, кто весьма снисходителен к другим и столь же снисходителен к себе; их он называл нерадивыми, мало заботящимися о своем служении, позволяющими реке течь под мостом и оставляющими корабль на милость волн. Такие пастыри названы идолами (Зах. 11:17), ибо, подобно идолам, они имеют глаза и не видят, уши и не слышат, ноги и не ходят, язык и не говорят. Это немые псы, не могущие лаять на порок и нестроение (ср. Ис. 56:10).
Во-вторых, другие — строги к другим и строги к себе. Эти часто все портят, желая сделать слишком хорошо, и впадают в крайность. Не следует всегда так туго натягивать узду коню; не давая ему споткнуться, не дают и идти¹. Истинно, пастырь должен быть правилом и образцом для своего стада, но упражнение в кротости должно начинаться с него самого; ибо для кого будет кроток тот, кто жесток к самому себе? (ср. Сир. 30:24, Вульг.)
В-третьих, некоторые снисходительны к другим и взыскательны к себе; эти наиболее достойны снисхождения, ибо они благосклонно толкуют проступки других.
В-четвертых, иные снисходительны к себе и суровы к другим; эти последние воистину несправедливы, ибо, подобно фарисеям, о которых говорил Господь наш, они возлагают на других бремена, к которым сами не захотели бы и прикоснуться перстом (ср. Мф. 23:4). Посему и укоряет их Господь наш: Врач! исцели Самого Себя (Лк. 4:23), и вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего (Мф. 7:5).
Он желал бы, чтобы из этих четырех разрядов все перешли в пятый — в разряд святого равенства, следуя правилу: Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой (ср. Мф. 7:12), и обращайся с другими так, как хотел бы, чтобы обращались с тобой, и, одним словом, как ты обращаешься с самим собой».
¹ В оригинале использована игра слов, основанная на созвучии: *pour l'empêcher de broncher on l'empêche de marcher` (букв. «чтобы помешать ему споткнуться, ему мешают идти»).
Блаженный имел обыкновение говорить, что мнительность коренится в самой утонченной гордыне.
Он называл ее утонченной, ибо она столь тонка и хитра, что обманывает и того, кто ею страдает.
А причина, говорил он, в том, что одержимый этим недугом не может решиться довериться суждению тех, кто просвещен в путях Божиих, ибо он вечно стремится поставить собственное мнение выше суждения самых опытных; а ведь если бы он захотел покориться и отречься от собственного суждения, то тотчас бы исцелился и обрел мир.
И по справедливости страдает тот больной, что не желает пользоваться лекарствами, которые ему предлагают и которые способны его исцелить, если только он захочет их принять. Кто пожалеет того, кто готов умереть от голода и жажды среди изобилия пищи и питья?
Если Святой Дух учит нас в Божественных Писаниях, что непослушание такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство (ср. 1 Цар. 15:23), то что же нам сказать о непослушании мнительных, которые до того боготворят собственные чувства и порабощены собственными мнениями, что упорствуют в своих мыслях, какие бы увещания им ни предлагали и как бы ни уверяли их в безосновательности их страхов? Они вечно воображают, что наставник их не понимает, или говорит не о том, или что они сами изъясняются недостаточно ясно.
Тяжкий недуг, подобный тому, что называют ревностью, для которой все служит пищей и почти ничто — лекарством.
Да сохранит вас Бог от сего пагубного зла, которое я, по своему обыкновению, называю четырехдневной лихорадкой или бледной немочью духа.
Однажды нашего Блаженного пригласили в тюрьму к одному несчастному преступнику, приговоренному к смерти, которого никак не могли склонить к исповеди, ибо тот верил, что ад — его единственный удел по причине черноты содеянных им злодеяний.
Блаженный застал его в твердом намерении претерпеть казнь и оттуда сойти в ад, говоря, что он — добыча диавола и жертва, обреченная аду. «Не лучше ли тебе, брат мой, — сказал ему святой, — быть добычей Божией и жертвой Креста Иисуса Христа?» «Ещё бы! — отвечал преступник. — Но какое дело Богу до падали и до мерзостной жертвы?»
«О Боже, — сказал Блаженный в сердце своем, — вспомни о древних щедротах Твоих и об обетовании, которое Ты дал, — не угашать курящегося фитиля и не доламывать надломленной трости (ср. Ис. 42:3); Ты, Который не хочешь смерти грешника, но чтобы он обратился и жив был (ср. Иез. 33:11), соделай сии последние мгновения благословенными для сей несчастной души».
«В любом случае, — сказал он преступнику, — не лучше ли тебе предаться Богу, нежели диаволу?» «Кто бы сомневался, — отвечал тот. — Но Ему-то какое дело до такого, как я?»
«Именно для таких, как вы, — возразил Блаженный, — Отец Вечный послал Сына Своего в мир, и для еще худших, подобных Иуде и тем, кто Его распинал; ибо Иисус Христос пришел спасти грешников, а не праведных (ср. Мф. 9:13)».
«Вы уверяете меня, — сказал преступник, — что с моей стороны не будет дерзостью прибегнуть к Его милосердию?»
«Великой дерзостью было бы, — отвечал Блаженный, — помыслить, что Его милосердие не бесконечно и не превышает не только все содеянные, но и все вообразимые грехи; и что Его искупление не настолько обильно, чтобы не дать благодати преизобиловать там, где преизобиловал грех, вызвавший потоп бедствий (ср. Рим. 5:20). Напротив, Его милосердие, которое на всех делах Его (Пс. 144:9) и которое всегда превозносится над судом (Иак. 2:13), тем более возвеличивается, чем огромнее груда наших грехов, ибо престол Его милосердия имеет наше убожество своим подножием».
Подобными речами, основанными на положениях веры, которая не совсем угасла в этой душе, он вновь зажег его почти почившую надежду и привел его к такой покорности, что тот готов был всецело предаться в руки Божии — на смерть, на жизнь временную и вечную, дабы Он сотворил с ним во времени и в вечности по Своей благой воле.
«Но Он осудит меня, — говорил тот человек, — ибо Он справедлив».
«Отнюдь, Он простит тебя, — говорил наш Блаженный, — если ты будешь взывать к Нему о пощаде, ибо Он милосерд и обещал прощение всякому, кто попросит о нем с сердцем сокрушенным и смиренным».
«Что ж, — сказал страдалец, — пусть осудит меня, если Ему угодно. Я в Его власти; разве не может Он поступить со мной, как горшечник со своею глиною? (ср. Рим. 9:21)».
«Скажи лучше, — отвечал Блаженный, — вместе с Давидом: Твой я, спаси меня (Пс. 118:94)».
В конце концов он расположил его к исповеди, и тот принес ее с великим раскаянием и сокрушением; и умер стойко, с глубоким осознанием своих грехов, полностью вверившись всесвятой воле Божией. Последние слова, которые Блаженный вложил ему в уста, были: «О Иисусе, прими меня! Я всецело вверяюсь Тебе!»
По сему случаю скажу вам: наш Блаженный часто повторял, что для Всемогущего Бога невозможно навеки погубить душу, которая, покидая тело, свою волю подчинила воле Божественной.
Поэтому, находясь у одра умирающего, он прилагал все усилия, чтобы склонить его всецело подчинить свою волю — Божией, и ни о чем ином с ним не говорил. Его великими словами были: «О Боже, воля Твоя!», и еще: «Ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение» (Мф. 11:26), и: «О Господи мой, не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42).
Он имел обыкновение видеть и побуждать видеть все события в свете всесвятой воли Божией.
«Ничто не случается с нами, — говорил он, — кроме греха, что не было бы по воле Божией, будь то добро или зло. Добро — ибо Бог, будучи источником всякого блага, есть Тот, от Кого всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов (Иак. 1:17). Зло — ибо бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? (Ам. 3:6), но здесь говорится о зле наказания; ибо Бог не может желать греха, хотя и попускает его, позволяя человеческой воле действовать согласно естественной свободе, которую Он ей дал.
Добавьте к этому, что о грехе, собственно говоря, нельзя сказать, будто он с нами случается, ибо то, что случается, приходит к нам извне, грех же, напротив, исходит изнутри, из сердец наших, как говорит святое Слово (ср. Мф. 15:19). О, какое счастье было бы для нас, если бы мы привыкли все принимать из отеческой руки Того, Кто, отверзая ее, исполняет все живущее Своего благоволения! (ср. Пс. 144:16). Какой елей умягчил бы наши скорби, и сколько меду извлекли бы мы из камня, и елея — из твердой скалы! (ср. Втор. 32:13). Какая умеренность сопутствовала бы нам в благоденствии, ибо Господь посылает нам и невзгоды, и благополучие лишь для того, чтобы обратить их во славу Свою и ко спасению нашему!
Помыслим же хорошенько об этой истине, и будем видеть одного лишь Бога во всех событиях, и все события — лишь в Боге, дабы во всем прославлялся Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Который утешает нас во всякой скорби нашей, дабы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби (ср. 2 Кор. 1:3-4) и извлекать пользу и выгоду из всех наших бедствий.
Добродетель его была столь общепризнанна как католиками, так и протестантами, что пользовалась всеобщим почтением.
В год, когда он проповедовал в Адвент и в Великий Пост в Гренобле, господин де Ледигьер, бывший там королевским наместником и маршалом Франции, еще не вернулся в лоно Католической Церкви.
Тем не менее, он принимал нашего Блаженного с необычайной обходительностью и почтением, часто приглашал его к своему столу, навещал его в его доме и даже порой присутствовал на его проповедях, высоко ценя его учение и весьма уважая его добродетель.
Приверженцы так называемой реформатской веры встревожились, в особенности из-за долгих и тайных бесед, которые маршал вел со святым епископом.
Он хвалил его при всяком случае, всегда называл его «господин Женевский» и выказывал ему почтительность, которая всех изумляла.
Какие бы слухи ни распускали и какими бы отлучениями ни грозили пасторы, дабы удержать своих единоверцев от посещения проповедей святого епископа, с которых те выходили с великим для себя назиданием, — они ничего не смогли поделать.
Они даже созывали консистории, чтобы обсудить, как бы сделать представление господину де Ледигьеру по поводу чрезмерной чести, которую он оказывал епископу Ансийскому (ибо так они его называли по местопребыванию его кафедры), слишком большой близости с ним и его присутствия на проповедях к соблазну всех протестантов. Затем они отправили к господину де Ледигьеру нескольких именитых людей своей партии для братского вразумления.
Маршал, тотчас извещенный об их решении, велел передать им, что если они просят о встрече, дабы сообщить ему о каком-либо деле, он примет их с радостью; но если они вздумали делать ему представления от имени консистории, то могут быть уверены: войдя в дверь, они вылетят в окно.
Видя, что это средство бесполезно, они придумали другую уловку: попросили поговорить с ним одного из знатнейших сеньоров провинции, который был их единоверцем. Сей господин, взявшись за поручение, при удобном случае изложил наедине господину де Ледигьеру то, чего господа из консистории не осмелились высказать, опасаясь его гнева.
Господин де Ледигьер отвечал ему: «Скажите этим господам, что я уже не в тех летах, чтобы меня учили, как жить на свете. Я был католиком до тридцати лет, и я знаю, как католики обращаются со своими епископами и как с епископами обращаются короли и принцы. Мы живем в государстве, где они занимают совсем иное положение, чем наши пасторы, которые среди нас, самое большее, подобны приходским священникам, ибо они отвергли епископское достоинство (хотя оно и имеет прочное основание в Писании), и, я полагаю, им не стоит об этом сожалеть.
Передайте такому-то (это был пастор низкого происхождения, некогда бывший его слугой, которого его покровительство возвело в число управителей так называемой реформатской церкви Гренобля), что когда я увижу среди пасторов сыновей и братьев королевских, да и самих государей, как я вижу их среди епископов, архиепископов и кардиналов, — тогда я посмотрю, какую честь им оказывать.
Что же до господина Женевского, то будь я господином Женевским, как он, и правящим государем этого города, как он, я бы заставил себя там слушаться и признавать мою власть. Я знаю его права и титулы лучше, чем такой-то или любой из его коллег и помощников. Это мне учить их в этом деле, а им — молчать, если они разумны. Слишком мелки они и слишком молоды, чтобы учить жить человека моего возраста и моего звания».
После этого он удвоил почести и знаки внимания доброму епископу, к изумлению одних лишь наших так называемых реформатов; и в свою очередь получил от сего святого прелата такие наставления и столь добрые впечатления о нашей вере, что это весьма облегчило его обращение, когда он был призван к званию коннетабля, в котором и умер добрым католиком, стяжав поистине блаженную кончину.
Однажды, объезжая свою епархию с пастырским визитом, Блаженный был извещен, что один добрый крестьянин, находясь при смерти, желает получить его благословение, прежде чем умереть.
Блаженный, который никому не отказывал в благословении, пошел к нему и застал доброго крестьянина на пороге смерти, но в совершенно здравом уме.
Вне себя от радости, что может увидеть своего святого епископа перед смертью, он сказал ему: «Монсеньор, я благословляю Бога за то, что, прежде чем закрыть глаза, могу получить ваше святое благословение».
Он попросил исповедаться; все удалились, и после примирения с Богом, оставшись наедине с добрым прелатом, крестьянин спросил его: «Монсеньор, я умру?»
Блаженный, полагая, что им овладел страх, и желая его немного успокоить, сказал: «Я видел, как и не с такого дальнего расстояния возвращались», — и добавил, что нужно возложить все свое упование на Бога, Который есть Владыка нашей жизни и нашей смерти.
«Монсеньор, — сказал добрый крестьянин, — но как вы думаете, я умру?»
«Сын мой, — отвечал добрый пастырь, — на это врач ответил бы лучше меня. Могу лишь сказать, что вижу душу вашу в самом добром расположении, а ведь вы могли быть призваны и в другое время, когда не имели бы такой готовности к уходу. Лучшее, что вы можете сделать, это, оставив заботу и желание жить, всецело предаться попечению Промысла и милосердия Божия, дабы Он сотворил с вами по Своей благой воле, ибо воля Его, без сомнения, всегда будет для вас наивысшим благом».
«О, монсеньор, — возразил добрый крестьянин, — не из страха смерти я спрашиваю вас об этом, но скорее из страха не умереть, ибо мне горько и подумать о выздоровлении».
Блаженный весьма удивился таким речам, зная хорошо, что желание умереть обычно является уделом лишь душ в высшей степени совершенных, либо же несовершенных и склоняющихся к отчаянию или, по меньшей мере, пребывающих в глубокой меланхолии.
И спросил его, есть ли у него какое-то сожаление о жизни, и откуда в нем это отвращение к ней, любовь к которой столь естественна.
«Монсеньор, — сказал добрый человек, — сей мир — такая малость, что я и не знаю, как столько людей его любят; и если бы Бог не повелел оставаться, пока Он Сам нас не призовет, меня бы давно здесь не было».
Блаженный, вообразив, что сей человек охвачен какой-то великой скорбью, которая заставляет его гнушаться жизнью и столь настоятельно желать смерти, спросил, нет ли у него каких-либо тайных тягот, телесных или имущественных.
«Вовсе нет, — сказал тот, — я прожил весьма здоровую жизнь до тех лет, в которых вы меня видите, а мне семьдесят. Что до достатка, то его у меня даже слишком много. По милости Божией я не знаю, что такое бедность».
Блаженный спросил его еще, не бывает ли у него огорчений от жены или детей.
«Напротив, они — вся моя отрада, — отвечал он, — никогда они не причиняли мне ни малейшего огорчения; и если бы я и мог о чем-то скорбеть, покидая сей мир, то лишь о разлуке с ними».
Блаженный, не в силах угадать, откуда в нем это отвращение к жизни, спросил его: «Откуда же в тебе, брат мой, такое желание смерти?»
«Монсеньор, — отвечал он, — оттого, что на проповедях я всегда слышал, как превозносят иную жизнь и радости рая, и мне кажется, что здешний мир — это темница, сущая тюрьма».
Тут, говоря от избытка сердца на столь отрадную тему, он поведал ему о ней столько дивных вещей, что блаженный епископ был в восторге, и лицо его оросилось слезами умиления, ибо он ясно видел, что Сам Бог наставил его в этом, и что не плоть и кровь открыли ему сие, но Дух Божественный.
Снизойдя от этих высоких и небесных умозрений, он с такой силой живописал ничтожество величайших почестей, роскошнейших богатств и изысканнейших услад мира сего, что и в душе нашего Блаженного пробудил небывалое к ним отвращение.
Святой епископ отдал должное чувствам этого доброго человека, но, дабы удержать его от крайностей, в которые тот чуть не впал, побудил его торжественно высказать покорность воле Божией, принимая равно и жизнь, и смерть, по примеру святого Павла и святого Мартина. А спустя несколько часов, приняв из рук святого епископа последнее помазание, тот кротко испустил дух, и лик его, не искаженный страданием, в смертном упокоении показался прекраснее, чем был при жизни.
Есть желания земные, и есть желания небесные. Последних не может быть слишком много: это крылья, которые возносят нас к Богу; это те голубиные крылья, которые Пророк испрашивал у Бога, дабы улететь и упокоиться (ср. Пс. 54:7, Вульг.).
Что же до прочих, тех, что обращены лишь на блага преходящие и тленные и привязывают нас к земле, — то чем их меньше, тем лучше.
Святой Августин называет их «клеем для духовных крыльев» (Толкование на Евангелие от Иоанна, 40, 10).
От желаний последнего рода наш Блаженный был совершенно свободен. Вот как он говорил об этом:
«Я желаю немногого, а и то немногое, чего желаю, — желаю несильно. У меня почти нет желаний, и если бы мне довелось родиться вновь, я не желал бы их иметь вовсе».
И то правда, земля — ничто для того, кто устремлен к Небесам, и время — лишь тень для того, кто стремится к Вечности.
Во время его поездки в Париж в 1619 году, к нему пришел один человек, весьма обеспеченный благами земными, но еще более богатый благочестием и нищелюбием.
Этот добрый человек спросил епископа, возможно ли ему, при всем его богатстве, обрести спасение, и выказал немалый страх, что, владея столь большим состоянием, спастись не сможет.
Блаженный спросил его, откуда в нем этот страх.
Он отвечал: «Оттого, что я слишком богат, а вы знаете, что по слову Евангелия спастись богатому столь трудно, что это кажется и вовсе невозможным» (ср. Лк. 18:24).
Блаженный, не в силах составить суждение на основании одного этого ответа, спросил, не имеет ли тот неправедно нажитого достояния.
«Нисколько, — сказал тот, — мои предки, бывшие людьми весьма добропорядочными, не оставили мне ничего подобного; а то, что я приумножил, накоплено моими сбережениями и честным трудом. Да сохранит меня Бог от обладания чужим добром; совесть моя в этом чиста».
«Так что же, — спросил святой прелат, — вы дурно употребляете эти богатства?»
«Я содержу себя, — отвечал тот, — сообразно своему положению в обществе, но боюсь, что недостаточно подаю нищим, а вы знаете, что однажды мы будем судимы именно за это».
«Есть ли у вас дети?» — спросил наш Блаженный. «Да, — отвечал тот, — но все они хорошо обеспечены и легко могут без меня обойтись».
«Поистине, — возразил Блаженный, — я не знаю, откуда в вас могла зародиться такая мнительность. Вы первый, кого я встречаю, кто жалуется на изобилие своего достояния; большинству же всегда мало».
Ему было весьма легко вернуть этому доброму человеку душевный покой, ибо тот с готовностью внимал его советам.
А после он мне рассказал, что узнал, как этот добрый господин некогда занимал высокие должности, на которых служил весьма достойно, и что он оставил их все, дабы посвятить себя лишь подвигам благочестия и милосердия. Он не оставлял без внимания ни церквей, ни больниц, ни семейств стыдящихся просить помощи бедняков, причём делился с нуждающимся так щедро, что на их поддержку у него уходило более половины дохода. В завещании же своем, сверх многих других даров на дела благочестия, он назначил первым наследником Иисуса Христа, выделив приюту для неимущих долю, равную долям его собственных детей; и наконец, увенчал он такую жизнь блаженной кончиной.
Он имел обыкновение говорить, что благодать, как правило, подражает природе, а не искусству, которое работает лишь с внешним, как то видно в живописи и ваянии; природа же начинает свои труды изнутри, откуда и пошло известное изречение: «сердце первым рождается к жизни и последним умирает»¹.
Когда он желал привести души к жизни христианской и побудить их оставить жизнь мирскую, он не говорил о внешнем: ни о причёсках, ни о нарядах и прочем тому подобном; он обращался лишь к сердцу и говорил лишь о сердце, зная, что как только взята эта твердыня, остальное уже не устоит. «Посмотрите, как выбрасывают все убранство из окон, когда дом охвачен огнем, — говорил он. — Когда истинная любовь к Богу овладевает сердцем, все, что не от Бога, представляется нам ничтожным».
Однажды в разговоре с Блаженным кто-то удивился тому, что одна весьма знатная и набожная дама, находившаяся под его духовным руководством, не отказалась даже от серег.
Он ответил: «Уверяю вас, я даже не знаю, есть ли у нее уши, ибо, когда она приходит на исповедь, голова её столь тщательно укрыта под чепцом или накидкой, что мне и прически ее не видно. И потом, я думаю, что святая Ревекка, которая была уж никак не менее добродетельна, чем она, нисколько не умалила своей святости, нося серьги, которые Елиезер вручил ей от имени Исаака» (ср. Быт. 24:22, 47).
Та же самая дама вздумала украсить бриллиантами золотой крест, который носила, и в этом вновь упрекнули святого епископа, обвиняя ее в суетности. На это он отвечал, что именно то, в чем ее упрекают, и назидает его более всего. «Ах, — сказал он, — я бы желал, чтобы все кресты на свете были покрыты бриллиантами и драгоценнейшими камнями; ведь это и значит обратить на служение Скинии сокровища, забранные у египтян (ср. Исх. 12:35-36) и хвалиться Крестом Господа нашего Иисуса Христа? (ср. Гал. 6:14). И можно ли найти лучшее применение ее драгоценностям, чем украсить ими знамение нашего Искупления?»
¹ Афоризм, восходящий к античной медицине (Аристотель, Гален): лат. Cor primum vivens, ultimum moriens.
Он весьма ценил то прекрасное слово, которому Таулер научился от одного доброго крестьянина, данного ему Богом в духовные наставники.
Когда того спрашивали, где он нашел Бога, он отвечал: «Там, где я оставил самого себя; а где я нашел самого себя, там я потерял Бога».
Это отсылает нас к двум противостоящим Градам, Вавилону и Иерусалиму, созидаемым двумя видами чувства: богопротивного себялюбия и самоотверженного боголюбия. Первая из этих любовей, доходя до ненависти к Богу, созидает первый Град; вторая же созидает второй Град, доходя до ненависти к себе.
Если грех есть не что иное, как отвращение от Творца и обращение к творению, то разве не очевидно, что благодать, изменяя нас, лишь отвращает нас от творения, дабы мы вернулись к Творцу? Этому и учит нас Святой Дух, когда говорит, что никто не может служить двум господам — Богу и мамоне (ср. Мф. 6:24), и что не может быть согласия между светом и тьмою, между Христом и Велиаром (ср. 2 Кор. 6:14-15).
Умереть для себя и своих страстей, чтобы жить для Иисуса Христа, — вот истинная жизнь христианина; умереть же для Иисуса Христа, чтобы жить для себя и своих страстей, — вот путь к вечной смерти.
Если живете по плоти, — говорит святой Апостол, — то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете (Рим. 8:13).
Когда одна сестра жаловалась ему на свое внутреннее опустошение и бесплодие в молитвенном делании, он, вместо того чтобы утешать ее, говорил: «Что до меня, то я всегда ценил сухое варенье¹ больше, чем жидкое». И приводил слова Давида: «В земле пустынной, непроходимой и безводной, я предстал пред Тобою, как во святилище, дабы созерцать силу Твою и славу Твою» (ср. Пс. 62:2-3, Вульг.).
Манна, этот хлеб ангелов, эта небесная пища, была сухим зерном, и когда народ захотел променять ее на мясо, пищу более влажную, «пища была еще в устах их, как гнев Божий пришел на них» (Пс. 77:30-31).
Немногие убеждены в той истине, которая, однако, несомненна: союз праведной и верной души с Богом гораздо теснее и глубже во времена оставленности и опустошенности, нежели в пору благодатных порывов и чувственных утешений.
Ибо чем более душа услаждается утешением Божиим, тем менее она привязывается к Божественному Утешителю; подобно тому как пчелы, что производят больше всего воска, дают меньше всего меда.
Можно ли вообразить бо́льшую богооставленность, чем та, которую претерпел Спаситель на Кресте и которая исторгла из уст Его слова: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46). И однако, кто может усомниться, что Спаситель в тот час был теснейшим образом соединен с волей Своего Отца, — в союзе, в котором и состоит цель всякого свершения, ради которого Он и восклицает, что «совершилось» (Ин. 19:30), и в этом совершенном исполнении предает дух Свой в руки Отца.
О, как блаженна душа, что хранит верность во времена сухости и чувственного оставления; это и есть горнило, в котором чистое золото любви достигает совершенной чистоты. Блажен, кто с терпением выдерживает это испытание, ибо, «быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его» (Иак. 1:12).
______
¹ Сухое варенье (фр. confitures sèches) — традиционное для XVI-XVII веков лакомство, аналог современных цукатов или засахаренных фруктов.
Он трудился над искоренением своеобычия не только в монашеских обителях, где оно есть сущая язва, но и у тех, кто в миру стремится к набожной жизни, ибо, по его словам, этот недостаток делает их благочестие не только отвратительным, но и смешным.
Он желал, чтобы во внешнем, насколько возможно, сообразовались с образом жизни людей того же звания, не стараясь нарочито выделиться каким-либо своеобычием, и приводил в пример Господа нашего, Который во дни Своей земной жизни восхотел во всем уподобиться братиям, кроме греха (ср. Евр. 2:17; 4:15).
Сей Блаженный и сам весьма точно следовал этому уроку; признаюсь вам: четырнадцать лет я пребывал под его духовным руководством и с неослабным вниманием примечал все его поступки, вплоть до малейших движений, а равно и слова, но никогда не обнаружил в его поведении ничего, что хоть сколько-нибудь отзывалось бы своеобычием.
Здесь я должен открыть вам одну свою хитрость. Когда он приезжал ко мне в резиденцию и гостил там, по своему обыкновению, восемь праздничных дней, чего он не пропускал ни одного года, я нарочно проделал отверстия в некоторых местах, чтобы наблюдать за ним, когда он уединялся в своей комнате, — дабы видеть, как он ведет себя во время работы, молитвы, чтения, размышления, как он сидит, ходит, ложится, встает, пишет, словом — в тех малейших проявлениях, в которых человек часто позволяет себе вольности, оставаясь в одиночестве.
Однако я никогда не замечал, чтобы он отступал от строжайшего закона благопристойности; каким он был наедине с собой, таким же и в обществе, каким в обществе — таким и наедине; внешняя его стать соответствовала ровности его духа. Оставшись один, он был так же собран, как и на людях.
Когда он молился, можно было подумать, что он пребывает в присутствии ангелов и всех блаженных. Неподвижный, как столп, и с осанкой, выражающей глубочайшее благоговение.
Я даже нарочно следил, видя его одного, не скрестит ли он ноги, не закинет ли одну на другую, не подопрет ли голову локтем. Никогда.
Всегда строгость — но соединенная с такой кротостью, что все, кто на него взирал, проникались любовью и почтением.
Он часто говорил мне, что наше внешнее обхождение должно походить на воду, а лучшая вода — та, что самая прозрачная, самая простая и безвкусная.
И хотя в нем и не было ничего своеобычного, я находил его столь своеобычным в этом отсутствии всякого своеобычия, что все в нем казалось мне своеобычным.
Я навсегда запомнил то, что сказал мне однажды в Париже один великий и благочестивый муж: ничто так не напоминало ему о жизни Господа нашего среди людей, как присутствие и ангельский облик этого Блаженного прелата, о котором можно было сказать, что он был не просто облечен, но всецело исполнен Иисусом Христом.
Не могу вам передать, сколь высоко наш Блаженный ставил целомудрие сердца.
Он говорил, что целомудрие телесное — это лишь кора, сие же — сердцевина; что в целомудрии сердца — корень древа этой добродетели, а в телесном — его ветви и листья.
Он разумел под целомудрием сердца полное отречение от всякой недостойной привязанности.
Святой Бернард почитал за чудо более дивное, нежели воскрешение мёртвых, способность часто и дружески беседовать с особами иного пола, не замутив сего сердечного целомудрия, не говоря уж о том, чтобы сохранить его при этом в совершенной непорочности.
Есть и другое целомудрие сердца, которое состоит в чистоте намерения. О, сколь редка и эта чистота! Ибо чтобы ее обрести, говорил наш Блаженный, нужно видеть во всем лишь одного Бога, и все — лишь в Боге.
Это лучик из Рая, где Бог есть все во всех (ср. 1 Кор. 15:28).
Два великих папы, Климент VIII и Павел V, весьма высоко ценили нашего Блаженного, и последний не раз помышлял о том, чтобы возвести его в кардинальский сан, о чем Блаженный был извещен.
Однажды, когда я говорил с ним об этом, он сказал мне: «Ну полноте, о чем вы? И чем, скажите, помогло бы мне это звание в служении Господу нашему и Его Церкви? Разве Рим, где мне надлежало бы пребывать, — более подходящее для этого место, чем то, на которое поставил меня Бог? Разве там у меня было бы больше трудов, больше врагов, с которыми нужно бороться, больше душ, которые нужно вести, больше забот, больше упражнений в благочестии, больше визитаций, больше пастырских обязанностей?»
«Вы бы, — возразил я ему, — вошли в попечение о всех Церквах; и от управления одной частной Церковью перешли бы к управлению Церковью вселенской, совместно с папой и кардиналами».
«И все же вы видите, — возразил он, — что самые выдающиеся по учености и благочестию кардиналы наших дней, будучи епископами, оставляют Рим, хотя их пребывание там и предписано церковным правом. Они возвращаются в свои епархии, ибо Божественное право обязывает их быть со своей паствой. Сей высший долг пастырского служения требует, чтобы они неотлучно бодрствовали над своими стадами, пасли и вели души, им вверенные».
По этому поводу он рассказал мне примечательную историю о великом кардинале Беллармине, блаженной и святой памяти.
Он был возведен в это достоинство без его ведома и против его воли папой Климентом VIII. Также против своей склонности он был назначен архиепископом Капуи.
Сразу же после рукоположения он приготовился отправиться к месту своего служения.
Папа, — это был Павел V, — желая воспользоваться его службой в Риме, где он был весьма полезен в различных кардинальских конгрегациях, призвал его, чтобы узнать, твердо ли он решил ехать в Капую.
Он отвечал, что в этом он был куда более тверд, нежели в своем согласии на рукоположение; и что, поскольку повеление его святейшества обязало его взять на себя это бремя, было бы справедливо, чтобы он его и нес; и что он полагал, будто его святейшество не нуждается в нем в Риме, раз уж он дал ему попечение об этой провинции.
Когда папа сказал, что освободит его от этой обязанности, он возразил: «Святой отец, не тому я учил всю свою жизнь в школах, утверждая, что обязанность епископов пребывать в своей епархии установлена Божественным правом, и, следовательно, от нее нельзя освободить».
«По крайней мере, — сказал папа, — уделите нам половину года».
«А с кого взыщется кровь овец, — возразил кардинал, — которые погибнут за эти полгода?»
«Хотя бы три месяца!» — попросил папа.
А кардинал ответил: «[За три с того же взыщется,] как и за шесть».
И он действительно уехал в Капую, где непрерывно пребывал три года и где для отдохновения от своих трудов составил прекрасное и богатое Толкование на Псалмы. И папа не смог заставить его вернуться в Рим иначе, как позволив ему передать эту епархию в руки достойного прелата, избранного самим великим кардиналом.
Вот что думал об обязанности епископов пребывать на месте служения этот великий муж, который в наши дни был столпом в Доме Божием и снабдил нас щитом и мечом против ересей.
Того же мнения придерживался и святой Карл Борромей, честь епископов и кардиналов, а равно и его достойнейший преемник, кардинал Федерико Борромей, один из ученейших и благочестивейших прелатов, какие только есть в Церкви.
Что же до нашего Блаженного, то ценность высоких санов, как церковных, так и светских, он измерял лишь тем, насколько они способствовали служению Богу и приумножению Его славы.
Никто, как говорит Апостол, не восхищает себе чести сам, но лишь тот, кто призван Богом, подобно Аарону (ср. Евр. 5:4).
Таков образ призвания нашего Блаженного. Отдав себя Церкви без иного намерения, кроме как служить в ней Богу, и пройдя все степени служения — каноника, приходского священника и настоятеля собора, проповедника, духовника, миссионера, — он и не помышлял о большем, когда Бог внушил его предшественнику обратить на него свой взор.
Никогда Блаженный не говорил с ним об этом, ни прямо, ни косвенно, и не просил никого говорить от его имени. Когда же тот открыл ему свое намерение, он не стал услаждать его слух красивыми словами или притворными отказами, но позволил ему говорить и действовать, а лучше сказать — взирал на одного лишь Бога и во всем предался Промыслу.
Монсеньор де Гранье, епископ Женевский, без малейшего вмешательства со стороны Блаженного, получил согласие его высочества герцога Савойского и представил кандидатуру Его Святейшеству. Папа, будучи хорошо осведомлен о добродетели и способностях предложенной кандидатуры, согласился на этот выбор с тем условием, чтобы тот явился в Рим для испытания на полной консистории¹. Это и обязало нашего Блаженного предпринять то путешествие, которое, вместе с его успехом и похвалой, возданной ему папой Климентом VIII, подробно описано в его житии².
Чего еще было ожидать от столь дивного призвания, кроме тех плодов, что оно и принесло?
Так, во время чина его рукоположения, Бог дал ему узреть весьма ясно и вразумительно, что три достопоклоняемые ипостаси Пресвятой Троицы совершали в его душе особые благодатные действия, дабы помочь ему в епископском служении, в то самое время как три епископа, его рукополагавшие, изливали на него свои благословения. Поэтому он всегда почитал себя рукоположенным Самой Пресвятой Троицей.
¹ Полная консистория (лат. consistorium plenum) — торжественное публичное заседание коллегии кардиналов под председательством Папы, созываемое по особо важным вопросам. В данном случае речь идет о каноническом экзамене, на котором кандидат в епископы должен был доказать свое знание богословия и канонического права.
² Речь идет о первом и наиболее авторитетном жизнеописании святого, составленном его племянником, Шарлем-Огюстом де Салем, и опубликованном около 1657 года.
В 1619 году, прибыв в Париж вместе с принцами Савойскими, он пробыл там восемь месяцев. Невозможно передать словами, сколько за это время он потрудился на благо душ во славу Божию.
Он снискал великое уважение не только у паствы, но и у ее пастыря, которым в то время был монсеньор кардинал де Рец. То был прелат несравненной кротости, благосклонности, приветливости, человеколюбия, щедрости, скромности и умеренности — качеств поистине пленительных.
Все устремлялись к Блаженному, словно бы влекомые небесным благоуханием, а кротость его нрава и обхождение произвели на сего прелата столь сильное впечатление, что он возымел желание сделать его своим коадъютором.
Не ожидая встретить сопротивления со стороны нашего Блаженного, он уже заручился согласием короля.
Но наш святой сумел с дивным искусством отклонить это предложение, оставив великого кардинала в восхищении своей добродетелью, но не доставив удовлетворения, какое тот мог бы получить от его уступчивости.
Блаженный приводил различные причины, но среди прочих — и ту, что мне весьма по душе, а именно: он не считает, что должен менять бедную жену на богатую. И что если бы он и оставил свою супругу, свою Церковь, то не для того, чтобы взять другую, но чтобы не иметь ее вовсе, следуя совету Апостола: Остался ли без жены? не ищи жены (1 Кор. 7:27).
Прибавил он и то, что, отдав своей Церкви всю свою любовь, он, по его словам, уже не мог воспылать ею к другой.
Замысел его состоял в том, чтобы, вернувшись из Лиона (где ему суждено было умереть), удалиться в уединение и, потрудившись столько лет в служении Марфы, посвятить остаток своих дней служению Марии.
Для этого он велел построить скит в весьма подходящем и приятном месте на берегу прекрасного озера Анси. Он также велел украсить старую часовню, что была близ того места, и возвести пять или шесть келий, обнеся их красивой оградой.
По соседству находился бенедиктинский монастырь, где его попечением была введена реформа, и он находил утешение в общении со святыми и добродетельными насельниками этой священной пустыни, видя в них возлюбленнейших братьев и чад.
Итак, его намерением было удалиться в эту святую пустынь, передав управление своей епархией монсеньору Халкидонскому¹, своему брату и коадъютору. И когда он, обдумывая своё грядущее затворничество, говорил о том с приором соседнего монастыря, то изъяснялся в таких выражениях:
«Когда мы удалимся в наш скит, мы будем служить там Богу молитвой по бревиарию и розарию, а также пером. Там мы с усладой употребим святой досуг на то, чтобы изложить во славу Божию и в назидание душам те мысли, что я более тридцати лет вынашиваю в сердце и к которым прежде обращался в своих проповедях, наставлениях и частных размышлениях. У меня сохранилось множество записей, но помимо того уповаю на Бога, ведь по Его вдохновению замыслы могут просыпаться на нас с Небес, как частые хлопья снега, целиком убеляющего зимой наши горы. О, кто дал бы мне крылья голубиные, чтобы улететь в сей священный покой и хоть немного отдохнуть под сенью Креста? (ср. Пс. 54:7, Вульг.). Там я буду ждать, доколе не придет мне перемена — expectabo donec veniat immutatio mea» (Иов. 14:14, Вульг.).
Но увы! Бог готовил ему совсем иной покой, который и стал плодом всех трудов его.
__________
¹ Речь идет о Жане-Франсуа де Сале (1578–1635), младшем брате святого Франциска. Будучи назначенным епископом-коадъютором (помощником с правом наследования кафедры) своего брата, он получил титул епископа Халкидонского — по названию древней, уже не существующей епархии в Малой Азии.
Один прелат, приехав навестить нашего святого, был принят им по его обыкновению, с великим радушием, и задержался у него на несколько дней.
В пятницу вечером Блаженный пришел к нему в комнату и спросил, не угодно ли тому будет пройти к столу, где их ожидал ужин. «Ужин? — сказал на это прелат. — Какой же может быть ужин в пятницу? Уж хотя бы разок в неделю можно было бы и попоститься!»
Блаженный не стал ему прекословить и, удалившись, повелел принести тому легкую трапезу в его комнату, а сам сошел в залу, чтобы разделить ужин с капелланами этого прелата и со своими домашними.
Капелланы того прелата рассказали Блаженному, что их господин был столь точен и исполнителен в своих благочестивых упражнениях, будь то молитва, пост или иное подобное делание, что не делал ни малейшего послабления ни для кого из своих гостей; не то чтобы он не садился за стол с другими в дни, когда постился, но вкушал лишь то, что дозволялось по постным предписаниям.
Однажды, когда мы беседовали о святой духовной свободе, он рассказал мне эту историю и заметил, что снисхождение есть дочь любви, равно как пост — родная сестра послушания; и что если послушание лучше жертвы (ср. 1 Цар. 15:22), то не следует и колебаться, предпочитая снисхождение и гостеприимство посту. «Видите ли, — говорил он мне, — не нужно привязываться даже к самым благочестивым упражнениям настолько, чтобы не быть в силах порой их прервать. Иначе, под предлогом твердости духа и верности, в душу прокрадывается весьма утонченное самолюбие, которое заставляет предпочитать средство цели; ибо вместо того, чтобы устремляться к Богу, человек привязывается к средству, которое к Богу ведет.
Что же до случая, о котором мы говорим, то, прервав в подобных обстоятельствах пятничный пост, прелату удалось бы скрыть многие другие, а ведь скрывать такие добродетели — не меньшая добродетель, чем сами те добродетели, что скрываешь. Бог есть Бог сокровенный (Ис. 45:15), Который любит, чтобы Ему служили, молились и поклонялись втайне, как учит нас Евангелие (ср. Мф. 6:6). Вы знаете, что случилось с тем неосмотрительным царем Израильским¹ из-за того, что он показал свои сокровища послам варварского царя: тот затем нагрянул с могучим войском и похитил их у него.
Поверь мне, хорошо прожил тот, кто хорошо укрылся².
Тот, кто увидел бы его ужинающим в пятницу, никогда бы не догадался, что он имел обыкновение поститься каждую пятницу. Он мог бы перенести этот пост на субботу или на следующую неделю. Словом, он мог пренебречь этим постом и пригласить на его место добродетель снисхождения.
Я исключаю, однако, случай обета, ибо в этом нужно быть верным до смерти и не заботиться о том, что скажут люди, лишь бы Богу было угодно».
_____
¹ Речь идет о царе Езекии, показавшем свои сокровищницы послам вавилонским (4 Цар. 20:12-19). ² Crede mihi, bene qui latuit, bene vixit. Овидий, «Скорбные элегии», III, 4, 25.
Однажды этот блаженный прелат спросил меня, легко ли мне поститься. «Настолько, — отвечал я, — что почти никогда не чувствую голода, и когда сажусь за стол, то почти всегда без аппетита».
«Тогда, — сказал он, — не поститесь много». «Почему? — спросил я. — Ведь этот вид умерщвления плоти указан в Писании». «Это, — возразил он, — для тех, у кого аппетит лучше вашего. Сотворите какое-нибудь иное доброе дело и истязайте плоть свою иным подвигом». «Я не из самых крепких, — сказал я, — чтобы выносить великие телесные труды». «Величайший из всех, — отвечал он, — это пост, ибо он подносит секиру к корню древа; прочие же лишь скоблят, царапают, подрезают ветви. Тело, питаемое скудно, легче укротить; напротив, будучи вдоволь накормлено, оно так и норовит взбрыкнуть, ибо от избытка тука легко родится беззаконие (ср. Пс. 72:7, Вульг.).
Те, кто по природе своей воздержан, имеют великое преимущество в учении и в духовных делах; тело их подобно коню в узде, которым легко управлять.
Наш святой не был сторонником неумеренных постов. Дух, — говорил он, — не может нести тело, когда оно слишком тучно, а тело не может нести духа, когда оно слишком измождено. Он любил во всем умеренность, говоря, что Бог желает «разумного служения» (ср. Рим. 12:1), и добавлял, что силы телесные всегда легко убавить, причем когда угодно, но восстановить их, когда они подорваны, не так-то просто. Легко ранить, не так легко исцелить.
Дух должен обращаться с телом то как со своим дитятей, когда оно послушно, не изнуряя его; то как с мятежным подданным, когда оно восстает, следуя слову Апостола: Усмиряю и порабощаю тело мое (1 Кор. 9:27); то как с конем, когда оно упрямится, ну и, по слову доброго святого Франциска Ассизского, как с «братом ослом».
Когда я советовался с ним о своем желании оставить епископское служение, чтобы вести уединенную жизнь, он отвечал мне словами святого Августина: Otium sanctum diligit charitas veritatis, & negotium justum suscipit necessitas charitatis. То есть: «Любовь к истине ищет святого досуга, нужда же любви берет на себя должное дело»¹.
Он пояснил, что любовь к вечной Истине ищет святого покоя, чтобы беспрепятственно питаться им; но истинная любовь, или милосердие, побуждает нас браться за все, что может послужить благу ближнего и славе Божией.
И хотя он выше ценил удел Марии, названный в Евангелии «благой частью», он, всё же, полагал, что служение Марфы, совершаемое ради Бога, более соответствует земной жизни, тогда как служение Марии более подобает Небесам.
Он делал исключение лишь для некоторых особых призваний, сопровождаемых столь могущественными влечениями, что им почти невозможно противостоять, а также для тех, кто, не имея дарований для деятельного служения Марфы, обладал способностями, свойственными жизни созерцательной. А равно и для тех, кто, истощив все свои телесные силы в служении душам, удалялся от дел на склоне лет, дабы лучше приготовиться к смерти.
Посему он счел мое желание удалиться от мира искушением и так отговорил меня, что, покуда он был жив, я не смел о том и подумать. Но после его кончины мысль эта вновь стала одолевать меня с такой силой, что я решился сойти на берег и укрыться в этом гроте, откуда, словно из убежища, я взираю на бури и невзгоды, что треплют корабли других мореходов².
___________
¹ Св. Августин, «О Граде Божием», кн. XIX, гл. 19. Перевод по изданию Киевской духовной академии.
² Классическая аллюзия на начало второй книги поэмы Лукреция «О природе вещей» (ст. 1-4), где философ из безопасного укрытия созерцает мирские бури.
Он различал смирение внешнее и внутреннее. И говорил, что если первое не рождается от второго или хотя бы им не сопровождается, оно весьма опасно, ибо это лишь кора, лишь наружность, лишь обманчивый и лицемерный вид; если же оно происходит от смирения внутреннего, то оно весьма благо, и служит к назиданию ближнего.
Он также различал в смирении внутреннем смирение ума и смирение воли.
Первое встречается довольно часто, ибо кто не знает, что он есть ничто? Отсюда и проистекают все эти красивые речи о собственном ничтожестве и о ничтожестве творений.
Второе же весьма редко, ибо немногие любят само уничижение. У этой последней добродетели есть различные степени: первая — любить его; вторая — желать его; третья — жить им, либо изыскивая случаи для самоуничижения, либо с радостью принимая те, что посылаются нам.
Наш Блаженный несравненно выше ставил последнее, ибо куда большее уничижение претерпевает тот, кто с радостью принимает, любит и объемлет те уничижения, что приходят не по его выбору, нежели те, что он избирает для себя сам. Причина в том, что наш собственный выбор весьма уязвим для нападок самолюбия, если только не содержит намерения совершенно прямого и очищенного, а кроме того, там, где меньше привносится от нас, там всегда больше воли Божией.
Когда же человек доходит до того, что ради любви к Богу находит усладу в уничижениях, поношениях, поруганиях и презрении, и даже преизобилует радостью и исполняется утешением (ср. 2 Кор. 7:4), тогда чем глубже его унижение, тем он возвышеннее.
Он говорил, что под нищетой духа следует разуметь три превосходные добродетели: во-первых, простоту; во-вторых, смирение; в-третьих, христианскую нищету.
Простота состоит в том, чтобы, взирая на Бога как на единственную цель, к Нему одному направлять все множество помыслов о вещах, которые не суть Бог.
Смирение — в том, что, подобно как нищий почитает себя самым презренным и последним из всех людей, так и истинно смиренный не видит на земле никого ниже себя и почитает себя за сущее ничто и раба ничего не стоящего (ср. Лк. 17:10).
Христианскую нищету он разделял на три вида:
Первая превосходна и может быть явлена и среди величайших богатств; такова была нищета Авраама, Давида, святого Людовика и многих других великих святых, которые были духом расположены к нищете, готовы с благословением, хвалой и благодарением принять бедность, если бы Богу угодно было им ее послать.
Вторая сугубо несчастна, ибо сочетает в себе тягостное положение бедняка и муку от лишения богатств, которых страстно желает.
Третья же есть та, что заповедана в Евангелии. Она дается нам либо от рождения, либо вследствие какого-либо крушения земных надежд; и тогда мы принимаем ее с добрым сердцем, и, если благословляем Бога в этом состоянии, то шествуем вослед Иисусу Христу, Его Пресвятой Матери и Его апостолам, ведь известно, что они жили в нищете.
Есть и другой способ жить этой нищетой: когда, по совету Иисуса Христа, мы продаем все, что имеем, и раздаем нищим (ср. Лк. 18:22), чтобы последовать за Ним в том состоянии нищеты, которое Он избрал из любви к нам, дабы обогатить нас этой самой нищетой. Сие совершается достойно тогда, когда тот, кто оставил все свое достояние ради Господа, трудится своими руками не только для того, чтобы заработать себе на жизнь, но и чтобы подавать милостыню.
Этим и хвалится Апостол Павел, когда говорит: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых...» (Деян. 20:33-35).
Одна знатная и набожная особа потерпела полное разорение. Эта беда, лишившая ее большого состояния, повергла ее в безутешное горе, и в припадках скорби она доходила до того, что произносила дерзкие слова против Бога, будто Промысл оставил ее без Своего попечения.
Блаженный, сперва попытавшись отвратить ее взор от земного и возвести к Богу, спросил ее, не дороже ли ей Бог всех этих благ и всего мира? И, полюбив Его, когда она обладала многим, не готова ли она любить Его, не обладая ничем?
Душа эта отвечала ему, что речи сии скорее умозрительны, чем жизненны, и что такое легко на словах, да не на деле.
«Поистине, — возразил Блаженный, — слишком жаден тот, кому недостаточно одного лишь Бога».
Это слово, «жаден», так живо тронуло сердце, прежде глухое к увещеваниям, что несчастная не смогла удержаться от слез, ибо всегда была великой противницей жадности.
Любить кого-либо — значит не только желать ему добра, но и творить ему добро, когда имеешь на то возможность; иначе рискуешь заслужить упрек, с которым святой Иаков обращается к тем, кто утешает бедных лишь словами, не помогая им на деле, хотя и имеет такую возможность (ср. Иак. 2:15-16).
Блаженный прелат питал к бедным столь нежную любовь, что, казалось, лишь в этом одном и выказывал лицеприятие, всегда предпочитая их богатым как в делах духовных, так и в телесных, подобно врачам, что спешат к самым больным.
Однажды я, вместе с несколькими другими, ожидал своей очереди на исповедь, в то время как он исповедовал одну бедную слепую старуху, просившую хлеба по домам. И когда я подивился долготе этой исповеди, он сказал мне: «В делах Божиих она прозорливее многих зрячих».
В другой раз я плыл с ним в лодке по озеру Анси, и лодочники, что были на веслах, называли его «отцом» и обращались с ним совершенно запросто. «Видите ли, — говорил он мне, — эти добрые люди называют меня своим отцом и любят меня воистину по-сыновнему. О, насколько это для меня отраднее всех почестей от тех приверженцев церемоний, что величают меня монсеньором».
Однажды я говорил с ним об одном изречении Сенеки: «Велик тот, кто глиняной утварью пользуется как серебряной, но не менее велик и тот, кто серебряной пользуется как глиняной»¹.
«Этот философ, — сказал он мне, — прав, говоря так; ибо первый питается лишь пустым воображением, которое легко становится жертвой тщеславия; второй же ясно показывает, что он выше богатств, ибо в его глазах они не дороже праха».
А когда я продолжил нахваливать этого философа, полагая, что его правила весьма близки к евангельским, он сказал мне: «Да, по букве, но нисколько не по духу».
«Отчего же?» — спросил я. «Оттого, — отвечал он, — что дух Евангелия стремится лишь к одному: совлечь с нас нас самих, дабы мы облеклись в Иисуса Христа и в силу свыше; отречься от себя, дабы всецело зависеть от Благодати. Сей же философ всегда возвращает нас к нам самим, ибо, по его учению, мудрец не должен искать довольства и блаженства вне себя, что есть явная гордыня.
Христианский мудрец должен быть мал в собственных глазах, и столь мал, чтобы почитать себя за ничто. Сей же философ, напротив, желает, чтобы мудрец, которого он себе воображает, был превыше всего, почитал себя владыкой вселенной и творцом своей собственной судьбы, что есть несносное тщеславие».
_______________
¹ Сенека, «Нравственные письма к Луцилию», письмо 5. Пер. С. А. Ошерова.
Великий Генрих IV, король Франции, весьма высоко ценя добродетель нашего Блаженного и ожидая, когда освободится какое-либо епископство с доходом большим, чем у Женевского, и зная, что состояние его было невелико, предложил ему весьма значительную пенсию.
Блаженный не желал ни покидать свою церковь, ни возбуждать ревность своего государя, в чьих владениях находилась его резиденция, принимая пенсию от другого монарха. Посему он нашел способ, который позволил ему одним ответом избежать обеих этих опасностей.
Он выразил смиреннейшую благодарность за ту заботу, которую его величество соизволил явить о его судьбе, почитая за величайшую для себя честь то, что столь великий монарх о нём благосклонно помнит. Однако он умолял короля оставить его на том посту в своей Церкви, на который его поставил Бог, ибо считал, что епископства следует оценивать не по доходам, но лишь по той службе, которую в них можно сослужить Богу, а в этом, по его мнению, его епархия не уступала никакой другой.
О пенсии же он сказал, что не отказывается от нее, ибо она — дар из королевских рук, достойных величайшего почтения, но умоляет его величество согласиться на то, чтобы она осталась на хранении у казначея, до тех пор пока не понадобится для служения католической вере или бедным. Ибо, прибавил он, до сего дня Бог весьма щедро снабжал его всем необходимым для жизни.
Великий Генрих восхитился его находчивостью и рассудительностью и дал высокую похвалу его благоразумию, сказав: «Вот самый учтивый и обходительный отказ, какой мне когда-либо давали. Сей муж воистину неподкупен, ибо он выше любых подарков¹».
_______
¹ Здесь заключена игра слов. Французское les présents означает и «дары», и (в аскетике) «все настоящее, сиюминутное, земное». Таким образом, король (возможно, сам того не осознавая) говорит не только о том, что святой выше подкупа, но и о том, что он выше всех временных, земных благ.
Наш Блаженный весьма высоко ценил жизнь по общему уставу. Посему он не желал, чтобы дочери ордена Посещения, основателем которого он был, имели какие-либо особые ограничения в одежде, постели или пище. Он установил для них правила касательно еды, постов и одеяний, сообразуясь с общим обыкновением всех, кто желает жить по-христиански в миру; в чем эти добрые дочери подражают Иисусу Христу, Его Пресвятой Матери и Апостолам, которые жили именно обыкновенно. При этом он предоставлял благоразумному суждению настоятельниц позволять или предписывать особые умерщвления плоти, в зависимости от нужд отдельных сестер, для которых эти средства окажутся необходимы.
Не то чтобы наш Блаженный не ценил телесных подвигов, но он желал, чтобы к ним прибегали с рвением, соединенным с рассуждением, охраняя ими чистоту тела, но не подрывая здоровья. Одним словом, он предпочитал жизнь Иисуса Христа жизни святого Иоанна Крестителя.
Он часто повторял евангельское правило: «Ешьте, что вам предложат» (Лк. 10:8), и заключал из этого, что большее умерщвление плоти заключается в умении приспособить свой вкус ко всякой пище, нежели всегда избирать худшее.
Часто бывает, что и самые изысканные яства нам не по вкусу; протянуть к ним руку, не выказав ни малейшего отвращения, — вот немалый подвиг. Неудобства от него ложатся лишь на самого подвижника.
Он почитал своего рода неучтивостью, сидя за столом, не то что брать, но даже просить какое-либо дальнее блюдо, оставляя то, что стоит ближе. По его словам, это выдавало в человеке излишнее пристрастие к яствам и соусам. Если же кто поступает так не из чревоугодия, а чтобы выбрать кушанья попроще, то выказывает тем некоторую нарочитость, которая неотделима от тщеславия, как дым от огня.
Как можно быть чревоугодником, питаясь одной капустой, так можно быть и воздержанным, вкушая куропаток; но быть равнодушным и к тому, и к другому блюду — вот что свидетельствует об умерщвлении вкуса, которое встречается нечасто. Есть изысканные яства, не получая от них удовольствия, труднее, чем с наслаждением вкушать пищу грубую.
Однажды ему подали яйца-пашот (а говоря о яйцах, он имел обыкновение повторять вслед за святым Бернардом, что бедные яйца мучают сотней способов), и доев их, он принялся макать хлеб в воду, остававшуюся на блюде, так же, как прежде макал в яйца.
Сидевшие за столом стали посмеиваться над этой его оплошностью. Когда же он узнал о причине, то сказал им: «Поистине, вы весьма неправы, что раскрыли мне глаза на сие приятное заблуждение, ибо уверяю вас, редко какой соус я ел с бо́льшим аппетитом, чем этот. Правда, и голод мой тому немного способствовал, подтвердив правоту пословицы, что он — лучшая приправа».
Случай этот подобен тому, что произошел со святым Бернардом, который выпил масло вместо вина, не заметив того, — столь мало он обращал внимания на то, что пил и ел.
Случилось так, что несколько капитанов, чьи солдаты стояли гарнизоном в моей епархии во время Великого Поста, пришли ко мне просить дозволения для своих солдат есть яйца и сыр.
Я, не имевший обыкновения давать такие дозволения никому, кроме болящих, оказался в затруднении, тем более в краю, где Пост соблюдается так строго, что даже разрешение вкушать масло соблазняет крестьян.
Поэтому я немедля отправил к Блаженному, чья резиденция находилась всего в восьми лье от Белле, гонца, который служил у меня лишь для того, чтобы доставлять ему все мои послания, что случалось нередко. И вот каково было его решение по этому вопросу.
«Я благоговею, — писал он мне, — перед верой и благочестием сих добрых сотников¹, что обратились к вам с просьбой, которую, без сомнения, следует удовлетворить, поскольку она назидает не Синагогу, а Церковь. Более того, я бы не только дозволил, но и расширил дозволение: вместо яиц — дозволил бы им есть быков², а вместо сыра — самих коров, из чьего молока его делают.
Право же, — добавлял он, — любезно с вашей стороны советоваться со мной о том, что солдатам есть в Пост, как будто закон войны и закон нужды — не самые суровые из всех законов и не стоят выше всяких исключений.
Дай Бог, чтобы все их злодеяния ограничивались вкушением яиц или быков, сыра или коров; не твори они бо́льших бесчинств, и жалоб на них было бы куда меньше».
_____
¹ Сотник (фр. centenier; лат. centurio) — знаковая новозаветная фигура в Новом Завете, неизменно предстающая в положительном свете как образец веры и благочестия, проявляемого в языческой, военной среде (сотник из Капернаума, сотник у Креста, сотник Корнилий). Называя так капитанов, святой Франциск иронично, но с глубоким уважением превозносит их заботу о солдатах, видя в ней евангельскую добродетель. ² Здесь игра слов, построенная на созвучии: œufs (яйца) и bœufs (быки).
Нашему Блаженному в течение жизни удавалось пользоваться всеми орудиями покаяния так искусно и так удачно их скрывать, что слуга, помогавший ему утром и отходе ко сну, никогда ничего и не замечал. Лишь сама смерть открыла эту тайну, явив то, что он всегда держал в глубочайшем секрете.
Один случай позволит вам судить об остальном. Однажды его камердинер нашел в рукомойнике остаток рыжеватой воды, словно бы окрашенной кровью. Он не мог понять, откуда она взялась, ибо сам же принес Блаженному эту воду для омовения рук. Он стал внимательно следить и заметил, что в этом рукомойнике святой мыл свою дисциплину¹, обагренную кровью. И хотя воду он выливал, на дне оставалось немного, что и навело слугу на догадку.
______
¹ Дисциплина (лат. disciplina) — небольшой бич или плеть, использовавшаяся для аскетического самобичевания.
Видя, как неохотно я даю разрешения и послабления и как беспрестанно осаждаю его вопросами на сей счет, он сказал мне однажды: «Вы довольно советуетесь со мной о других, но что вы делаете, когда сами оказываетесь в подобной нужде?» «Я поступаю, — отвечал я, — как велит мне совесть, иногда прибегая к помощи моего постоянного духовника».
«Почему бы вам не поступать так же и с другими?» «Но ни я, ни мой духовник — не епископ Женевский». «Что ж, — сказал он, — помяните мое слово, настанет день, когда вы станете советоваться с этим епископом о себе самом, и вам уже не так легко будет поверить ему, как ныне, когда он дает вам советы относительно других».
Когда я стал уверять его, что он окажется плохим пророком и что я поверю ему в том, что касается меня, еще охотнее, чем в том, что касается других, он возразил: «Добрый наш святой Петр говорил то же самое и Господу нашему, однако вы знаете, как он сдержал свое слово».
«Запомните еще и вот что: когда вы начнете быть снисходительным к другим, вы станете строги к себе; ибо таков обычай, что те, кто слишком многое себе прощает, весьма суровы к другим. И вот тогда-то вы и станете чаще советоваться с епископом Женевским, а он будет подобен бедной Кассандре: будет говорить правду, а ему не поверят».
О, воистину, мой блаженный отец был в тот год первосвященником (ср. Ин. 11:51), ибо он пророчествовал, и все случилось в точности так, как он мне предсказал.
Однажды мы вместе вошли в келью одного картезианца, мужа, отличавшегося изяществом ума и редким благочестием, и нашли там начертанными два стиха одного древнего поэта:
Tu mihi curarum requies, tu nocte vel atra Lumen, & in solis tu mihi turba locis.
Что можно перевести так: «Ты мне в заботах покой, ты мне в ночи тёмной светило, / В пустынях диких ты мне — многолюдный народ»¹.
Тут мы принялись толковать эти стихи. Блаженный сказал нам, что Бог есть единственный покой для тех, кто оставил все заботы мира, дабы в уединении слушать, как Он говорит в их сердце; и что без этого внимания уединение стало бы затяжной мукой и источником беспокойств, а не средоточием покоя.
Напротив, те, на ком лежат заботы Марфы, не перестают наслаждаться глубоким покоем благой части Марии, если только все свои заботы они обращают к Богу.
Рядом мы увидели слова Пророка: Hæc requies mea in sæculum sæculi, hic habitabo quoniam elegi eam. («Это покой Мой на веки веков, здесь вселюсь, ибо Я возжелал его» (Пс. 131:14)).
«В Боге, — сказал Блаженный, — а не в келье следует избирать себе обитель, дабы не менять ее вовек. О, как блаженны живущие в этом доме, который есть не просто дом Господень, но Сам Господь, ибо они будут восхвалять Его во веки веков! (ср. Пс. 83:5)».
Мы увидели и другое изречение: Unam petii a Domino, hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitæ meæ, ut videam voluptatem Domini, & visitem templum ejus. («Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его» (Пс. 26:4)). «Истинная обитель Господня, — сказал Блаженный, — есть Его святая воля».
Мы вернулись к нашим стихам и, остановившись на словах tu nocte vel atra lumen, он сказал: «Иисус, родившись в Вифлееме, сотворил ясный день посреди ночи, ведь и воплотился Он для того, чтобы просветить сидящих во тьме и тени смертной (ср. Лк. 1:79). Воистину, Он — свет наш и спасение наше, и, если бы мы и пошли посреди тени смертной, не убоялись бы зла, имея Его рядом с собой (ср. Пс. 22:4). Он — свет миру (ср. Ин. 8:12), Он обитает во свете неприступном (ср. 1 Тим. 6:16), во свете, который тьма не объяла (ср. Ин. 1:5)».
Et in solis tu mihi turba locis. «Да, воистину, — сказал он, — беседа с Богом в уединении лучше, чем толпа, что осаждает врата великих мира сего, которые могут поддерживать свое величие лишь в суете дел, под гнетом докучливых просителей и ценой своего покоя.
Несчастное величие, что приобретается и сохраняется такими трудами и которого, однако, лишаются с таким сожалением! Потому-то и гласило одно из его прекрасных изречений: «Нужно находить усладу в себе самом, когда пребываешь в уединении, и в ближнем, как в себе самом, когда находишься в обществе, и везде находить усладу в одном лишь Боге, Который сотворил и уединение, и общество. Кто поступает иначе, тому везде будет скучно, ибо уединение без Бога — это смерть, а общество без Него — более пагубно, чем желанно. Везде хорошо с Богом, и нигде — без Него».
_____
¹ Альбий Тибулл, «Элегии», кн. IV, 13, ст. 11-12. Пер. Л. Остроумова.
Сие слово святого Павла было ему особенно дорого: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии» (Флп. 4:12).
Он говорил, что уметь жить в изобилии — куда труднее, чем уметь переносить скудость. Тысяча падет от левой руки — в напастях, и десять тысяч от правой — в благоденствии; столь трудно в изобилии идти прямым путем. Это и заставляло Соломона говорить: «Господи, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом» (ср. Притч. 30:8).
Умение хранить умеренность посреди богатств один древний мудрец сравнивал с купиной неопалимой, что горела и не сгорала, и с тремя отроками, вышедшими из печи Вавилонской невредимыми.
Смирение, — говорит святой Григорий, — подвергается великой опасности среди почестей, целомудрие — великому риску среди услад, а умеренность — великой угрозе среди богатств¹.
Умение жить в изобилии и переносить скудость с ровным сердцем есть верный знак того, что человек взирает на одного лишь Бога и в бедности, и в богатстве; ибо ни тяготы первой не повергают его в уныние, ни блага второго не надмевают его.
Кто способен с равным расположением духа целовать обе руки Божии, тот достиг вершины христианского совершенства и обретет спасение в Господе.
_____
¹ Св. Григорий Великий, «Моралии на Книгу Иова», кн. XXII, гл. 13 (30).
Следуя своему великому правилу — ничего не просить и ни от чего не отказываться, — он имел обыкновение принимать скромные подношения, которые доставались ему от бедных людей, даже во время совершения Таинств.
Было назидательно видеть, с какой благосклонностью и радушием он принимал при таких обстоятельствах горсть орехов, или каштанов, или яблок, или небольшие сыры, или яйца, которые подносили ему дети или бедняки. Иные давали ему су, дубли или лиарды¹, которые он принимал смиренно и с благодарением. Он брал даже те три-четыре су, которые ему порой предлагали за мессу в какой-нибудь деревне, и совершал службу с великим тщанием.
То, что ему давали деньгами, он сам раздавал бедным, которых встречал при выходе из церкви; а съестное уносил в складках своего стихаря или в карманах и клал на полки в своей комнате или отдавал эконому с условием, чтобы это подали ему к столу, говоря иногда: «От трудов рук твоих будешь есть: блажен ты, и благо тебе!» (Пс. 127:2, Вульг.).
Он весьма высоко ценил те места из Писания, где святой Павел с особой настойчивостью заповедует труд (ср. 2 Фес. 3:7-12), а также и сии слова: «Человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх» (Иов. 5:7); и «кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3:10). И с любезной улыбкой добавлял, что если бы мужчина мог жить не трудясь, а женщина — рожать без боли, они бы выиграли свою тяжбу с Богом².
_____
¹ Су, дубль, лиард — старинные французские монеты самого малого достоинства.
² Это ироничный намек на Божий приговор Адаму («в поте лица твоего будешь есть хлеб» — Быт. 3:19) и Еве («в болезни будешь рождать детей» — Быт. 3:16) после грехопадения. Если бы эти установления не исполнялись, это означало бы, что человечество как бы оспорило и отменило Божий суд.
Он никогда не искал отдохновения¹ по собственному желанию, но лишь из снисхождения к другим. В двух домах, где он жил во время своего епископства, у него не было даже сада, и он никогда не прогуливался, разве что из учтивости к окружающим или когда врач предписывал ему это для здоровья, а указаниям врачей он следовал весьма точно.
Святой Карл Борромей был той же суровой строгости и не мог сносить, чтобы после трапезы гости, которых он принимал, развлекались пустыми разговорами, говоря, что это недостойно пастыря, на котором лежит бремя столь большой и тяжелой епархии, как его, и у которого есть множество других, лучших занятий. Это было простительно для сего святого, который, как известно, жил в великой суровости, поэтому никто не находил странным, когда он прерывал подобные беседы, чтобы найти иное поприще для того великого рвения о душах и о славе Божией, которым он был снедаем.
Наш Блаженный был нравом покротче и не избегал бесед после стола. Когда я его навещал, он заботился о том, чтобы дать мне отдохновение после трудов проповеди. Он сам возил меня на лодке по тому прекрасному озеру, что омывает стены Анси, или вел в весьма красивые сады на его приятных берегах. Когда он приезжал ко мне в Белле, то не отказывался от подобных развлечений, которые я ему предлагал, но никогда не просил о них и не предавался им по собственному почину.
И когда с ним говорили о строениях, о живописи, о музыке, об охоте, о птицах, о растениях, о садоводстве, о цветах, он не порицал тех, кто предавался этим занятиям, но в любом из них предпочел бы видеть лишь повод для возвышения мысли к Богу. И он сам подавал тому пример, извлекая из всего этого духовные порывы.
Так он видел Бога во всем, и все — в Боге, или, лучше сказать, взор его был устремлен лишь на одно_
¹ Отдохновение (фр. récréation) — в монастырской традиции установленный час общего отдыха после трапезы, предназначенный для благочестивой беседы и укрепления братских уз. Обычно — просто прогулка.
Родившись в один из дней октавы Успения Пресвятой Девы, 21 августа 1567 года, он всегда почитал Ее с глубочайшим благоговением.
Житие его свидетельствует: он с самых нежных лет посвятил себя Ее почитанию, выражая его и в особых молитвах, и в необыкновенной любви к чистоте, и в обете святого девства, принесенном Богу под покровительством и при содействии Царицы Дев.
Известно, что именно в день Ее Непорочного Зачатия он принял епископское рукоположение и во время этой священной церемонии получил то внутреннее помазание, о котором говорится в его житии.
Я не раз слыхал, как в проповедях возвещали величие Божией Матери; но, признаюсь, чтобы поведать о Ней как о Матери благословения, требовалась его безмерная кротость.
И ничто с такою силою не заповедовал он своим духовным чадам, как почитание Пресвятой Девы.
Но что значит почитать Пресвятую Деву, как не чествовать Ее в Боге и Бога в Ней, дабы лишь Бог был конечной сего целью? Иначе мы бы перенесли на Пресвятую Деву то высшее поклонение, что подобает одному лишь Богу.
Вот как говорит об этом Блаженный в своем «Трактате о любви к Богу»:
«Кто хочет угодить Богу и Владычице нашей, поступает хорошо, поступает очень хорошо; но кто захотел бы угодить Владычице нашей в той же мере или более, чем Богу, совершил бы несносное отступление от должного порядка».
Во время своей последней поездки в Париж, где он пробыл около восьми месяцев, его звали отовсюду с такой настойчивостью, что ему приходилось проповедовать почти каждый день. Это стало причиной болезни, которая, хоть и миновала довольно скоро, оказалась весьма опасной.
Но те, кто любил его и желал ему доброго здравия, сочли недостаточным лишь предостеречь его, но говорили, что он берет на себя слишком много и что это может погубить его здоровье. На это он отвечал, что те, кто по своему служению есть свет миру, должны, подобно свечам, сгорать, светя другим.
Доброжелатели возражали, что при таком подходе слово Божие в его устах теряет в цене, ибо мир ценит лишь то, что редко; ведь все бегут смотреть на луну, но никто не встает спозаранку, чтобы увидеть восход солнца, а ведь это светило куда более достойное.
«Право же, — ответил на это добрый прелат, — для этого мне пришлось бы нанять викария, чтобы он за меня отказывал. Ибо то самое слово, которое я проповедую, учит меня, что мы — должники перед всеми, и что мы обязаны не просто ссужать, но давать всякому, кто у нас просит. И что истинная любовь не ищет и не блюдет своих интересов, но лишь интересы Бога и ближнего. Как же после этого отказывать и отсылать ни с чем каждого, кто ко мне обращается? Помимо неучтивости, мне кажется, это было бы великим упущением в братской любви.
Далеко нам еще до тех двух великих святых, из которых один желал ради братьев своих быть изглаженным из Книги Жизни (ср. Исх. 32:32), а другой — быть отлученным от Христа (ср. Рим. 9:3), что, по сути, одно и то же».
Сие было основано на его великом правиле: ничего не просить и ни в чем не отказывать. Он следовал ему с такой точностью, что, могу вас уверить, я никогда не высказал ему справедливой просьбы, в которой бы он мне отказал, или же отказ его не был бы справедливее моей просьбы, притом даже по моему собственному суждению. И отказы его были облечены в такие ласковые слова, что казались несравненно приятнее, нежели милости многих, которые уделяют их с таким неудовольствием, что сводят на нет собственное благодеяние. И я не слышал, чтобы он когда-либо отказал кому-нибудь в разумной услуге.
Среди искушений, испытывающих нашу веру, то, что касается предопределения, — одно из самых мучительных, ибо это бездна, поглощающая любую человеческую премудрость.
Бог, предназначив нашего Блаженного к служению душам и руководству ими, попустил ему жестокие искушения на сей счет, дабы он на собственном опыте научился быть немощным с немощными (ср. 2 Кор. 11:29).
Когда он завершал учебу в Париже, будучи тогда лишь шестнадцати лет от роду, лукавый дух подкинул его воображению помысел, будто он принадлежит к числу отверженных.
Искушение это произвело такое впечатление на его душу, что он лишился покоя и не мог ни пить, ни есть. Он увядал на глазах, впадая в апатию.
Его наставник, видя, как юноша чахнет день ото дня, потерял ко всему вкус и не находит ни в чем утешения, осунулся и пожелтел лицом, часто спрашивал его о причине таковой меланхолии. Но демон, наполнивший его этим заблуждением, был из тех, кого называют немыми, по причине молчания, которое они заставляют хранить тех, кого мучают.
Он ощутил себя в то же время лишенным всех радостей божественной любви, но не верности, которой, словно непроницаемым щитом, старался отражать, хоть и не осознавая того, раскаленные стрелы врага (ср. Еф. 6:16). Утешения и покой, которые он с таким довольством вкушал до этой бури, то и дело приходили ему на память, усугубляя страдание.
«Итак, тщетно, — говорил он сам себе, — блаженная надежда питала меня ожиданием того, что я изведаю обилие сладости дома Божия и погружусь в потоки Его наслаждений. О, любезные селения дома Божия, мы, значит, никогда не увидим вас и никогда не будем обитать в дивных и желанных чертогах Господних!»
Целый месяц он томился тоской и сердечной горечью, которые вправе был сравнить со смертными муками и ужасами ада. Дни он проводил в скорбных стенаниях, а ночи омывал ложе свое слезами (ср. Пс. 6:7).
Наконец, по божественному вдохновению, он зашёл в какую-то церковь, чтобы призвать благодать Божию на свое убожество. И, преклонив колени перед образом Пресвятой Девы, он молил Матерь милосердия вымолить для него у щедрого Господа лишь одно: если уж ему суждено быть навеки отверженным, то пусть ему будет дано по крайней мере в этой жизни любить Его всем сердцем.
И вот, обливаясь слезами и с сердцем, стесненным невыразимой скорбью, он произнес такую молитву:
Memorare, o piissima Virgo Maria, non esse auditum a saeculo, quemquam ad tua currentem praesidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia, esse derelictum. Ego, tali animatus confidentia, ad te, Virgo Virginum, Mater, curro; ad te venio, coram te gemens, peccator, assisto. Noli, Mater Verbi, verba mea despicere, sed audi propitia, et exaudi. Amen.¹
И едва он ее завершил, как ощутил действие помощи Матери Божией и силу ее заступничества перед Богом; ибо в одно мгновение тот змей, что отравлял его своими пагубными наваждениями, оставил его, а юный Франциск исполнился такой радости и утешения, что свет преизобиловал там, где прежде изобиловала тьма (ср. Рим. 5:20).
Эта брань и эта победа, это пленение и это избавление, эта меланхолия и эта радость, эта буря и это затишье — всё это и даровало ему с тех пор такое искусство и такую мудрость во владении духовным оружием, что он был словно арсенал для других, снабжая защитным оружием и советом всем, кто открывал ему свои искушения. Он был для них как та столп Давидов, на котором висит тысяча щитов... все сие — щиты сильных (Песн. 4:4).
Превыше всего в великих искушениях он советовал прибегать к могущественному заступничеству Матери Божией, Которая грозна, как полки со знаменами (Песн. 6:3).
_____
¹ Молитва «Вспомни, о Премилосердная Дева Мария» (Memorare), ошибочно приписываемая св. Бернарду. Ее текст: «Вспомни, о Премилосердная Дева Мария, что вовеки не слыхано было, чтобы кто-либо, прибегающий к Твоей защите, молящий о Твоей помощи, просящий Твоего заступничества, был Тобою оставлен. Исполненный такого упования, я прибегаю к Тебе, о Дева над девами, Матерь; к Тебе прихожу и предстою пред Тобою, стеная, как грешник. Не презри моих слов, о Матерь Предвечного Слова, но милостиво услышь и исполни их. Аминь».