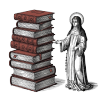
Пер. с лат. Heymeradus, Presbyter in Hassia (B.). Vita auctore Egberto Monacho
Hersfeldensi // AASS. IuniI, T.
VII, pp. 351-359.
В переводе опущен
риторический «Пролог» (Prologus).
Корр. О. Самойлова
С первым утренним светом, когда бегут тени, нам видится, будто звёзды бледнеют. Так бывает не потому, что они исчезают совсем: их блеск мнится весьма ослабелым лишь потому, что его затмевает свет, предваряющий близость солнца. Так и мы, имеющие глаза, дабы видеть, замечаем, как нечто весьма похожее творится и со святыми Божиими, истинными светилами небесными.
Ибо чем ближе конец века, чем неминуемей пришествие Истинного Солнца, тем меньше в мире блеска сих светил небесных; так что уже кажется, будто не осталось почти никого из избранных, наделённых дарами исцелений и чудотворений от Духа, разделяющего каждому особо, как Ему угодно (ср. 1 Кор. 12:9, 10, 11).
Однако же отнюдь не следует приписывать причину сего истинному Солнцу — Христу, Господу нашему, — будто бы сосуды избранные (ср. Деян. 9:15) от близости Его пришествия теряют в достоинстве (ср. 2 Тим. 2:20), ведь чем Он ближе, тем большим сиянием Своего света до́лжно озарять Ему святых Своих, сущих в мире (ср. Ин. 13:1). Скорее уж сие из-за нас, против коих уже поднялся конец века (ср. Вульг. Иез. 7:6), коих застигли оные тяжкие времена (ср. 2 Тим. 3:1), беззаконие и хладеющая любовь (ср. Мф. 24:12); из-за нас, повторю, чей свет есть тьма (ср. Лк. 11:35), — и от мглы нашей злобы помрачаются даже сии звезды небесные.
Ибо мы путаем божественное с человеческим, смешиваем священное с мирским; тех, кто шествует широким и пространным путем, ведущим к смерти (ср. Мф. 7:13), мы ублажаем и почитаем за кого-то важного; избирающих же тесный и узкий путь, ведущий к жизни (ср. Мф. 7:14), мы ни во что не ставим и нисколько их не ценим. Сверх того, даже слыша вести о том, как Господь и в нынешнее время чрез таковых рабов Своих являет древние чудеса, мы не удостаиваем сего веры, а тех, кто о том повествует, не только обвиняем во лжи, но и осыпаем оскорблениями да поношениями.
Посему Церковь, предвидя, что к концу века она будет так сокрыта под спудом неверия нашего, словно бы молвит скорбящим по ней и ревностью по вере пламенеющим:
«Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня» (Песн. 1:5), сиречь: «Да не смущает вас, что с приближением конца мира, в преддверие второго пришествия Христова, из-за людей маловерия я не в силах явить пламени добрых дел. Ведь оттого не престаёт гореть моя жажда преуспеяния в добродетелях – хоть бы и под спудом (ср. Мф. 5:15; Лк. 8:16; 11:33), хоть бы и во тьме».
Много ещё на земле великих угодников Божиих, но светильники сии не поставлены на подсвечнике. Однако ради чего мы завели о том речь? Объясним, наконец: святой, о коем нам лишь предстоит здесь поведать, был одним из вышеупомянутых светил небесных.
Итак, блаженный Хаймерад при жизни своей повсюду в мире разливал дивные лучи своей святости; но из-за людского маловерия сей светильник Господень сиял под спудом. Родом он был из Швабии, из местечка под названием Месскирх, а о происхождении его писать, пожалуй, излишне, ведь благородство его – это те чудеса и знамения, коими Господь каждодневно его прославляет. Ведь где Дух Господень, там свобода (2 Кор. 3:17); и нет Иудея, ни Еллина; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского; ибо все мы одно во Христе (ср. Гал. 3:28).
Так вот, когда он состоял в услужении у некоей дамы, имевшей при себе ещё одного пресвитера (святой был священником, чем объясняется его дальнейшее приглашение в монастырь и служба в Дитмелле. – прим. пер.), он попросил даровать ему свободу, дабы поискать удачи где-нибудь в других краях. Получив же просимое, он, словно Авраам, услышавший глас свыше, вышел из земли своей и от родства своего (Быт. 12:1) и воссиял в земле Гессен (игра слов: библ. Гесем и нем. Гессен. – прим. пер.) как несравненный образец достославной святости.
Итак, поскольку свои не взглянули на сей светильник, сияющий в тёмном месте (ср. 2 Пет. 1:19), сочтя его не имеющим никакого значения и ценности, он, наподобие, так сказать, светоча целительного, явился иным народам. Ибо никакой пророк, по свидетельству Господа, не принимается в отечестве своём (ср. Лк. 4:24).
Однако же, поначалу пришлось ему трудно, ибо как людям, отвыкшим от подобных мужей, распознать столь великую святость? Ведь как только житие его оказалась не похожим на житие иных, то (согласно написанному: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия» (1 Кор. 2:14)), решили, что он не на истинном пути к добродетели подвизается, а что он лицемер из тех, которые показываются людям постящимся с изнуренным лицом (ср. Мф. 6:16), а на самом деле с надменным сердцем ищут награды в похвале людской. И не верили, что дышит в нём Дух Святый, а ведь голос Его слышали (ср. Ин 3:8), силы Его созерцали. Поистине, рабы негодные и ленивые (ср. Мф. 25:26; Лк. 19:22), коим оказалось трудно потрудиться данным им талантом разумения, судили о нём по себе. Вот и получилось так, что почти повсюду, куда бы он ни приходил, он не уходил без поношения, — доколе не взошёл на ту гору, на коей благоволил Бог обитать Ему (ср. Пс. 67:17). Но об этом мы поведаем подробнее, когда того потребует порядок повествования.
Итак, оставив отечество и родителей, он отправился в паломничество в Рим на богомолье. Там он усердно посещал пороги святых; там он молитвенно торговался с Ключарём небесным (св. Петром), дабы тот отверз ему врата жизни; там он сосуд избрания (св. Павла) (ср. Деян. 9:15) и всех прочих Сенаторов двора небесного старался, пока жив, стяжать себе в заступники на последнем испытании и в свидетели своего непраздного жития.
Когда же возвращался он оттуда и проходил чрез родные края, то ни мольбами, ни слезами близкие не могли склонить его навестить дом свой или кого-либо из семьи или хотя бы оглянуться, ибо памятовал он речение Господа: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9:62), а также другое: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие» (Лк. 9:60; ср. Мф. 8:22).
Затем он отправился в Иерусалим. Там он омыл слезами ноги Иисусовы (ср. Лк. 7:38); там он, подобно евангельской грешнице, возлил миро сокрушённого сердца и смиренного духа (ср. Пс. 50:19) на главу Ему, наполнил дом, где Он возлежал, благоуханием псалмопения и молитв (ср. Ин. 12:3). Также и крест неся вслед за Иисусом вместе с поруганием Его (ср. Евр. 13:13), он последовал за распятым Господом своим за пределы стана (ср. Евр. 13:12-13) на Лобное место (Голгофу), дабы узреть знак спасительного свершения, начертанный кровию Господней. Сверх того, приготовив ароматы благоговения своего, порадел он навестить Гроб Господень, подражая благочестивым женам (ср. Лк. 23:55-24:1; Мк. 16:1). Подобный маслине плодовитой в доме Господнем (ср. Пс. 51:10), он [посетил] и соименитую себе гору (Елеонскую, т.е. Масличную), на которой благоволил Бог обитать (ср. Пс. 67:17); гору, на коей Мир наш (Христос) (ср. Еф. 2:14) часто молил Отца о том, что служит к миру (ср. Лк. 19:42); и с храбрым сердцем последовав за Иисусом, восходящим на небеса, он поклонился на месте, где стояли ноги Его (ср. Зах. 14:4; Деян. 1:12). И оттуда вынес для себя благую надежду, а именно — что и он, как истинный член [Тела Христова], последует некогда за Главою своим (ср. Еф. 4:15-16). Также и Вифлеем, «Дом хлеба», прошёл он с евангельскими пастухами, дабы «вкусить, как благ Господь» (Пс. 33:9); и поклонился Хлебу Ангельскому (ср. Пс. 77:25; Прем. 16:20) в яслях, предложенному в яство благочестивым животным — сиречь духовной ослице и осленку её (ср. Мф. 21:2-7; Зах. 9:9), в сердцах коих Он благоволит восседать.
Ну а всё, что он получал как милостыню, то отдавал на подобное же дело [милосердия] в тот же час и в тот же миг, как только попадался ему какой-нибудь нищий. Наипаче же всегда старался он, насколько мог, сохраняя притом пристойность, подвергаться всяческим оскорблениям и поруганиям – ради усмирения тела, зная, что написано: «Кротость покрывает и большие проступки» (Еккл. 10:4). И когда не находилось иного повода заслужить оскорбление, то из всего, что надобно было поделить между ним и другими [спутниками], он присваивал себе большую часть, дабы таким образом навлечь на себя их поношение. Притом не было ничего, чего бы он тотчас не раздал нищим – из всего [присвоенного] он ничего себе не оставлял, ибо не заботился о завтрашнем дне (ср.). А всякую мысль свою, всякую надежду, всю душу свою святой Хаймерад устремлял туда, где милостивые достигнут блаженства милосердия (ср. Мф. 5:7); и до того [был поглощён мыслью о грядущем Царствии], что нынешний день, и пища, и сама жизнь зачастую изглаживались из его памяти. Когда же спутник его в пути (занятый служением Марфы, тогда как сам он исполнял Мариино (ср. Лк. 10:38-42)), иногда говорил, желая испытать его: «Господин Хаймо (ибо так его, собственно, называли), что мы нынче есть будем? В сумах ничего не осталось, а завтра ведь нам предстоит поститься», — он обыкновенно отвечал: «Значит, попостимся нынче, а завтра поедим». Вот так он пёкся о плоти, а так — о духе. Даже псов он подзывал терзать себя, истинный мученик, ибо сам паче любого палача добровольно мучил себя ради Господа.
Итак, исходив столь многие и обширные земные пространства, уже вдоволь очистившись в горниле тягот, точно золото в печи (ср. Сир. 2:5; Прем. 3:6; 1 Пет. 1:7), он наконец возжелал вместе с Псалмопевцем, чтобы даны были ему крылья, как голубю, дабы улететь и упокоиться в уединении (Пс. 54:7). С ним познакомился херсфельдский аббат по имени Арнольд в одном из своих монастырей, называемом Мемлебен. Расспросив о его родине, народе и причине прибытия, Арнольд направил святого вперёд себя в Херсфельд и, прибыв тотчас после него, попытался вручить ему облачение святого подвижничества [иноческого], но тот ни в какую не соглашался.
И вот, хотя в уставном житии святой следовал царским путем, не уклоняясь ни направо, ни налево (ср. Числ. 20:17; Втор. 5:32), душою и очами всегда устремленный к небу, подобно сведущему в звёздах мореходу, подставившему ветрам паруса, — однажды, когда ни монахи, ни аббат того вовсе не ожидали, он на собрании братии в Капитуле (как принято), простёршись на земле, просил позволения уйти. Когда же его спросили о причине, он ответил лишь, что не может здесь спасти свою душу, ибо имеет иное призвание (pro voto). Тогда разгневанный аббат, упрекнув его словами той уличной поговорки, что, мол, у него опять «нога зачесалась» [бродяжничать], против воли братии с негодованием изгнал его.
И вот изгнанник дожидался в хижине для гостей у ворот своего коня, которого забрал с собой эконом монастыря, отправившийся на свое послушание.
Говорят, тем временем у него вырвалось восклицание: «Неправильно обошлись со мною монахи и аббат, не оказали мне почестей сообразно происхождению моему! Невдомёк им сколь знатен мой род: я — брат Императора!»
Как только слово сие достигло любопытных (букв.: дырявых. – прим. пер.) ушей помощников привратника, те тотчас с насмешкою молвили: «Неужто так и есть, сударь?» А он подтвердил, что так дело и обстоит. «И почему же, — возразили они, — ты так долго таился и не объявил сего сразу как на духу, дабы твоей знатности оказали подобающий почет?» Без промедления кинувшись к упоминавшемуся аббату, они передали ему этот разговор, подлив масла в огонь (ср. Притч. 26:21), ведь оный недостойный служитель (mediastinus) и без того уже изнутри добела раскалился [от гнева] на сего мужа, — и искрам сего [гнева] предстояло ещё долго тлеть в последующие времена. Ибо аббат, греша против Бога и души своей, зло сотворил против невинной крови (ср. Втор. 19:10; Мф. 27:4), что станет для него самого огорчением сердца и беспокойством души (ср. 1 Цар. 25:31), а для преемников братии в будущем — петлёю и сетью (ср. Ис. 8:14).
Ведь как только сей слух, «словно рак ползучий» (ср. Вульг. 2 Тим. 2:17), проник в его незагражденные уши (ибо он не помнил изречения Соломонова, побуждающего «оградить уши свои тернием» (Вульг. Сир. 28:28)), он тотчас призвал слугу Божия и передал его истязателю (ср. Лк. 12:58), начальствовавшему над палачами. И, напомнив оному [истязателю] о клятве, коей тот себя связал, повелел [аббат] «изукрасить» для него сего [слугу Божия] по своему вкусу к тому времени, когда он сам захочет взглянуть на него. Тот же, сразу схвативши святого, — о, горе! о, беззаконие! — велел подручным своим привязать его к изгороди и жестоко истязать ударами.
Впрочем, сии бичевания он сам навлёк на себя добровольно, ради обуздания тела. А для вникших в суть дела поглубже стало ясно, что он ни в чем не солгал [объявив себя братом Императора]; ибо негоже [лгать] сосудам избранным, в коих всегда пребывает Дух Истины. Собственно, как свидетельствует Апостол: «Нет раба, ни свободного... все вы одно во Христе Иисусе», а по свидетельству Самого Господа: «Один у вас Отец, Который на небесах» (ср. Гал 3:28, Мф 23:9). Поэтому-то и от Самого Господа Нашего Иисуса Христа все мы согласно Евангелию были удостоены единого имени – «братья» (ср. Ин 15:15). Сим же именем Он и в псалмах нас чествует, глаголя: «Возвещу имя Твое братии Моей» (Пс 21:23).
Монах же Анцо, который был послан аббатом присутствовать при сем истязании, неоднократно рассказывал, что меж ударов бичей ничто иное не исходило из уст святого, кроме пятидесятого псалма: «Помилуй меня, Боже» (Пс. 50:3), — который он, однако, не дочитал до конца, ибо до такой [крайности] жестокость против него не дошла. А был вышеупомянутый брат Анцо столь благочестив и так строго нравствен, что располагал к доверию даже людей подозрительных.
Изгнанный таким образом с поруганием из монастыря, Хаймерад вошёл в убогую хижину некоей бедненькой женщины [, что жила] за стеной. Увидев, что она безутешно плачет, и спросив о причине, он услышал в ответ, что разволновали её жестокие его побои. «Перестань, женщина, — молвил он, — скорбеть о моей участи, а паче сокрушайся о грехах своих; ибо сие может принести тебе бо́льшую пользу».
Итак, исшед из Херсфельда, а вернее, изгнанный [из него], к приумножению славы, которая должна была открыться (ср. 1 П 5:1), направился св. Хаймерад в селение Кирхеберг, что в земле Гессенской. Там, пробыв некоторое время, он был обвинён в том, что знал о взломе местной часовни и о совершённом в ней святотатстве; и поскольку он не желал ни сознаваться, ни оправдываться (памятуя стих Писания: «Положил я охрану устам моим, доколе нечестивый предо мною» (Пс 38:2), то был опять же с побоями (injuria) изгнан оттуда поселянами.
После сего пришел он в селение Дитмелле. Там было две церкви: одна крещальная, а другая — старая и заброшенная. Эту [последнюю] Хаймерад испросил себе у тамошнего пресвитера для совершения в ней божественных таинств. С тем прошло немного времени, и молва о его святости так широко распространилась среди множества окрестного люда, что и мужчины все и женщины, пренебрегши уже упомянутым пресвитером, наперебой сходились к Хаймераду со своими приношениями.
Среди них пришла однажды и жена викария и также поднесла человеку Божию своё приношение; но он, отвергнув его, принять не пожелал. Тогда лицо ей залила краска стыда, а душу исполнило замешательство, и, когда подошли иные дамы, она принялась умолять Хаймерада, дабы указал ей причину отказа. А он отвечал, что не по своей прихоти причиняет и ей стыд, и народу – соблазн, дав тем самым ясно понять, что ему было нечто открыто о ней — некая тайна, — которую он не хотел бы разглашать. Поскольку же она всё не унималась, а ещё настойчивее требовала объяснить, в чём виновата, он молвил: «Да будет же тебе ведомо, что ни душа твоя, ни приношение твоё не будут милы Богу, если не исправишь жизнь твою и нравы».
Вышеупомянутый же пресвитер, видя, что люди его презирают, а того (Хаймерада) любят, что им пренебрегают, а того усердно посещают, сперва напал на него с побоями (injuriis) многими, а в конце концов, [травя] собаками, выгнал его из тех мест.
Был он долговяз, лицо имел землистое от частых постов, одежды убогие одежд — [всё это] придавало мужу сему некое внешнее безобразие, но трудно высказать, сколько красоты и достоинства [сии лишения] приуготовили ему внутри: «Хотя внешний наш человек и тлеет, — говорит Апостол, — но внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор 4:16). Поэтому, когда он пришёл в Падерборн, и епископ Майнверк (св., пам. 5 июня), рассмотрев [лишь] его наружность, а не нутро, спросил: «Откуда этот чёрт взялся?» -- Хаймерад же, с ликованием неся крест поношений вслед за Иисусом (ибо и об Иисусе иудеи говорили, что в Нём бес), смиренно отвечал: «Во мне беса нет» (ср. Ин. 8:48-49). Ведь наполняла его неколебимая радость оттого, что он стал соучастником Страстей Господних, ибо несомненно знал, по свидетельству Апостола, что будет соучастником и утешения (ср. 2 Кор. 1:7). Но дабы испытание терпения его оказалось драгоценнее золота, испытуемого огнем (ср. 1 Пет 1:7), епископ продолжал называть его чёртом. И спросил, пресвитер ли он, а услышав, что тот в тот же день он совершал божественные таинства, повелел подать себе книги, по которым тот пел [мессу]. Поскольку же они были неопрятны и запущены и показались ему ничего не значащими и не стоящими, епископ тотчас же приказал бросить их в огонь, а самого Хаймерада ещё и повелел бить плетьми.
Слышали мы также, что его секли по приказу Императрицы Кунизы (св. Кунигунды, пам. 3 мар.), которая тогда находилась там же вместе с Государем Императором Генрихом, (который основал епархию в Бамберге, дав тем самым там же явное свидетельство своего благочестия и пламенной к Богу любви, а сие место сделав процветающим благодаря постройкам, богатствам, великолепию и славе, а кроме того, — что важнее всего, — благодаря божественным славословиям, денно и нощно там звучащим). Но муж дивного терпения, св. Хаймерад, переносил все телесные удары и все обиды с таким спокойствием духа, что и не пикнул в ответ, более того, даже радовался, что претерпевает такое от лжебратий за имя Иисуса (ср. Деян. 5:41; 2 Кор. 11:26) и ради надежды на небесные награды, [ибо] научен был Господом, что «Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его» (ср. Мф 11:12).
Притом, из правдивых рассказов многих мы узнали, что некоторые из тех, кто клеветал на человека Божия, страстно желали прийти ко гробнице его, дабы испросить прощения (после того как светильник святости его, поставленный на подсвечнике, начал светить всем (ср. Мф 5:15)), да никак не удостоились [чести] восхождения на гору [Хазенберг, где был похоронен Хаймерад] (ср. Пс. 23:3-5). Суды Божии — бездна великая! (ср. Вульг. Пс 35:7) Вот, к гробнице одного праведника кающийся клеветник его не удостоился доступа, хотя Сам Господь обещал, что на небесах у ангелов Божиих бывает более радости о таковом, нежели о девяноста девяти праведниках (Лк 15:7). И все же без всякого сомнения следует верить, что Господь отпустил грехи тем кающимся, ибо не могло оказаться неправдою сказанное Им. Но поскольку непременно нашлись бы охотники похулить человека Божия уже на небесах со Христом царствующего, уже на земле чудесами сияющего (как это ясно станет видно позже из примера), [Господь] вынес [оным обидчикам] такой приговор, дабы иных припугнуть – вдруг одумаются? Ведь никакое деяние Божие не лишено таинственного смысла… Впрочем, это лишь наше предположение, а не утверждение, ибо, как говорено выше, суды Божии — бездна великая, и как сказал собеседник Премудрости: «Кто познал ум Господень?» (Рим 11:34).
Немного времени прошло после того, как Херсфельдский аббат Арнольд, не ведая, что творит, велел столь недостойно обойтись с блаженным мужем; когда члены отделились от главы, малые взбунтовались против старца и рабы — против господина своего, [тогда] нешвенный хитон Христов, который языческие воины [не] захотели раздирать (ср. Ин 19:23-24), был разодран братиями и аббатом.
Власть же в то время держал Конрад (прав. 1024 – 1039 гг. – прим. пер.), отец императора Генриха III: он вырубил посеянные врагом-человеком плевелы раздора, что выросли между братиями и аббатом (ср. Мф 13:25, 28), острым серпом своего приговора. И так [повелел он]: упомянутого аббата Арнольда низложить, а на его место избрать блаженной памяти Рудольфа из монастыря, называемого Ставло (впоследствии епископа Падерборнского). Сей [Рудольф], целиком посвятивший себя иноческому деланию (divinae religioni), так радовался усердию братии к божественной службе и святому подвигу, который обетовали [вершить], что услуживал им со всяческой любовью, как только мог, словно снисходительнейший из отцов.
Низложенный же аббат Арнольд остаток жизни своей провёл вне служения, однако так и не осознал, что заслужил низложения за обиду, нанесенную им человеку Божиему. «Ибо если бы мы судили сами себя, — говорит Апостол, — то не были бы судимы» (1 Кор 11:31). Однако не мог видеть аббат, в какую пропасть упал, ибо светильник ещё скрывался под сосудом (ср. Мф 5:15), ибо чудеса человека Божия ни искоркой ещё не проблистали; ибо елей, коим святой то и дело наполнял свои светильники, он с праведным тщанием сберегал в сосудах совести, доколе не придет Жених (ср. Мф 25:1-13). Впрочем, Арнольд тот, будучи судим, наказывался от Господа в сей жизни, чтобы не быть осуждённым с миром (ср. 1 Кор 11:32) – думается, ему помогло заступничество св. Иоанна Крестителя, которому он построил изящнейший монастырёк к югу от города, на горе, которая с тех пор называется Горою св. Иоанна*.
Но и та преславная обитель, где блаженный Хаймерад подвергся столь жестокому бичеванию, а именно Херсфельд, невдолге после кончины упомянутого Арнольда вместе с базиликой и всеми постройками разом сгорела в пожаре; то ли из-за обиды человеку Божию, то ли по причине иных грехов. Однако нелишним будет, если мы расскажем о необыкновенном и неслыханном чуде, которое Господь удостоил явить для утешения скорбящих сердец братии, там пребывавшей. Ибо, как обычно делается для отвращения опасностей, в начале пожара перед алтарём зажгли свечу[-«пасхал»], освящённую в Святую Субботу, а следующий день, когда все здание обратилось в пепел, нашли её целой и невредимой – она была засыпана до самой верхушки углями и полусгоревшими деревяшками. С тех пор каждый год, пока от неё хоть что-то ещё оставалось, частицы её раз за разом добавляли к новому пасхалу.
* Хильдесхаймская хроника под 1031 г.: «Арнульф, настоятель Херсфельдского монастыря, выдающийся в делах божественных и человеческих, обвинённый некоторыми братьями оной обители в некоем преступлении, был жалким образом лишен своего сана». И под 1032 г.: «Арнульф, аббат Херсфельда (Herocampia), скончался в 5-й день перед январскими календами (т.е. 28 декабря), похоронен в Геллингене, но по приказу преемника вскоре перенесен в Херсфельд» (прим. AASS).
Но вернемся к повествованию. Человек Божий, доселе всегда носивший в теле своём мёртвость Господа Иисуса (ср. 2 Кор 4:10), наконец прибыл на гору Хазунген, где наконец и жизнь Иисусова должна была явиться в теле его (ср. там же). Ибо там он решил положить предел своим странствиям, там — отдохнуть от тягот столь великого труда, там — ожидать спасающего от малодушия и бури (ср. Вульг. Пс 54:9). Там, как он сам не раз рассказывал, он пред собою увидел отверстое небо (ср. Деян. 10:11), ибо, когда он впервые взглянул на ту гору, ему показалось, точно созерцает он недра небесные. Не сомневаемся, что тогда (будучи достаточно сведущ в книжных науках) он припомнил то самое восклицание Иакова: «Как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные» (Быт 28:17).
Итак, удостоверившись из того видения, что место сие было ему предопределено свыше, он попросил у местных жителей, чтобы они предоставили ему право обитать на горе, на что они охотно согласились. О сколько затем он там труда положил, сколько пота [пролил]; сколь самоотверженно [предавался] служению, сколь часто [пребывал] в молитве, сколь прилежен был в чтении, сколь щедр в милостынях, сколь сострадателен к несчастным, сколь приветлив ко всем; как изнурял своё тело постами и бдениями, как «распинал плоть свою со страстями и похотями» (Гал 5:24)! Кто не верит нам, пусть вопросит о том чудеса – да и оглянется на Господа, отсылающего неверующих к чудесам: «Когда не верите Мне, — молвит Он, — верьте делам» (Ин 10:38), и: «Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне (Ин 10:25).
Всякий раз, когда во время псалмопения или иных [правил] божественной службы его донимали плотские искушения, он внезапно, к изумлению наблюдавших сие, выбегал из церкви и как можно скорее прыгал в пруд, что был рядом; и там ходил [в воде] до тех пор, пока плотское возбуждение его не утихало. Рассказывают также, что однажды он прорвался нагишом через терния и так, мучительно горя снаружи, угасил пожар, снедавший нутро его.
По совершении же литургического священнодействия был у него был обычай такими [проникновенными] наставлениями увещевать народ, сходившийся послушать божественное, что [люди], вернувшись домой, всё имущество тратили на милостыню. Когда же некоторые, усмехаясь, спрашивали, чтó станется с ними, когда всё будет истрачено и как справятся они с житейскими нуждами, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносил (ср. Лк 6:45) «слова добрые, слова утешительные» (Вульг. Зах. 1:13), [говоря, что] уготовано для них на небесах то, «чего не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку» (1 Кор 2:9). Затем [он говорил], чтобы они не терзались сими заботами, [ибо] Господь печётся о них (ср. 1 Пет 5:7), и источник Божественного милосердия никогда не иссякнет.
Каково дерево, таков и плод (ср. Мф 7:17). Учение согласовалось с жизнью, ведь ради дел милосердия он не щадил ни себя, ни вещей, будучи уверен, что собирает награды свои не в дырявый кошелёк (ср. Агг 1:6). Даже собственные штаны он часто отдавал в милостыню. Поистине, ещё на земле узрел он щедрую награду за благодеяние своё (Ср. Прит. 19:17), ибо вскоре молва о святости его призвала всю округу увидеть звезду внове воссиявшую, что явилась в тех пределах, узреть град, стоящий на верху горы, что не может укрыться (ср. Мф 5:14). Никто не оставался в стороне; людям всякого пола, возраста, сословия, даже знати и вельможам в сиделось дома – словно на ярмарку, один за другим все мчались с ценными приношениями, чтобы заручиться благословением слуги Божия и вверить себя его богоугодной молитве. Пожалуй, ни единого дня, ни часа, ни мгновения не миновало, чтобы кто-нибудь не прибегал повидать человека Божия.
Между тем некий граф по имени Дудехо с горы, называемой Вартберг, по поводу праздника св. ап. Андрея пригласил на пир Майнверка, епископа Падерборнского (ибо на той же горе стояла часовня, освящённая в честь св. ап. Андрея). И когда в канун того же Апостола они собрались на ужин, а вышеупомянутый граф усадил за стол напротив себя приглашённого наряду [с прочими гостями] блаженного Хаймерада, возмущенный епископ спросил, что муж столь великой рассудительности хочет [показать] сим поступком, и начал устами своими поносить блаженного мужа, называя его безумным отступником. Притом блаженный в ответ даже не пикнул, зная, что написано: «Терпение нужно вам, чтобы... получить обещанное» (Евр 10:36). Смущенный же за него граф, который его весьма почитал и потому пригласил, ответил, что не знал ни о каких распрях между ними, и начал умерять гнев [епископа], прося прощения для человека Божия.
Но епископ, оставшись при своём мнении, торжественно заявил, что, раз люди почитают Хаймерада за святого, то должен он на следующий день без сомнения спеть Аллилуйя на мессе, дабы тем испытана была его святость. И тотчас же перед всеми под угрозой побоев возложил на блаженного эту обязанность. Граф, усердно вступился за него, но просьбами об отмене сего поручения ничего не добился, кроме того, что лишь подливал масла в огонь; поэтому ночью, по окончании утрени, отвёл человека Божия в сторону и, утешив его, умолял не отступать после первой попытки, но хотя бы начать – во имя Святой Троицы, – а остальное вверить Богу. И хотя Хаймерад сильно отпирался, настоятельно прося отпустить его в свою хижинку, однако, поскольку граф не прекращал упрашивать, в итоге согласился.
Итак, когда настал [урочный] час, а епископа так и не удалось отвратить от его решения, вышел вперёд Хаймерад; и завёл «Аллилуйя» так торжественно, так радостно, что, когда он допел до самого конца (как засвидетельствовал тамошний клирик), все изумились и признались, что никогда из человечьих уст не слыхали звуков сладостнее. И епископ по окончании мессы, отведя блаженного в сторонку, пал к ногам его и просил прощения, а с тех пор стал ему навечно другом.
После пира бл. Хаймерад вернулся в хижинку свою, а знатные и облечённые властью особы посылали ему дары, нагружая вьючных животных, сколько те могли унести, – так что казалось, он получил стократно за то барахлишко, с коим расставался ради любви Христовой (ср. Мф. 19:29; Мк. 10:29-30; Лк. 18:29-30). Однако, довольствуясь лишь хлебом с солью и водой и изредка бобами, святой ничего не оставлял себе, но всё [отдавал] нищим, как уже не раз упоминалось.
Поступал он так постоянно, и вот однажды, когда день уже клонился к вечеру и его слуга увидел, что у него ничего не осталось, начал надменными устами браниться и стучать ему в уши палкою злоречия: почему не делится с ним тем, что приносят? Он, мол, усердно служащий ему денно и нощно не без пота лица своего (ср. Быт. 3:19), терзается голодом, а Хаймерад всё расточает на других, о нём же [слуге своём] совсем не заботится. Тогда оный муж голубиной кротости, вознегодовав (хоть и без злобы), с упрёком велел ему умолкнуть, говоря: «Не для того Господь посылает нам это, чтобы мы всё пожирали. Вот, у дверей уже посланцы (pedes missi) от Господа, что доставят нам в изобилии от росы небесной и от тука земного (ср. Быт. 27:28), ибо ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе» (Пс. 33:11). Предвидел ли он сие духом пророчества или же просто обрёл по вере, которую Господь наипаче хвалит во святых Своих, но в обещании своём он не обманулся. Ибо вот, в то время ночное, когда люди обычно, прервав труды, занимаются собственными телесными [нуждами] и домашними своими, пришёл человек с вьючным животным, нагруженным разнообразною пищей, сколько то могло унести. Тогда Хаймерад, упрекнув ученика за малодушие, в достатке наделил его всем из [доставленного].
Был там также сосуд с небольшим количеством бобов; и велел Хаймерад слуге поставить сие на огонь да приготовить к его возвращению; [сам же] вошёл в церковь и провел там по обыкновению своему большую часть ночи. Наконец, когда он вернулся, слуга накрыл столик, и [Хаймерад] начал подкреплять тело, изнурённое голоданием. Вдруг искра, выскочив из трещавшего огня, прожгла скатерть. А святой, подскочив как можно быстрее, поспешил обратно в церковь и пробыл там остаток ночи до пения петухов. И когда слуга уже отчаялся дождаться его возвращения и решил идти спать, Хаймерад неожиданно пришёл и, когда стол был снова накрыт, принял пищу. Между тем служивший ему спросил его скромно, почему он так поспешно ушёл в церковь после того, как огонь повредил скатерть? А святой в ответ молвил: «Ангел Господень явился с искрою, призывая меня. И когда вступил я в церковь, то нашел её украшенной всякого рода благолепием и озаренной таким небесным светом, как и подобает дворцу воистину Господню. Там я встретил свв. Мартина и Майнольфа (Падерборнского, пам. 5 окт.), которые и вверили мне сию гору; и присягнули оба, что введут меня в Царство Небесное, если я буду хорошо хранить её».
В конце концов быстроногая молва донесла имя его даже к чужим народам и снискала ему великое почитание у племени саксов.
Был у него по соседству один знакомец, во всём верный ему, кроме одного случая, о котором сейчас пойдет речь. Он часто бывал у него на посылках, куда бы ни требовалось пойти. Звали его Йеммо. Когда Хаймерад по обыкновению своему направил его с поручением к аббату Корвейскому (аббатство Корвей («Новое Корви») в Северной Рейн-Вестфалии было основано в начале IX в. бенедиктинскими монахами из знаменитого французского Корби. – прим. пер.), тот послал святому два вьюка, полных насущных припасов, и Йеммо один [вьюк] спрятал у себя дома, а другой принёс человеку Божию. А Хаймерад, поблагодарив, спросил, не послал ли ему [аббат] чего-нибудь ещё, а когда Йеммо стал запираться, молвил: «Ступай и принесённое мне тобою добавь к тому, что спрятал дома – пусть будет твоим и то, и это».
Хотя Йеммо в остальном и оставался верен, однако, поскольку покривил душою в этом одном, пришлось ему понести наказание за своё криводушие по справедливейшему суду; ведь написано: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чём-нибудь, тот становится виновен во всём» (Иак. 2:10). Но поскольку он, как сказано, в остальном оставался дружествен и верен человеку Божию, то по заступничеству его удостоился понести здесь [на земле] [наказание за то], в чем погрешил против закона дружбы: немного времени спустя червь так изъел ему правую щёку и [плоть] вниз до самого плеча, что обнажились блестящая кость и правая артерия. Причём червь справедливой мерою пожрал [именно] ту часть [тела], которой тот намеревался потребить украденное.
Как-то раз, когда Хаймерад почивал, лёжа в притворе церкви, внезапно те, кто оказался рядом, увидели, как сонм муравьёв, изливаясь по обыкновению своему из земли, взбирается на него. И когда [свидетели сего зрелища], пытаясь отогнать их, ничего не добились, те [муравьи] ещё яростнее, словно бы сговорившись, боевыми рядами, сомкнутым строем устремлялись на него, [люди], встревоженные эдаким дивом, разбудили святого и рассказали [ему о случившемся]. А он поведал: «Нет никакой опасности, не тревожьтесь. Ибо как ныне вы видите сонм муравьёв (сиречь предзнаменование будущего) устремляющийся на меня, так вскоре после моей кончины увидите людей из всех окрестных народов, сонмами восходящих на гору сию со своими обетными приношениями и дарами».
Был там также клирик, юноша в цвете лет, притом изрядно гордый и надменный. Он уже с самого начала из зависти причинял человеку Божию много обид. И вот однажды, когда он продолжал досаждать человеку Божию, тот сказал ему: «Прими близко к сердцу то, что я предсказываю тебе: ты станешь богатым, но после того, как накопишь вдоволь, придет сатана и похитит у тебя всё, да и тебя самого заодно». О, если бы это пророчество не исполнилось на нём! При всём уважении к святому и не ставя под сомнение верность его слов, так было бы лучше! Но оно исполнилось, как показали в итоге события с его имуществом. Ибо после того, как человек Божий преставился от дел человеческих, а клирик много накопил, совратил он в итоге служанку одного чрезвычайно могущественного человека, уроженца тех же мест. Тот немедленно захватил его дом и всю утварь, не оставив ему из всего [его достояния] ничего, кроме жалкой жизни; сверх того, выступил с обвинением против него во Фритцларе на генеральном синоде. И когда на том [заседании] епископ уже должен был поднять посох, дабы лишить его сана, у [клирика] внезапно хлынула из ноздрей кровь и струёй брызнула на епископа. Его тотчас выгнали, и он так долго изливал кровь, что успели представить и рассмотреть другие дела, подлежавшие рассмотрению, и, позабыв о нём, тот синод распустили. Кто усомнится, что в столь отчаянном положении его спасло милосердие блаженного мужа? Ведь святой явно увидел, что пророчество его относительно имущества [клирика] исполнилось, и дабы тот, лишившись вместе [с имуществом] и священнического сана, не лишился окончательно всякой надежды, счёл нужным помочь ему по примеру Господа своего, Который, когда гневается, вспоминает о милости (ср. Авв. 3:2).
Один из жителей той же местности, будучи уже стар и исполнен дней, поведал о необычайном, но радостном чуде, совершённом тем же слугою Божиим ему на благо, а Богу во хвалу и славу.
Ибо когда этот человек был моложе годами и пылал дивной любовью к человеку Божию и усердно ему услужал, однажды привёл его в свое жилище и показал ему своего мёртвого петуха – когда тот гулял во дворе, некий злонамеренный юноша бросил камешек и убил его. И стал хозяин горько-горько жалиться на беду свою, [говоря], что вот, нет теперь того, кто пел бы ему на заре; кто будил бы его в праздники помогать святому, а в утренние часы – молиться Богу. Не стало такого помощника по дому! Кто теперь за курами присмотрит, приплод обеспечит? Наконец слуга Божий, тронутый этими жалобами, подняв десницу, сотворил крестное знамение над лежащим трупиком – и тотчас петух, как будто и ранен вовсе не был, а лишь пробудился ото сна, с чрезвычайною быстротою вскочил и ушел. Об этом знамении [рассказчик] рассудительно решил поведать вслух не иначе как в зрелом возрасте, достигнув преклонных лет, ибо в сии времена едва ли сохранилась [хоть] малая толика веры, ибо ложь разлилась потопом, ибо всё истинное возвратилось с земли обратно на небеса.
Однажды в селении Эленен, что находится близ горы, святой служил Божественную литургию, и когда, по завершении того, что обыкновенно предшествует, по чину полагалось читать Евангелие, он, крепко прилепившись к Богу, внезапно был восхищен в экстазе и стал, так сказать, одним духом с Ним (ср. 1 Кор. 6:17). Народ же долго ожидал, пока тот, кто вышел из себя (согласно Апостолу) к Богу (ср. 2 Кор. 5:13), очнётся [и возвратится] к ним. И вот, когда все уже утомились и, казалось, что остаётся лишь разойтись по домам, диакон, предстоявший [у алтаря] и помогавший иерею Христову, взял столу и прочитал Евангелие, дабы народ не возвратился [из церкви], совсем не послушав мессы, ради которой пришёл. Затем, когда прочие разошлись, остался один Хеммо со своею женой, ибо они паче прочих были дружны и близки с человеком Божиим, держась за него, точно крепкие якоря; и они же обычно усерднее [других] услужали ему.
Когда же день уже склонился к вечеру, Хаймерад, придя в себя, дослужил мессу до конца; и на том вместе с ними вошёл в их жилище. По обыкновению они накрыли для него стол, как если бы приняли Самого Господа, а не [одного из] членов Его [Тела], и [жена, подобно] второй Марфе, заботилась о большом угощении (ср. Лк. 10:40). [За трапезою хозяева] смиренно попросили святого объяснить причину, почему он так долго медлил посреди мессы. Тогда он – ибо не было ничего, чего их любовь не могла бы у него выведать, – молвил: «Меня в то время здесь не было. Хотя вам казалось, что присутствую телесно, однако далече послан я был Духом Божиим».
О, муж достодивной святости! Хотя он ещё обитал телесно среди людей, однако уже был причислен свыше к тем небесным духам, которых Господь, когда Ему угодно, по свидетельству Псалмопевца, творит Ангелами (ср. Пс. 103:4).
Тот же Хеммо имел обычай под вечер, в отсутствие слуги Хаймерадова, приносить на своих плечах в его хижинку вязанку дров, высушенных дома; разжигать очаг, подметать во внутреннем дворике, ставить скамью, приносить воду, мыть посуду, стелить постель. И пока один радел о том, что Божие, другой обеспечивал для него то, что человеческое. Итак, подобающим образом исполнив всё, что требовалось по хозяйству, возвращался Хеммо к себе домой, окрылённый надеждою обрести воздаяние от Господа.
Когда однажды он, дабы исполнить привычное сие дело, собирался уж было подниматься на гору, как увидел диавола, который, подняв огромный валун, побивал высившиеся там деревья. Но Хеммо, со всех сторон ограждая себя знамением Св. Креста, бодро продолжал начатый путь, уверенный, что защищен от всякой опасности щитом молитв того, кому он оказывал служение человеколюбия. Не требует, думаю, объяснений, чего хотел добиться древний змий: навести страх на человека, чтобы хоть так воспрепятствовать ему в служении милости, которое он намеревался исполнить, поскольку завидовал любви одного и пользе другого. Ибо он видел человека, облеченного в броню любви и шлем спасения (ср. Еф. 6:14, 17; 1 Фес. 5:8); и потому боялся вступать в ближний бой и сокрушить чело челом (cf. Hrabanus Maurus, De Universo, 6, 1, 60), ведь столько уж раз битва против таковых мужей, облечённых во всеоружие Божие (Еф. 6:11, 13), которую он неудачно затевал, оканчивалась для него превратно.
Ну а человек Божий узнал об том духом и, призвав мужа, столь преданного ему, посоветовал ему не страшиться, если встретит в лесу что-либо враждебное, но, осенив свое чело крестным знамением, проходить безбоязненно мимо; и добавил, что против сего знамения не устоит никакая опасность.
Когда же наставало время отшествия его (ср. 2 Тим. 4:6), он в течение нескольких дней пребывал как бы в умственном оцепенении, так что вышеупомянутые [друзья], снедаемые тревогой о нём, заботливо присматривали за ним, ибо [знали, что] пшеницу, собираемую в житницы Господни (Мф. 3:12; Лк. 3:17), нельзя отделить от плевел без молотила и веялки. И вот, находясь на последнем издыхании, увидел он, как собравшиеся вокруг него благочестивые женщины по обыкновению своему исходят, как говорится, слезами, и спросил, в чём же причина столь горького плача. Когда же они ответили, что скорбят о его смерти, он молвил: «Напротив, радуйтесь, ибо я буду дан вам в заступники, притом радостью непрестанной, словно на горе сей вам отныне предстоит справлять вечные ярмарки да гулянья. Кроме того, невдолге вы увидите, как на сем месте будет выстроен монастырь, а на подвиг святой соберётся немалое воинство братии, готовое благочинно вершить службу Божию». Итак, на четвертый день перед июльскими календами (28 июня) он, от земного освободившись, облёкся в небесное (ср. 2 Кор. 5:2), о чём явно свидетельствуют знамения и чудеса, которые Господь нередко творит чрез него.
Мимо места, где покоилось тело святого Христова исповедника Хеймерада, на одиннадцатый день после его кончины проходил некто из народа гессенского, Бенно именем. А поскольку отбросил он щит веры (ср. Еф. 6:16), стрела диавола пронзила ему сердце (ср. Пс. 90:5–6), и начал он хулить того святого и глумиться над его житием. Немедленно схваченный диаволом, он полностью стал его добычей (ср. 1 Пет. 5:8), ибо отринул оружие духовной брани (ср. 2 Кор. 10:4), коим надлежало противиться врагу. Родные тут же привели его ко гробу человека Божия, где постились да молились за него неустанно денно и нощно, чем стяжали ему по изгнании лукавого здравие телесное и исцеление умственное.
Похоже, мало было одного примера, чтобы показать, сколь тяжко грешит перед Богом и душою своей хулитель святых Божиих! Некто другой встретил двух женщин, то ли собиравшихся, то ли уже спешивших с дарами поклониться священному праху в тридцатый день, а когда узнал цель их пути, должен был бы подражать их усердию, но не сделал, несчастный, сего. По наущению сатаны он оскорбил человека Божия гнусными словами и делами (скорее всего, выругался и наступил на могилу. – прим. пер.), за что был немедля наказан: нога у него навсегда иссохла. Хромая пред всеми, он мог бы послужить достаточно поучительным свидетельством чудовищности таких злодеяний, но есть род людей – жестоковыйны они и неукротимы сердцем (ср. Вульг. Вар. 20:30; Иез. 2:4).
Итак, вновь: некая несчастная женщина по имени Бетцха, словно ничего не произошло, начала глумиться над усердием и благочестием некоторых у святой гробницы; но как дерзость умножает вину, так и вина – кару; поэтому наказание, постигшее её, должно было отбить впредь охоту дерзко оскорблять святого Божия. Ибо так долго супостат держал ту [женщину] в своей власти, пока всем не стало ясно, что подверглась она сей лютой каре за оскорбление, нанесённое иерею Христову.
Наконец после изгнания язв душевных и устранения препятствий неверия, открылся путь веры к изгнанию болезней также телесных.
Так вот, двое паралитиков, мужчина какой-то и женщина, в разное время пришли ко гробу мужа Божия с «товарами» – верою, за что по заступничеству святого, получили плату, сиречь полное здравие. Мужчину звали Поппо, женщину – Махтильт; она была родом из Фризии.
Подобным же образом две другие женщины, жительницы Саксонии, страдавшие разными недугами (ибо одна была лишена зрения, другая – дара речи), в разное время, но с равным благоговением пришли к святому месту и по предстательству блаженного мужа в награду за веру удостоились вновь обрести, чего их человеческому естеству недоставало. Одна была из деревни Гайцлахер, другая — из Ляймбаха.
Также и некий обезножевший юноша, из челяди графини Берты, добрался к вышеупомянутому прибежищу спасения на подпорках, ибо из-за природного изъяна он был совершенно немощен и для самого себя бесполезен. Но, удостоившись помощи по заступничеству человека Божия, он поправился и, отбросив прямо там же подпорки, вернулся на своих ногах.
Бернгер, пресвитер из Виллихсхаузена (каковое селение расположено в области Гессен), неведомо в чём провинившись, подпал бесу по попущению Того, Кто и блаженного Иова, хотя и весьма иным образом, предал сатане на искушение (ср. Иов 1:12, Иов 2:6). И вот, когда привели его к оплоту всенародному, сиречь гробнице человека Божия, он быстрее, чем слово молвится, освободился от гнусной одержимости.
К чему слова? Если бы мы попытались перечислять одно за другим лица, места, времена, дабы нагромоздить кучу свидетельств, не будет тому ни конца, ни меры.
Трое слепых, двое немых, один хромой, – либо от роду нездоровые, либо же покалеченные – у священного праха удостоились получить, каждый в свое время, полное исцеление.
Между тем случилось так, что магдебургский бургграф Мегинфрид со многими другими, направляясь в Иерусалим, из-за противного ветра надолго задержался в Лаодикии. Причём они в первый, второй и третий день многократно возвращались к судам, но когда выходили в открытое море, погода внезапно менялась и, словно бы некоей божественной силой удерживаемые, они никак не могли отплыть далеко. Дойдя уже до отчаяния, бургграф Мегинфрид и некоторые другие постановили возвратиться домой. Но Родинг, рыцарь его, а также Бебо и Зиберт, вместе со многими другими, твёрдо настроившись, решили вместо этого испытать путь по суше пешком и, если потребуется, выдержать все тяготы, даже преследование от неверных, нежели отказаться от намеченного путешествия. Итак, приняв это решение, с наступлением ночи они отправились спать.
Тогда Родинг, как он сам утверждал, ещё не забывшись сном, ясно увидел пред собой человека с почтенной сединою и в белоснежном одеянии, который объяснил причину их задержки: препятствовало им то, что они доселе пренебрегали бл. Хаймерадом, покоящимся у них дома неподалеку, а именно на горе Хазунген. «Поэтому, — молвил он, — если вы твёрдо и искренне решили попасть в Иерусалим, завтра утром, войдя в церковь св. Георгия в этом городе, свяжите себя клятвой, что, посетив Иерусалим, никто из вас, кто тамошний, не вступит в свой дом прежде, чем посетит гробницу сего святого мужа. Ну и вверьтесь его заступничеству, ибо если он не испросит для вас [милости] у Бога, не видать никому из вас Иерусалима».
Когда же об этом видении Родинг поведал остальным, так утешились они и ободрились душою (причём не только они сами, но и чужеземцы, присоединившиеся к ним), что на следующий день рано утром все вместе отправились в вышеупомянутую церковь; и те, кому было дано повеление, войдя в упомянутый город, стяжали спасение не только для себя, но и для всех своих спутников. Ибо едва они совершили обеты, как вдруг явился кормчий и, возвестив о попутном ветре, пригласил их на корабли. Взойдя на них, [паломники] в течение оставшейся половины дня прошли путь четырёх дней (как объяснил им сам кормчий). И далее плавание было настолько благополучным, что (дивно сказать!) путь, который опередившие их [путники] с трудом проходили морем и сушей за двенадцать недель, они прошли всего за шесть дней, причём те предшественники вошли в Иерусалим всего за два дня до них.
Итак, исполнив в Иерусалиме обеты, бургграф Мегинфрид, Родинг, Зиберт и те, кто были с ними, вернувшись на родину, остались верны своему обещанию: отправились в Хазунген и, посетив гробницу блаженного мужа, рассказали обо всём этом своими устами.
[26] На третий день после ежегодного поминания сего святого у одной женщины, когда она вручную трепала руками лён (как то в обычае у женщин), внезапно обе руки скорчились так, что пальцы крепко-накрепко вжались в ладонь. Подбежали бывшие рядом, чтобы вырвать лён у неё из рук, но не удалось. Наконец, понуждаемая сильной болью, женщина подошла к алтарю святого мужа; и, навечно посвятив себя в услужение церкви, удостоилась тем, что руки её наконец раскрылись и стали пригодны к обычному употреблению. Очевидно, что чудо сие сотворено было во славу Божию и для распространения почитания блаженного мужа, ибо тогда не было установленного праздника, в который запрещалась бы любая рабская работа, да и ничем другим, как со всей очевидностью выяснилось, не согрешила в ту пору ни сия женщина, ни родители её (ср. Ин. 9:2-3).
Двое скорченных, один из той же области, другой из селения, что зовётся Гайцледе, сердцем уверовав к праведности, а устами исповедовав ко спасению (Рим. 10:10), верою внутреннего человека (ср. 2 Кор. 4:16; Еф. 3:16) обрели там для человека внешнего прямость стана, в коей отказала им природа.
Подобным же образом две женщины, одна расслабленная, другая лишённая зрения, принесли к той же гробнице плату веры своей и, без малейшего промедления стяжав дар исцеления, в радостном ликовании отправились домой. Одна из них, как говорили, была из селения под названием Вайдерe, другая родом из Гринценбаха.
В навечерие Рождества Господня две свечи там зажглись силою свыше: одна в отсутствие, другая в присутствии клира, который собрался там для совершения всенощной в скинии Господней.
[27] Некий из братии той же обители, весьма благочестивый, в юности своей впал в тяжкую болезнь, от которой никак не мог избавиться, доколе не дал обет св. Хаймераду по образу верных его почитателей. Когда сие было сделано, предстал ему во сне человек Божий и обнял его обеими руками. Пробудившись же, брат почувствовал себя лучше и тотчас воспламенился немалым желанием всецело посвятить себя на служение Богу и св. Хаймераду. По мере того, как росло сие желание, крепло и здоровье, доколе, отрекшись от мира, он своего желания не исполнил и так навсегда избавился от всякой той болезни. Будучи затем послан с поручением в Вормс, он, увидев юношей, изучавших свободные искусства, воспылал желанием возвратиться в мир и поступить в университет (ludo reddere liberali). Когда же он утвердился в этом намерении, в предпасхальную пятницу напало на него искушение диавольское с такой силой, что и в тот самый день, когда он должен был читать отрывок, начинающийся словами «В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня» (Ос. 6:1) (ибо чтец отсутствовал, а сам он был диаконом (Levita)), и впоследствии всякий раз, как ему предстояло читать Евангелие, страница казалась ему словно покрытой какой-то чёрной тканью, и он не мог распознать ни единой буквы. Ещё он чувствовал, будто кто-то изо всех сил оттягивает его от читаемой книги, так что, бросив её, он подбежал к алтарю и, простершись перед иереем, к величайшему ужасу всего собравшегося народа, молил о помощи. Кроме того, когда он, собираясь ложиться спать, осенил себя со всех сторон спасительным знамением [креста], воспевая известный стих: «Да пребудет с нами благодать Святого Духа» (Sancti Spiritus adsit nobis gratia; начало секвенции Ноткера Заики, предназн. для праздника Пятидесятницы. – прим. пер.), то услышал голос, громко-прегромко сказавший ему: «Нечего креститься, ибо ты отдан мне!» Порою же, когда сидел он среди других, ему вдруг чудилось, будто некие [существа] тащат его в преисподнюю, так что он начинал дрожать, кричать и всех приводил в ужас. Сим жалом удручал его ангел сатаны (ср. 2 Кор. 12:7) беспрестанно днём и ночью, от Великой пятницы до Пятидесятницы.
[28] Вот тогда-то брат оный, придя в себя, и понял, что страдает столь тяжко от таковых [нападений] потому, что, вернувшись в мир, дерзнул лгать Богу. И начал он раскаиваться в содеянном. С тех пор и на протяжении двух с половиною лет он подвергался сим приступам пореже, сиречь с промежутками в несколько дней, [однако ему всё же приходилось] тяжко, и никакие средства — ни молитвы, ни посты, ни исповеди чрезвычайно частые — не могли исцелить его от сих наваждений. Когда близился приступ, он обычно пел Афанасиев гимн «Quicumque vult salvus esse» (Афанасиевский символ веры. – прим. пер.) и секвенцию «Sancti Spiritus adsit nobis gratia», чтобы отмолиться от надвигающейся угрозы. Но сатана в конце концов так основательно изгладил у него из памяти и то, и другое, что он едва мог удержать в уме лишь первый стих каждого песнопения – словно в постоянном полусне.
Наконец, возвратившись уже в киновию свою, он прибег к испытанному предстательству: простёрся у святой гробницы и со многими слезами да мольбами просил блаженного мужа о помощи, с искренним благоговением обещая впредь пребывать неотступно в сей обители и никогда более не возвращаться в мир. Когда же он произнёс сей обет сердцем и устами, показалось ему, будто кто-то ясным голосом ответил: «Аминь». И без промедления диавольское то искушение исчезло, а он, выздоровев, навеки избавился от той напасти.
Тот же брат рассказывал нам, что в его присутствии у гробницы человека Божия одна женщина, у которой прежде текла кровь из глаз, обрела зрение. Когда он это рассказывал, другой брат из той же киновии добавил, что в другое время у него на виду подобное чудо произошло и с другою женщиной.
[29] С течением времени в день памяти святого Хаймерада, который приходится на канун праздника свв. апп. Петра и Павла, несметное множество [больных] стеклось туда (по пророчеству человека Божия) и всю гору заняло. Полон тогда был храм страждущих от всякого рода болезней: бесноватых, прокаженных, слепых, хромых, иссохших. Когда же приблизился же час Божественного посещения, то-то было жалкое зрелище, как они (обычной своею болью охваченные) катались по двору церкви, обоюдно обнявшись; причем каждый сжимал шею другого так, словно собирался сломать ему горло, и пальцами землю рыл, и зубами грыз. Однако те из народа, кто был посильнее, плотной толпой расположились у колонн, чтобы никто из черни не приближался к страждущим. В тот день тридцать два человека обрели исцеление – в присутствии духовенства и народа.
Существует благочестивое и не заслуживающее презрения, а пожалуй даже и обоснованное мнение у простецов, что свв. апп. Пётр и Павел соработничают блаженному Хаймераду в чудесах; либо потому, что в канун их праздника Божественная сила наипаче проявляет себя в сих деяниях, либо потому, что церковь на сем месте названа в их честь и освящена под их покровительством.
[30] Коль скоро в обычае Господа так одарять друзей Своих, то нетрудно догадаться, сколь великою славою наделил Он тех, кто уже царствует с Ним на небесах. Посему надлежит тем усердней радеть об их почитании, ведь гнев Божий непременно воспылает против нас, коль сим пренебрежём.
Особенно сие касается тех мест, где Господь благоволил упокоить их телесно ради благодеяний, оказываемых местным жителям (civibus), доколе медлит Жених (ср. Мф. 25:5). Ведь не приходится сомневаться, что чем больше каждый почтения к ним проявит, чем больше потщится оказать чести, чем больше потрудится в служении, тем верней удостоится милостей их и в нынешней жизни как друг, и в запредельном грядущем насладится общением с ними как родич, а в мгновение крайней нужды быстрее и легче – коли вера не поколеблется (ср. Иак 1:6) – допросится милости Божией.
Конец писанию положить меня вынуждает неумелость пера моего и косноязычие, а не недостаток чудес, кои почти ежедневно проистекают из того же щедрого источника сил, во хвалу и славу Господа нашего Иисуса Христа, Который с Богом Отцом и Духом Святым живет и царствует во все веки веков. Аминь.