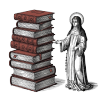
Пер. с исп. Colin,
F.Vida, hechos y doctrina del venerable hermano Alonso Rodriguez,
religioso de la Compañía de Jesús / dispuesta por el P.
Francisco Colin. – Madrid: Domingo García y Morrás, 1652.
В день памятования св. ап. Иакова, 25 июля, около¹ 1531 года от Рождества Христова, когда на престоле св. Петра восседал Климент VII, а в Испании царствовал непобедимейший император Карл V, в древнейшем и столь же благородном городе Сеговии родился Алонсо Родригес, впоследствии ставший иноком Общества Иисуса, которое в ту пору, по особому провидению небесному, созидал в Парижском университете славный патриарх св. Игнатий. Родителями Алонсо были Диего Родригес и Мария Гомес, торговцы сукном — сословие, которое в том городе почитается первым после дворянства, ибо много там выделывается сукон, и весьма отменного качества, благодаря близости гор, изобилующих стадами, и добрым водам реки Эресмы², что течёт у его подножия. Они были людьми древнего и чистого рода и, что важнее всего, вели жизнь образцовую. О них рассказывают, что по убеждению неких мужей, духовных и учёных, они стали часто прибегать к таинствам — обычай, в те времена почти забытый. У них имелось семеро сыновей и четыре дочери. Возможно, столь многочисленное потомство, часть коего сподобилась святости, стало им наградой за ту заботу, с которой они неусыпно воспитывали детей своих для Бога, ибо таков уж нрав Божий: даровать многих детей Анне, хоть и бесплодной, и среди них Самуила, ибо она сумела посвятить их Ему (Вульг. 1 Цар. 1:28), а у первосвященника Илия сыновей отнять за небрежение, с которым тот наставлял и обличал их (Вульг. 1 Цар. 2:29). Первенца назвали Диего, как и отца, а вторым был наш Алонсо.
С младенчества он воспитывался в страхе Божием и в любви к Марии, небесной Матушке; и так сие воспитание сказалось, что ещё до полного пробуждения разума его замечали, как взор его притягивали к себе образа Пресвятой Девы. И если удавалось ему заполучить какой-нибудь, он прятал его, хранил на груди, и отнять его можно было лишь ценой многих слёз. Когда мальчик подрос, но ещё не достиг совершенного разума, случалось с ним нечто, ставшее предзнаменованием его грядущей судьбы. Ибо порой он впадал в оцепенение и оказывался словно вне себя: с открытыми глазами пристально смотрел в одну точку, не отводя взгляда, и громко взывал к Деве Марии, моля Её о помощи. Родители пытались привести его в чувство, и доходило до того, что они таскали его за волосы и давали пощёчины, но и такими мерами едва могли привести его в чувство.
Причиной же этого оцепенения и забытья было чудесное видение. Малыш видел, как из его чрева проклёвывалось нечто крохотное, подобное горчичному зерну. На его глазах оно мало-помалу поднималось до самых облаков, непрерывно разрастаясь, пока не достигало размеров обширного острова. Так он это описывал: «Достигнув огромной величины и оказавшись уже в облаках, этот остров начинал безостановочно вращаться. Казалось, он распространялся во все стороны, далее и далее расходясь вширь2, подобно тому как густое облако растекается, становясь всё реже и реже, пока не исчезнет вовсе».
Таково было видение или сон; и поскольку случалось оно многократно и всегда одинаково, нельзя отрицать, что исходило оно свыше и им Бог желал ознаменовать изначальное ничтожество Алонсо и то беспрестанное, непрерывное движение его души, начавшееся после обращения к Богу, — движение, благодаря которому он, не останавливаясь, возрастал в добродетели и поднимался ступень за ступенью всё выше, покуда слава имени его не распростерлась повсюду. Бог предназначал его для Своего нового вертограда — Общества Иисуса, и потому дал ему вкусить от плодов первых его насаждений, едва лишь они явились на свет, устроив так, чтобы само Общество преподало ему азбуку того высокого духа, коим он обладал впоследствии.
И вот случилось так, что, когда Алонсо было лет примерно двенадцать, в Сеговию прибыли двое из первых отцов Общества (которое в то же самое время было утверждено Апостольским Престолом). Диего Родригес принял их у себя как гостей, а сыновья его прислуживали им, в особенности Алонсо, которому отец велел неотлучно находиться при них в те несколько дней, что они провели в загородном доме, предаваясь молитвенному сосредоточению после весьма успешной проповеднической миссии в том городе. Отцы нашли отрока смышлёным, приятным в общении и добронравным. В благодарность за его услуги они наставили его в таинствах веры и основах христианского учения, научили молиться по розарию Пресвятой Девы, прислуживать во время Святой жертвы мессы, исповедоваться и другим премудростям, сообразуясь с его разумением. Впоследствии, на склоне лет, вспоминая об этом как об одном из величайших божественных благодеяний, Алонсо говорил, что не забыл этих наставлений до конца жизни, хотя и запамятовал имена тех отцов; ибо, будучи ребёнком, он не обратил на них должного внимания. Ну и мне доселе так и не удалось их выяснить.
Известно, однако, что вскоре после этого Диего Родригес отправил двух своих старших сыновей, Диего и Алонсо, на учёбу в Алкалу, вверив их отцу Франсиско де Вильянуэве, который тогда ещё не был священником, но уже прославился в том знаменитом университете не столько учёностью, сколько дивным духом, коим наделил его Господь. Братья пробыли в Алкале до самой кончины своего отца, случившейся не более чем через год.
Когда они вернулись в Сеговию, мать решила, что старший сын продолжит учение, а Алонсо будет помогать ей в управлении домом и воспитании младших братьев и сестёр. Первенец оправдал надежды: он изучал законы, получил учёную степень и в своё время, с согласия родных, взял в жёны донью Марию де Искара, девицу своего круга. Получив должность по своей профессии, он переехал в Севилью, где и скончался в расцвете лет и надежд, обманув чаяния, которые возлагала на него мать.
Не лучшая участь ждала и надежды самого Алонсо. По настоянию матери он женился на девице из горной Кантабрии3, по имени Мария Хуарес, и посвятил себя обширной торговле, унаследованной от отца. Однако, когда он уже помышлял, что приумножил состояние, то обнаружил, что дела его, напротив, в большом упадке. Вскоре умерла его маленькая дочь, бывшая светом очей его, а ненамного позже и жена, оставив его молодым вдовцом с малолетним сыном на руках.
Сими испытаниями Бог дал ему понять, что желает служения от него, и потому Алонсо решился променять земные стяжания на небесные4. Мать не противилась ему в этом, ибо, видя, что и её Господь посетил одиночеством вдовства, потерей состояния и смертью детей (почти всех из которых она лишилась в их раннем возрасте), она тоже возжелала удалиться от мира с двумя оставшимися дочерьми, дабы служить Господу нашему. Они поведали о своих намерениях отцам Общества Иисуса, которые к тому времени уже прибыли в Сеговию, чтобы основать там свою обитель. Было решено, что мать с дочерьми займёт одну часть дома, а Алонсо с сыном — другую, и каждый на свой лад станет трудиться над исполнением своих обетов, отвечая на призыв Божий. Сёстры принесли обет девства и пребывали в нём всю свою жизнь, которая, как я расскажу позднее, была исполнена редких примеров добродетели и проявлений милости Господней. Мать прожила не так уж много лет, но за это время стяжала великие заслуги и добродетели.
Но кто поистине всем сердцем взялся за дело своего обращения и духовного преуспеяния, так это Алонсо. Он глубоко погрузился в размышления о горестях и краткости этой жизни, о вечности грядущей и о строгости последнего суда. Исполнившись двух глубочайших познаний — одного о себе и своих грехах, а другого о Боге и Его совершенствах, — он положил начало новой жизни, принеся генеральную исповедь о. Хуану Баутисте Мартинесу, одному из первых проповедников Общества Иисуса в Сеговии.
За этой исповедью последовали три года строжайшего покаяния: ежедневные самобичевания, грубейшая власяница, скроенная наподобие стёганки и покрывавшая его от шеи до бёдер, частые посты, а превыше всего — непрестанные слёзы и сердечные воздыхания. Их подкрепляло сладостное общение, коим удостаивал его Господь и которое уязвляло его сердце любовью и скорбью. Он исповедовался каждые восемь дней, а начало этому благочестивому обычаю положил в день Пресвятой Девы Марии Снежной, когда с великим утешением вверил себя покровительству Царицы Небесной.
Каждый день он коленопреклонённо, неспешно и благоговейно прочитывал полный розарий из пятнадцати «Отче наш» и ста пятидесяти «Радуйся, Мария». Вначале молитва его была лишь устной, но затем он присовокупил к ней размышление о пятнадцати тайнах и через это приобщился к высокому деланию молитвы умственной. В ней он возымел такое преуспеяние, что стал посвящать ей четыре с половиной часа в день: два с четвертью часа утром и столько же вечером.
Обычным предметом его размышлений в пору этого первого рвения (не считая последней четверти часа, которую он всегда посвящал благодарению) была жизнь, Страсти и смерть Искупителя. Он ощущал особое умиление при некоторых сценах Страстей, и в созерцании их Господь наш удостоил его великой милости: не только даровал ему способность сопереживать Своим мукам и терзаниям, но и наставлял его, открывая всю глубину Своих страданий и являя меру того, что Сам претерпел. К этому Алонсо приготовил себя, помимо упомянутых покаяния и слёз, героическим подвигом добродетели, подобным тому, что явили патриарх Авраам в Ветхом Завете (Быт. 22) и великий авва Муций — в Новом (Кассиан, Собеседования, кн. 4, гл. 27–28). Подвиг этот состоял в принесении в жертву Богу единственного сына.
Он любил его отцовской любовью; но однажды, обратив на него свой взор и умом предвидя горести и духовные опасности этой жизни, он с великой ревностью воззвал: «Господи, если этому дитяти, возрастая, суждено оскорбить Тебя, то лиши его жизни немедля! Я же сочту за особую милость лишиться его, лишь бы не был Ты оскорблён». В ту же ночь Бог явил ему сына во сне, мёртвого и в саване. Видение сие исполнилось через месяц: дитя умерло — в залог того, что жертва единственного сына, принесённая этим новым Авраамом, движимым пылавшей в груди его ревностью о славе Божией, была угодна Господу нашему.
Туллий (Тускуланские беседы, кн. 1) и Плутарх (в жизнеописании Солона) говорят, что ранняя смерть детей есть милость Божия, и приводят в пример жрицу Аргию, которая, испросив у неба в награду за своё благочестие того, что будет для неё наилучшим, в ту же ночь нашла двоих сыновей своих мёртвыми в постели. В этом видится символ блаженства христианских младенцев, умирающих в состоянии крещальной благодати, и о том, сколь много приобретают их родители, отправляя их к ранней славе.
____
¹ В оригинале стоит cerca de los años... (около ... года), что является не столько выражением неуверенности, сколько характерным для эпохи риторическим приёмом. Автор XVII века, описывая события, столетней давности, таким образом проявлял научную добросовестность, указывая на возможное отсутствие точной метрической записи. При этом символическая дата — день св. ап. Иакова, покровителя Испании, — подчёркивалась как более значимая, чем точный год.
² В латинском житии, написанном о. Луисом Ханином, приводится уточнение: «…in templi capacis amplitudinem diffundi», т.е. « …распространяясь до объёма обширного храма».
3 De las Montañas — устойчивое название области, соответствующей современной Кантабрии.
4 В ориг.: trocar la mercancia de la tierra por la del Cielo, досл.: «…переменить торговлю земную на небесную».
Довелось мне узнать о многих милостях и благодеяниях, явленных Господом нашим слуге Своему Алонсо в те первые годы его покаянной и созерцательной жизни в Сеговии. Бог есть истинный Отец, Мать, Супруг, Услада и Дар для чистых душ, особливо же для тех, что ещё не окрепли в служении Ему, а потому, снисходя к человеческой немощи, Он вскармливает новорождённых во Христе чад млеком кротости и сладости, а не жёсткой коркой хлеба трудов и евангельского Креста. Этот Его приём, применяемый почти ко всем святым подвижникам, мы видим и на примере нашего Алонсо, о чём и он сам в своих писаниях с замечательной силою повествует. Ибо в те первые годы его духовного младенчества в Сеговии Господь дивным образом одарял и укреплял его, дабы сделать для него более сносным суровый подвиг молитвы, умерщвления плоти и покаяния.
Правда, эти первые милости и дары по большей части были не из тех, что называют первостепенными, то есть умопостигаемыми, но из низших, а именно: телесные или являвшиеся воображению, во сне или наяву. Ибо с теми, кто только начинает движение по божественному пути и ещё не окреп духом, должно общаться на языке, приспособленным к их разумению, а не речью чисто духовной, как говорил и поступал Апостол со своими Коринфянами (1 Кор. 3:1-2).
Первая из милостей той поры, о которой у меня имеются сведения, такова. Когда он, как мы уже говорили, ежедневно прочитывал полный розарий Пресвятой Девы, то, помимо дивных словесных утешений, даруемых в душе, ему то и дело виделась в воздухе алая роза при каждом «Отче наш», а при каждом «Радуйся, Мария» — другая, белая, равной красоты и благоухания. Об этом много лет спустя поведали его сёстры, коим он то и открыл.
Сей цветочный дар стал залогом любви между Иисусом Христом и слугой Его, но Его Величество благоволило удостоить Алонсо ещё более близкого посещения. Однажды ночью, после того как он горько оплакал свои грехи, явился ему во сне Христос, Господь наш, в сопровождении многих святых, осиянных славой. Из них он узнал лишь своего давнего покровителя, св. Франциска. Узнал же не по какому-либо особому облачению или знаку, что отличали бы его от прочих, но по особому свету от Бога, ибо именно Он и дал ему узнать святого в награду за сердечное почитание, которое он всегда к нему питал.
Серафический Патриарх немного отделился от других святых, своих спутников, и, приблизившись к Алонсо, спросил его: «Отчего ты так плачешь?» — «Как же мне не плакать, отче, — отвечал Алонсо, — зная всю тяжесть грехов моих? Ведь даже малейший простительный грех, совершённый против Бога, заслуживает того, чтобы оплакивать его всю жизнь.»
Святой одобрил ответ, и видение исчезло. Следствием же его, как и подобает покаянной жизни, стал столь великий ужас перед грехом, что отныне Алонсо почёл бы за малое претерпеть адские муки, лишь бы не осквернить душу даже легчайшим проступком (Кассиан, Собеседования, кн. 9, гл. 31).
За сей милостью Сына последовали посещения Матери, ведь Алонсо нежно любил Её и с упованием призывал. Однажды он молил Её испросить у дражайшего Сына Своего дара совершенного подражания жизни и добродетелям их обоих. Продолжая молитву, он ощутил, как рвение его возросло с такой силой, что, почти выйдя из себя, он простонал: «О, как я люблю Тебя, Владычица ангелов и Матерь Бога моего! Сколь велика любовь моя к Тебе! Вот бы только и Ты, Владычица, любила меня так же сильно!»
Он пошёл бы в своём порыве, почти лишившем его разума, и далее, если бы Премудрая Дева, с дивной кротостью и святой ревностью исправляя простодушие и неразумие Своего преданного почитателя, не явилась ему тотчас во всей Своей красоте и не сказала: «Полно, Алонсо; ты ошибаешься, ибо Я люблю тебя гораздо больше». Сказав это, Она исчезла, оставив его в великом благоговении перед столь исключительной милостью, которую он не мог забыть до конца своих дней.
Кассиан передаёт слова великого Антония, который обыкновенно говорил: “Не совершенна та молитва, в которой монах осознаёт, что он молится, или даже просто самого себя”; Non est perfecta oratio, in qua se Monachus, vel hoc ipsum, quod orat, intelligit (Св. Иоанн Кассиан, Собеседования, IX, 31). Молитва Алонсо была живым воплощением этого высокого учения. Здесь мы видим первую его сторону: в своем рвении он доходил до такого состояния, что уже не сознавал, что говорит. Ну а следующий случай, как и многие примеры из его жития, покажет нам и другую сторону: как он доходил до того, что не сознавал и самого себя.
В день торжествующего и славного Успения Пресвятой Владычицы, к коему он заблаговременно и усердно готовился, дабы отпраздновать его с пользой и духовной радостью, он на рассвете отправился в нашу коллегию. Там исповедался и, стоя в церкви, долгое время пребывал в высочайшем созерцании дивного Таинства, которое ему предстояло принять. Наконец подошёл он к алтарю и принял Пресвятое Тело Христово, а удалившись для благодарения, когда менее всего того ожидал, был восхищен духом и в одно мгновение очутился в небесной славе, посреди бесчисленных ангелов и святых. Там, в видении, Преблагословенная Дева в сопровождении св. Франциска и его ангела-хранителя взяла его в Свои руки и представила Отцу Предвечному, Который принял его с особым благоволением. Он не знал, как сам пишет, было ли это в теле или вне тела (ср. 2 Кор. 12:2), долго или коротко сие длилось; знал и видел лишь то, что с непостижимой лёгкостью, миновав огромное расстояние, он достиг неба и был представлен Девой, и прочее, о чём было сказано. Придя немного в себя и собираясь уже выйти из церкви и идти домой, он на долгое время ослеп. С того мгновения всё земное казалось ему сором и грязью, в полном согласии с чувством Апостола, когда тот только что вернулся с третьего неба (ср. Флп. 3:8).
За этим последовали две другие милости, сиречь видения, оба пророческие, коими Бог предуготовил его к грядущим бедствиям и трудам. Однажды в 1568 году, когда Алонсо усердно молился о Вселенской Церкви и в особенности об Испании, Господь наш показал ему во сне множество вооружённых отрядов, которые, рыская по Гранадскому королевству, сражались между собой до жестокой и кровавой смерти. Дух его был вознесён в некий просторный храм, и он увидел его столь осквернённым, что алтарь служил яслями двум зверям невиданной величины. Это зрелище уязвило его до глубины души, особенно когда, подняв глаза к запрестольному образу, он увидел там резное изваяние Девы, нашей Владычицы. Он стал горько оплакивать запустение дома Божия, поругание его великой Владычицы и Матери и гибель королевства. Затем взял на себя труд умилостивить гнев Господень непрестанными молитвами и покаянием, и Бог не дал ему тогда большего разумения смысла виденного, доколе два года спустя не случилось восстание гранадских морисков. Поначалу на него не обратили внимания, но впоследствии оно доставило немало забот самому могущественному королю в мире и заставило поломать голову его главных министров.
Осквернение же храмов осуществилось в полной мере, ибо в некоторых местах те отступники разрушали церкви, разбивали купели и алтари, проливали святой елей, попирали ногами Святейшее Таинство, вытирали о корпоралы мечи и железо, обагрённые кровью мучеников, пролитой в таком изобилии, что по всему королевству более трёх тысяч человек отдали жизнь за веру Христову в изощрённых пытках. Одних рассекали надвое и сжигали заживо, других, обмазав им ноги смолой, жарили на огне и затем вешали; иных резали меж двух досок, дабы усилить муку, с которой они, поджариваемые, умирали. Словом, повсюду в Альпухаррах и в Сьерра-Неваде, где обитали те отступники, едва ли остался христианин, коего бы не постигли преследования, храм, сосуды и священные облачения, коих бы не осквернили, или место, где бы не вершилось столь чудовищных жестокостей, что Алонсо по праву горько оплакивал их, взывая к Богу о помощи.
И помощь сия не замедлила. Война закончилась с честью, и благороднейшая провинция Андалусия и королевство Гранадское были очищены от сего племени, столь мерзостного и пагубного.
Предыдущее видение, как мы рассказали, было о битвах и победах чужих, а новым видением Господь соблаговолил предуготовить Алонсо к его собственным. Его он также сподобился во сне, ибо сны порою нисходят с небес, дабы предупредить о грядущих напастях, как о том свидетельствуют в обоих Заветах тезоименитые Иосифы, чьи сны святые называют истинными пророчествами и откровениями. И я не нахожу в тех снах, что видел сей великий слуга Божий и о коих мы поведем рассказ, ни единого изъяна, что помешал бы нам почитать их за истинные откровения.
Итак, увидел он над собою в воздухе, на высоте превознесённой башни, великое множество чёрных птиц, размером с крупных дроздов, столь тесно сбившихся друг к другу, что из них образовалась густая чёрная туча. Навстречу им летела дивной красоты птица, величиной с голубя. На груди её серебряными буквами было начертано Святейшее Имя ИИСУСА — в том виде, как его обыкновенно изображают, тремя буквами с крестом посредине¹. Она так доблестно ударила по этому сплочённому воинству, что в одно мгновение вражеские птицы посыпались с небес, растерзанные на куски, а те немногие, что уцелели, обратились в бегство.
Вскоре, однако, они оправились и восстановили боевые ряды. Но победоносный голубь повторно ринулся на них, перебив ещё больше. Столь велико, однако, было упорство чёрных птиц, что, созвав друг друга карканьем, уцелевшие после минувших поражений собрались в третий раз, выстроились в клин и упрямо вернулись на место, уже дважды ими потерянное. Но голубь с именем ИИСУСА напал на них с такой отвагой, что не оставил в живых почти ни одной. С высоты сыпались головы, крылья и лапы, словно снежные хлопья, и победа осталась за непобедимейшим именем ИИСУСА.
Алонсо поведал об этом видении своему духовнику, отцу Мартинесу, и тот истолковал его, сказав, что ему предстоит вступить в Общество, где оружием Иисусовым он будет многократно сражаться с демонами, пока не одержит славных побед, что и случилось на деле. Сам Алонсо, подробно описывая это видение в своих записках много лет спустя, говорит, что чёрные птицы означали демонов, а прекрасная птица — Самого ИИСУСА, Чьё имя она несла на груди. Серебряные же буквы, по его словам, знаменовали чистоту и целомудрие, что оберегаются и сохраняются благодатью и милостью Господа нашего Иисуса Христа. Этим толкованием он признал, что слава одержанных побед принадлежит едино Полководцу Христу, с врагами Коего, бесами, Алонсо вёл открытую войну всё то время, о котором мы ещё поведаем.
_____
¹ Речь идёт о христограмме IHS — главном символе Общества Иисуса. Это первые три буквы имени «Иисус» на греческом языке (ΙΗΣΟΥΣ), увенчанные крестом, который выходит из центральной буквы H.
Это те самые сёстры, о которых я упоминал выше; они вместе с матерью уединились в одной из комнат дома, где в то время проживал Алонсо, и посвятили себя Богу, принеся обет девства. И раз уж мы о них упомянули, будет правильно, прежде чем мы покинем Сеговию, рассказать, что удалось узнать об их святой жизни и смерти из свидетельств тех, кто общался с ними и окормлял их души, — ибо всё это служит к славе нашего досточтимого брата, чьё житие мы пишем.
После смерти матери, стремясь к большему совершенству, они переселились в скромный домик неподалёку от нашей коллегии, где, не имея прислуги и никого к себе не допуская, подвизались в святом затворе около пятидесяти лет. Жизнь они вели следующую. Вставали через два или три часа после полуночи и, уединившись в своей молельне, пребывали в умственной молитве до тех пор, пока в церкви Общества Иисуса не открывались двери и не начинались мессы. Они выслушивали их все и, когда службы заканчивались, за час до полудня возвращались домой, дабы дать телу самое скудное подкрепление.
После обеда, покуда зрение позволяло, они некоторое время занимались шитьём облачений для богослужений, затем читали розарий Пресвятой Девы попеременно, словно в хоре, с долгими паузами и размышлением о его тайнах. За этим следовала трапеза, которую и ужином-то не назвать, ибо, помимо того что они, строго держась церковных предписаний, постились три дня в неделю, вечером они не вкушали ничего, кроме небольшого куска хлеба и какого-нибудь плода. Перед отходом ко сну вновь надолго предавались молитве. В последние годы жизни, когда от старости девы лишились зрения, время, прежде отведённое на рукоделие, они посвящали опять же молитве. Власяницы, самобичевания и другие виды покаянных подвигов были у них в большом ходу, и были бы ещё в большем, если бы благоразумие духовников не полагало предел их рвению.
По воскресеньям и праздникам они весь день проводили в нашей церкви, покидая её лишь для принятия пищи. Они ни к кому не ходили в гости и у себя никого не принимали. В первые годы причащались дважды в неделю, а в последние — ежедневно. И хотя находились те, кто роптал на сей навык, жизнь сестёр была такова, что духовники сочли возможным даровать им на то позволение. О гонениях, которые им пришлось претерпеть из-за частого причащения и затворнической жизни, они сами говорят в отрывке из письма к своему брату. Вот он:
«После того, как приехал отец Сантандер, поутихли великие гонения от некоторых людей, которые ходили к нашим духовникам и наговаривали на нас такое, что, если бы не десница Божия, нас постигли бы беды куда большие, — и всё для того, чтобы помешать нам причащаться. Мы же молчим, словно мёртвые (ср. Пс. 38:3), предав себя в руки Божии, и Сам Господь так вразумлял нашего духовника, что по его воле мы все причащались. Мы стараемся делать не более того, что нам велят, видя в этом волю Божию, и потому с великой радостью повинуемся, понимая, что такова Его воля, которую и надлежит исполнять во всём. Некоторые весьма сетуют, отчего мы с ними не общаемся, нам же ни с кем не хочется говорить, кроме как с нашим духовником, ибо мы не видим, чтобы Господь наш желал иного.
Чем больше нас преследуют, тем больше мы их любим и с тем большим усердием вверяем их Господу нашему. Многое мы претерпели от некоторых духовников. Ныне у нас есть один, великого совершенства, по имени отец Гаспар де Педроса, который также вдосталь нас помучил; но когда взираешь на волю Божию, горькое становится сладким».
Доселе — слова из письма, из которых ясно видна духовная высота сих подвижниц. Кроме того, Господь наш испытывал их сухостью, сомнениями и болезнями, но всё это послужило лишь к вящей их славе.
С младшей же, по имени Антония, Божественный Супруг, как кажется, был особо щедр на милости. Однажды, услышав, что в нашей коллегии только что преставился отец Бартоломе дель Йерро, бывший её духовным отцом, она уединилась в молитве, дабы вверить его Богу. И тотчас ей было явлено, что душа сего священника уже прославлена на небесах. Она поведала об этом духовнику, добавив, что уверена: он и не коснулся чистилища. Причащаясь и заказывая мессы, она испрашивала у Господа освобождение из чистилища для нескольких душ, о которых её просили молиться, и Господь наш являл ей эти души уже во славе.
Случалось, что ночью во время молитвы в молельне её внезапно осиявал свет; а однажды она видела, как от дарохранительницы исходили ослепительные лучи. Рассказывают также, что Господь наш явил ей ту славу, которой Он насыщает на Небесах иноков Общества, к коему она испытывала особое расположение.
Незадолго до её смерти старшая сестра, Юлиана, просила умирающую вымолить у Бога позволения вскоре последовать за ней. А дабы получше приготовиться к преставлению, она не желала принимать ничьей помощи в своём «уголке» (как сёстры называли свой домик); испросила у духовника позволения поститься все дни на хлебе и воде и предалась непрестанной молитве, прося позволения отойти вслед за сестрой. Молитва её была услышана, ибо она умерла два с половиной месяца спустя.
Обе они покоятся в отдельных гробах в часовне Пресвятой Девы в нашей церкви. В дни их погребения всё лучшее общество Сеговии несло усопших на плечах в торжественной процессии, а народ сберегал их одежды как реликвии и оказывал им другие почести, какие обыкновенно оказывают тем, кто умирает в славе святости. Брат их, Алонсо, видел их на небесах, о чём будет в своё время рассказано.
Вот уже шесть лет, как наш новобранец Христов пребывал в стенах родного дома своего в Сеговии, подвизаясь в духовном воинствовании, о котором мы рассказали во второй главе. Когда же настал 1569 год, желание, которое он питал со дня своего вдовства: переменить образ жизни и стать иноком — разгорелось в нём с новой силой, ибо он ясно уразумел, что Бог повелевает ему забыть народ свой и дом свой (ср. Быт. 12:1). Поскольку он уже много лет как оставил торговые дела, то без труда привёл в порядок своё небогатое имущество. Подписав отказ от всего своего достояния в пользу сестёр, он, нагой и нищий ради Христа, покинул дом и родину.
Узнав, что о. Луис де Сантандер, его прежний духовник, занимает должность ректора коллегии, основанной Обществом в городе Валенсии, он туда и направился, твёрдо вознамерившись поведать священнику о своих намерениях и ввериться его руководству и совету. О. Луис был мужем весьма благоразумным и духовным, а потому у него искали окормления люди, известные своей святостью, в частности, св. Тереза Иисусова, которая, как пишется в её житии, исповедовалась у него в Сеговии.
Обрадовался добрый отец, увидев Алонсо в Валенсии и узнав о его устремлениях, но, дабы они наверняка исполнились, решил, что тому надлежит изучить латынь. О. Луис поселил его в доме почтенного купца по имени Эрнандо де Кончильос, где Алонсо почитали как святого. Мальчик, которого он водил в школу, и девочка, которую он учил читать, оба, достигнув совершеннолетия, оставили мир, а жизнь их была такова, что умерли они в славе святости. Некоторое время Алонсо проживал также в доме маркизы де Терранова в качестве наставника её сына, дона Луиса де Мендосы. И там, и в других местах все почитали его как великого слугу Божия, и житие его того заслуживало, ибо он продолжал всё те же покаянные труды и молитвенные упражнения, что начал ещё в Сеговии.
В это время диавол, который никогда не дремлет, расставил ему сеть, тем более опасную, что она была прикрыта личиной добродетели. Сошёлся с ним некий студент, его ровесник, также имевший благочестивое намерение служить Богу. Сей молодой человек, выведав в беседах образ мыслей и устремления Алонсо, оставил учение и удалился в городок под названием Сан-Матео, что в двух днях пути от Валенсии, и стал там отшельником. Оттуда он написал своему другу, поведав о своём новом образе жизни и прося его, раз уж настало время каникул, навестить его. Алонсо так и сделал. И едва он прибыл, как тот предложил ему занять келью в скиту, которую он уже приготовил для него поблизости. Видя, что Алонсо отказывается от столь поспешного и странного предложения, отшельник задержал его у себя на несколько дней, непрестанно осаждая его при этом доводами, весьма основательными и искусно составленными.
«Весьма я удивлён, друг мой, — говорил он ему, — что, имея столь великое желание угодить Богу, ты не разумеешь и не ценишь случая, который тебе для этого представляется. Столько лет ты вздыхал о молитве и уединении, и теперь пустыня кажется тебе подозрительной? Словно бы Моисей для беседы с Богом не всходил на гору, а Христос для молитвы не удалялся в пустыню! К чему стремиться к покаянию, умерщвлению плоти и суровой жизни, если ты отвергаешь то самое место, где всё это обрёл Предтеча Господень? Неужели ты сомневаешься в совершенстве того жития, что святые прославили как высочайшую стезю иночества? Разве не знаешь ты, какое великое преимущество — начинать путь добродетели там, где славные святые его окончили? Если желаешь совета мужей духовных, то испроси его немедля у Павлов, Антониев, Иларионов, Палладиев! А поскольку они отвечают тебе своим примером, то подражай же в жизни тем, кому желаешь последовать и в смерти. Место, время, товарищество — всё зовёт тебя на сей святой подвиг. Если упустишь эту возможность, берегись, как бы Бог не отнял её у тебя навсегда! Даже если ты и вернешься сюда при другом случае, слава первой победы будет для тебя потеряна, ибо в этом первом приступе ты окажешься побеждённым».
Речи эти повергли дух Алонсо в немалое смятение, ибо он и сам был склонен к уединению и молитве. Усугубляло его смятенное состояние и то соображение, что в сорок лет уже поздновато продолжать учение, да и обязанности служить в чужом доме не слишком-то способствуют уединению и сосредоточенности, которых он ищет. Но с другой стороны он рассудил, что не посоветовался с исповедником и отцом своим духовным, а ведь по воле Божией только под его руководством душа может шествовать стезёй покаяния в безопасности. И хотя товарищ его и на это нашёл что возразить, сказав, что посоветоваться можно и после облачения в отшельнические ризы, Алонсо постарался ускользнуть, как только смог. Почти спасаясь бегством от назойливости своего друга, он отправился в Валенсию, где первой его заботой было поведать отцу Сантандеру обо всём, что с ним приключилось. Он рассказал ему о натиске, которому подвергся, о смятении, в котором пребывал, и о том, как ему удалось бежать. В заключение добавил, что, влекомый любовью к уединению, почти готов вернуться в скит.
Отец, который ещё в Сеговии хорошо изучил эту подвижническую душу и знал, что рвение её нуждается в руководстве и направлении, а без них новоначальному грозит опасность, сказал: «Весьма боюсь, сын мой, что ты погибнешь». —«Отчего же мне погибать?» — спросил Алонсо. — «Оттого, — отвечал отец, — что, как вижу, ты хочешь творить свою волю; а творя её, ты, без сомнения, погибнешь.»
Один этот довод оказался сильнее всех речей отшельника. Алонсо почувствовал внутреннюю перемену и, уже не владея собой, поднялся с места, бросился к ногам отца и произнёс: «Если так, отче, то я твёрдо решаюсь не творить своей воли во все дни жизни моей. Поступайте со мной, Ваше преподобие, как вам будет угодно.»
Отец рассказал ему о благах общинной жизни, и Алонсо, поняв, что именно в ней обретается совершенное отречение от собственной воли и суждения, решил начать её в Обществе Иисуса, причём, ради вящего смирения, мирским коадъютором. Мирскими коадъюторами… мы в Обществе называем тех, кто несёт послушания, помогая общине в мирских нуждах, и кого в других орденах называют легос¹, и именуются так в отличие от духовных коадъюторов, которые являются священниками и служат душам.
Средствами Алонсо Родригес не был настолько обделён, чтобы не мочь стремиться к сану священника, и, надо полагать, о. Сантандер, отправивший его на учение, имел в виду именно это. Но Бог, уготовавший ему участь стать образцом для братьев-коадъюторов, изменил сии намерения и внушил Алонсо ради полнейшего самоотречения просить о принятии в коадъюторы, а не в священники.
С этим он и отправился к отцу Антонио Кордесесу, бывшему в ту пору главою Арагонской провинции, поведал ему о своих устремлениях и настоятельно просил о принятии. О. Антонио, будучи великим знатоком духовной жизни, исследовал его призвание и дух и тут же распознал сокровище, которое Бог вложил в сердце Алонсо, и прозрел, сколь великие дела предстояло Богу в нём совершить. Он собрал отцов, с которыми обыкновенно советуются в подобных случаях. Но поскольку те высказали сомнения, говоря, что Алонсо уж в возрасте, а здоровье и силы его оставляют желать лучшего, особенно для того, кто просится на мирское служение, провинциал сказал:
— Что ж, отцы, я уже говорил с Алонсо, исследовал его жизнь и устремления, и говорю вам без обиняков: я приму его на служение, ибо понимаю, что будет оно велико и что он прославит Общество своими добродетелями и примером.
Отец Кордесес был одним из самых выдающихся мужей, какими располагала Арагонская корона в те ранние времена; он с великой мудростью и кротостью управлял различными провинциями Испании и отличался такой близостью с Богом, что, когда к нему порой приходили по делам, связанным с его должностью, его заставали погружённым в высокое созерцание, при коем, отрешённый от всего земного, он пребывал в небесном восхищении. А потому слова его об Алонсо были сочтены за пророчество. И тогда все согласились принять его, что и было сделано в последний день января года Господня 1571.
В ночь перед этим с Алонсо произошёл странный случай. Он спал в мезонине одного из домов, о которых я упоминал, и окна выходили на улицу. И вот услышал он, как в полночь его позвали; открыл окно и, ничего не подозревая, увидел, что звавшим оказался его старый товарищ, отшельник из Сан-Матео. Но был он уже не кроток и смирен, как прежде, а свиреп и надменен. Порицая намерение друга вступить в Общество, он требовал от него немедля отправляться с ним в скит. Увидев его в такой час и в таком свирепом обличье, Алонсо распознал открытую войну, которую вёл против него сатана, и, размыслив, что отшельник, даже если бы и оказался в ту ночь в Валенсии, не мог бы естественным способом узнать о его намерениях, понял, что это бес в образе отшельника. Не отвечая ему ни словом и призвав на помощь небеса, Алонсо захлопнул окно и пребывал в великой тревоге, пока не настал день, когда намерения его исполнились.
Уже вступив в орден, он припомнил, что, хотя в студенческую пору много общался с отшельником, однако никогда не видел, чтобы тот приступал к таинствам или иным образом проявлял духовную жизнь. И тогда закралось в его душу подозрение, что тот, кто пытался помешать ему вступить в Общество, с самого начала был служителем сатаны в обличье и одеянии студента и отшельника.
_____
¹ Legos (исп.) от греч. λαϊκός через лат. laicus — братья-миряне, то есть члены монашеского ордена, не принесшие всех обетов; в русской литературе применительно к средневековым общинам зачастую используется наименование «конверзы».
Итак, по принятии в Общество Алонсо был отправлен в коллегию Гандии, что в том же королевстве Валенсия: в ту пору там находился новициат провинции. По прохождении первого искуса и духовных упражнений, принятых в Обществе, он вышел из затвора, дабы начать свой новициат, и приступил к нему с рвением, какое только можно ожидать от того, кто уже в миру вёл жизнь совершенного инока.
Добрым доказательством того, сколь довольны были настоятели его духовным устроением, служит то, что не прошло и шести месяцев его искуса, как на него уже обратили взоры, дабы отправить на Майорку, где незадолго до того была начата постройка нашей коллегии. Майорка — крупнейший из Балеарских островов, что лежат близ Испании. Древние причисляли её к главным островам Средиземного моря, а новые владеют ею, почитая её не столько за величину (ибо она не так велика в сравнении с другими), сколько за изобилие поселений и плодов земных. На ней есть вице-король, королевский суд, епископ, инквизиция, множество знати и монастырей, и всё это — в многолюдном и укреплённом городе, которому древние дали имя Пальма, мы же зовём его Майорка¹.
Господь наш пожелал обогатить сей остров добродетелями и примером Алонсо при жизни и мощами его по смерти, а потому устроил так, что послушание отправило его туда, и в такой добрый час он туда прибыл, что уже не покинул его. Алонсо сошёл на берег Майорки в августе того же 1571 года и был принят немногими отцами, что жили в упомянутой коллегии, с изрядной радостью, ибо до них дошли вести о его благочестивой жизни. И он вскоре дал себя узнать по тому рвению, в коем превзошёл остальных.
Он в точности исполнял своё намерение не следовать собственной воле и для этого столь ревностно соблюдал правила и устав иноческой жизни, что менее горячим душам это казалось мелочностью. Он глубоко погрузился в самопознание, считая себя не только грешным и порочным пред Богом, но и бесполезным и никчёмным пред людьми. Этим-то и воспользовался бес, чтобы расставить ему весьма опасную сеть: он вселил в него великий страх, что его отчислят из Общества за бестолковость, внушая ему, что из-за преклонных лет и малых сил он не годен для того, ради чего был принят. Искушение укрепилось примером некоторых, кого, хотя они и имели больше сил и сноровки в телесных трудах, Общество тем не менее отчислило.
Много дней длилось сие искушение, ибо, сколь высоко ценил он своё призвание, столь же низкого мнения был о себе, а потому не смел отрицать свою негодность и не находил утешения при мысли об утрате представившейся ему было благой возможности. Терзаясь подобными сомнениями, он однажды встал на молитву и, с сокрушённым сердцем поведав Богу о своей скорби, услышал в ответ: «Алонсо, довольно того, что Я этого хочу». И вместе с тем Господь наш дал ему уразуметь, что всё дело его дальнейшего пребывания в ордене зависит от божественной воли, и пока она есть, ни настоятели его не изгонят, ни он сам не даст для того повода.
С той поры брат обрёл о том полнейший мир в душе, премного благодаря Бога и будучи совершенно уверен, что будет жить и умрёт в Обществе Иисуса. Впоследствии он с умилением рассказывал, и нашлась о том запись, сделанная его рукой, что из троих, одновременно с ним принятых на испытание, он один остался, хотя другие и были более одарены.
По прошествии двух лет, которые Общество отводит на искус своих новициев, отцы были столь же довольны духовными дарованиями и добродетелью Алонсо, сколь он сам был благодарен за милость, явленную ему Богом, призвавшим его в орден. И вот, во второе воскресенье после Пасхи 1573 года, 5 апреля, он, согласно обычаю Общества, принёс простые обеты бедности, целомудрия и вечного послушания пред лицом ректора Майоркской коллегии. Ректором в то время был отец-магистр Бартоломе Кок, о чьих талантах на том острове и поныне жива свежая память, а в летописи той коллегии содержится подробное повествование о его жизни.
Двенадцатью годами позже, на пятьдесят четвёртом году жизни, и снова 5 апреля, он принёс окончательные обеты брата-коадъютора пред лицом о. Алонсо Романа, визитатора той же коллегии. Вместе с ним обеты принёс и брат Диего Руис, его большой друг и не менее ревностный подражатель, о котором речь пойдёт в другом месте.
Здесь уместно лишь заметить, что внешние его занятия и послушания в это время были таковы: вначале он помогал при постройке церкви, сопровождал отцов и временами исполнял некоторые хозяйственные обязанности. Затем его назначили привратником и помощником ризничего. Наконец, когда число братьев возросло, за ним было оставлено одно лишь послушание привратника, которое он и нёс более тридцати лет, пока от глубокой старости его не отправили на покой.
И поскольку до самой глубокой старости течение жизни его было ровным, и тут не о чем писать, кроме как об исключительных добродетелях, кои он проявил в это время, то о них и пойдёт речь в следующих главах. И в первую очередь — о том благоговении, с которым он исполнял служение привратника, ибо это и было его главным послушанием в Обществе.
______
¹ Автор здесь, по-видимому, называет город Майоркой, по имени самого острова, хотя его историческое и современное название — Пальма.
С особым вниманием взирают в монашеских орденах на то, кому вверить ключи от врат, ибо служение сие, как замечает император Юстиниан, требует мужей жизни самой примерной. От сего-то тщания и происходит, что почти во всех летописях святых орденов мы находим имена привратников, прославленных святостью. В Обществе Иисуса таким был наш брат Алонсо Родригес, и имеено потому настоятели так много лет продержали его на этом послушании.
Исполнял он его с величайшим благоговением. Приведу здесь точнейшее описание его поступков в наставление тем, кто, наследуя ему в этом служении, захочет подражать ему в добродетели и благочестии.
В звоне колокольчика у ворот он, как и при любом другом деле, слышал как бы голос настоятеля. Услышав первый удар, он внутренне отвечал Христу, словно это Он сам его звал. Если оказывался близко, говорил: «Господи, я открою Тебе ради любви к Тебе», — и тотчас открывал. Если же находился далеко, говорил: «Сейчас, Господи, я уже иду к Тебе! Иду с великой радостью, ибо Ты повелеваешь мне и сподобляешь меня послужить Тебе, Боже мой и Господь мой».
Вначале, где бы ни заставал его первый удар колокольчика, он тут же возвращался назад, ибо ему казалось, что безукоризненное послушание обязывает его повернуть вспять, даже если он шёл передать какое-то поручение или позвать кого-либо из отцов. Так и случалось ему всякий день: раз, а то и два, и три отправляться на поиски кого-либо и столько же раз разворачиваться на полпути, чтобы отворить тем, кто снова и снова звонил в ворота. Позже, когда настоятели увидели, какие неудобства и промедление это вызывает, они точно указали ему, с какого места он должен возвращаться, чтобы открыть, а с какого — нет, когда колокольчик зазвонит в то время, как он идёт с поручением.
На листке с правилами, которые Алонсо должен был соблюдать при служении у ворот, рукою его написано следующее:
«Подойдя к двери и отведя взгляд свой от человека, представь, что это твой Бог входит; Ему-то и отворяй, Его и принимай.
И если пошлют тебя с каким-либо поручением, представь, что тебя посылает Бог, а не человек, и, как дело Божие, исполни его тотчас с радостью и любовью, что причитаются доброму нашему Господу, всегда склоняя свою волю к Его воле.
Когда исполнишь поручение и вернёшься с ответом, представь, что возвращаешь его Богу с величайшей радостью и любовью, устремляя к Нему очи души, словно говоришь с Ним, а не с человеком, и в таком настроении давай ответ.
А когда гость вознамерится уходить, знай, что отворяешь дверь не человеку, но Богу твоему, собравшемуся в путь, а потому с искреннейшей любовью и глубочайшим смирением проводи его с миром».
Многие годы предавался он этому деланию и достиг в нём такого совершенства, что едва лишь звон колокольчика касался его слуха, как душа его, минуя всякое рассуждение, тотчас устремлялась к Богу и соединялась с Ним. И он шёл отворять Ему; и хотя входил человек, очам души его являлся не человек, но Сам Бог.
Сей подвиг святого благоговения не был бы вполне безопасен, если бы не сочетался с укрощением чувств. Тем, кто несёт послушание при воротах обители, куда стекается множество народа, — а именно таковы были врата, вверенные брату Алонсо, — представляется немало случаев для такого упражнения, в особенности же, если они желают быть столь же строгими и ревностными блюстителями затвора, каким был он.
Случалось, что какие-нибудь школяры-проказники ради забавы звонили в колокольчик, дабы посмотреть, не удастся ли довести его до брани или заставить сделать шаг-другой побыстрее; и дивно было видеть, как мирно он выходил к ним и как любезно их принимал. Порою ему приходилось раз-другой обойти всю обитель в поисках какого-нибудь инока, и, найдя его, даже если тот бездельничал, блаженный привратник передавал ему поручение с той же кротостью, как если бы застал его в келье за самым неотложным делом. Алонсо с предельной точностью соблюдал распоряжения настоятелей касательно затвора, не поддаваясь человеческому лицеприятию, и если случалось, что кто-либо из насельников или посторонних досадовал на него за это, он платил ему тем, что с особым усердием молился за него Господу нашему, как то видно из следующего примера.
Подвизался в Майоркской коллегии один отец родом из Бискайи, великий труженик. Он тяжко занемог, и, видя, что жизнь его в опасности, настоятель велел всем молиться о нём Богу. Алонсо, сколь милосердный, столь и послушный, принял это повеление близко к сердцу и почти непрестанно возносил о болящем пламенные молитвы. Господь, всегда внимающий искренне взывающим, явил ему сего больного в видении, но уже как усопшего, облачённого в священнические ризы и положенного во гроб для погребения. Это видение, однако, лишь распалило в Алонсо желание вымолить жизнь для болящего, и он с новой силой предался молитве о нём.
К болящему издавна хаживал исповедоваться один благодетель коллегии, который то и дело его навещал и потому имел позволение входить в его покои. Однажды он захотел вступить в келью вместе со спутником, другом своим. Привратник заметил это и с подобающей учтивостью остановил их обоих и известил настоятеля, который велел не впускать ни того, ни другого. Узнав об этом, больной, рассудив, что его гость останется недоволен, обратил свой гнев на «щепетильность» привратника и, поддавшись своему вспыльчивому нраву и немощному расположению духа, сурово его отругал. Алонсо выслушал его со спокойным лицом и духом, но поскольку из видения он знал об опасности, грозившей отцу, то тут же дал твёрдый обет молиться о нём Богу ещё усерднее. И не довольствуясь собственной молитвой, он просил и других благочестивых людей, как в обители, так и за её стенами, соучаствовать.
И вот, когда однажды он пребывал в пламенной и горячей молитве, Бог снова явил ему больного, но уже не как новопреставленного, а раздувшегося и зловонного, будто он пролежал в могиле дня четыре, и сказал ему, что столько же дней пролежал бы тот отец в могиле в таком безобразном виде, если бы молитвы Алонсо не отвратили приговор, и что ради них даруется ему ещё несколько лет жизни, дабы венец его стал прекраснее. Вскоре обещанное исполнилось, принеся Алонсо необычайное утешение, ибо он видел, что за упрёк священника смог воздать ему даром жизни. Такова уж щедрая природа смиренного милосердия, которое за высшую утончённость почитает (по слову Златоуста) благодетельствовать тем, кто досаждает нам (Слово 58 на Быт.).
Этот замечательный пример показывает, что наш привратник не только был терпелив и в чувствах сдержан, но и милосердие оказывал при любом удобном случае. Право же, если инокам, несущим послушание у ворот, и требуется терпение, то милосердие им потребно не меньше. Алонсо же преуспевал в нём, стараясь утешать и поддерживать нищих и больных, которые приходили к вратам в поисках помощи, а когда невозможно было рассчитывать на силы человеческие, он прибегал к божественной, и Господь наш обыкновенно благоволил ему, являя чудесные свершения.
Один бедный и добродетельный студент жестоко страдал от золотухи¹, снедавшей ему горло. Он решил отправиться морем во Францию, дабы воспользоваться даром исцеления, которым, как говорят, обладает христианнейший король. Дважды всходил на корабль, и оба раза дули столь неблагоприятные ветры, что ему приходилось возвращаться в порт. Совершенно удручённый, он пришёл к воротам нашей обители и поведал брату о своём горе. Тот сжалился над ним и, возведя очи к небу и воззвав к Богу всем сердцем, сотворил крестное знамение над шеей страждущего, и он то же мгновение совершенно исцелился от своего мучительного застарелого недуга. Алонсо строжайше наказал ему хранить случившееся в тайне, но, хотя поначалу оно и не разглашалось, со временем стало известно многим из наших, и я сам помню, как слышал этот рассказ за несколько лет до его смерти.
Кристобаль Коломер, ремесленник и почитатель Алонсо, страдая от лихорадки, возжелал испить воды, освящённой его рукой, уповая, что этим средством исцелится. Он пришёл к воротам, попросил кувшин воды и умолял освятить её, дабы она не пошла ему во вред. «Помолимся, — сказал брат, — сперва прочтём пять "Отче наш" и пять "Радуйся, Мария", а затем сотворим крестное знамение». Они так и сделали, и едва больной допил, как заснул на каменной скамье у самых ворот, а пробудился почти здоровым. Он испил во второй раз и исцелился совершенно, ибо с той минуты к нему вернулось желание есть. С тем он и отправился домой и через три дня был уже в полном здравии.
Другой подобный случай произошёл с одним кондитером, который также избавился от застарелой трёхдневной лихорадки благодаря склянке с водой, освящённой Алонсо. Правда, в этот раз брат долго не уступал просьбам и, наконец, согласившись, укрылся за дверью и там, словно украдкой, трижды осенил крестным знамением воду; и стоило больному выпить её, как жар в тот же миг отступил, и через несколько дней тот был совершенно здоров. Оба этих человека пережили брата Алонсо, а потому лично свидетельствовали на процессе, начатому по этому делу Епархиальной властью, о том, что с ними произошло.
Один обедневший кавалер, которого собирались выгнать из дома за неуплату, пришёл за утешением к брату Алонсо и с просьбою помолиться о нём Господу нашему. Тот откликнулся горячим усердием, и плод молитвы не заставил себя ждать: в тот же день один богатый человек по собственному побуждению оказал кавалеру помощь, достаточную, чтобы покрыть его нужду на первое время. А затем при помощи других подобных подаяний Бог поддерживал его до тех пор, пока не было вынесено в его пользу решение по одной судебной тяжбе, благодаря чему он обрёл состояние, достаточное для достойной жизни. Он всегда признавал, что все эти милости ниспосланы ему по молитвам брата.
Охотно занимался он и с некоторыми студентами², желавшими вступить на иноческий путь, наставляя их в том, как следует поступать, чтобы преуспеть в своём намерении. Приходили к нему дети, которых он учил читать, ибо, прослышав о его святости, некоторые знатные и благочестивые особы, почитавшие Общество, просили настоятелей, чтобы те велели ему дать их сыновьям первые уроки — дабы, получив их от столь благочестивого наставника, и они сами выросли благочестивыми.
Те немногие часы, что оставались у него после всех этих занятий, он проводил в уединении в двух излюбленных им местах. Первым была комнатка, или приёмная, что находилась возле ворот; в ней было большое Распятие, перед которым наш привратник вёл нежнейшие и весьма пылкие беседы со Христом. Один чрезвычайно почтенный отец, почивший в сане провинциала Сардинии, рассказывал мне, что, будучи ещё школяром, он однажды из любопытства спрятался в этой комнатке и наблюдал, как Алонсо, войдя туда и думая, что никто его не видит, распростёрся крестом и с великими рыданиями и вздохами, с пылающим лицом, долго беседовал с Богом, пока не зазвонил колокольчик.
Другим таким местом была дверь, ведущая в церковь, через которую было видно Св. Дары. Здесь, у этой двери, он проводил долгие часы в коленопреклонённой молитве. Позже, по случаю каких-то строительных работ, эту дверь заделали, но Господь наш соизволил, чтобы в стене осталась небольшая щёлочка, через которую можно было с трудом разглядеть дарохранительницу. И диву даться, как Алонсо, скрываясь от чужих глаз, тысячу раз на дню возвращался к ней, моля Жениха явить ему лик Свой через эту щёлочку и усладить слух его сладчайшим Своим гласом.
Другие примеры добродетелей, коими сей святой освятил своё служение у ворот, мы будем приводить в главах, посвящённых каждой добродетели в отдельности. Ведь он оставил после себя у этих врат такое благоухание, такой аромат чудесный, что они и поныне дышат святостью, а ключ от двери, который он много лет носил в своих руках, после его смерти вполне обоснованно сочли реликвией и хранят с благоговением.
_____
¹ Lamparones — золотуха, или скрофулёз. В Средние века и Новое время верили, что короли Франции и Англии обладают даром исцелять эту болезнь одним своим прикосновением (т.н. «королевское чудо»).
² В оригинале — estudiantes. Речь идёт об учащихся иезуитской коллегии, многие из которых рассматривали возможность вступления в орден.
Не с меньшим благоговением совершал он и прочие внешние дела в течение дня. Когда ему приказывали выйти из обители, он сперва, по обыкновению, посещал Св. Дары и, посвящая Господу нашему этот выход, говорил:
«Умоляю Тебя, Боже мой, Господи и Спасителю мой, если суждено мне при выходе, который я совершаю по Твоему повелению, хоть чем-то оскорбить Тебя, то лиши меня жизни, прежде чем я переступлю порог этой двери, ибо нет у меня и не желаю я иной жизни, кроме Тебя, ибо Ты — всё моё бытие и вся моя жизнь».
И, возведя очи к образу Девы, что над главным алтарём церкви той коллегии, освящённой в Её честь, говорил:
«И Тебя, Владычица, Матерь Божия и моя, молю быть мне заступницей перед дражайшим Сыном Твоим, дабы Он даровал мне то, о чём я Его прошу».
Подойдя к воротам и исполнив правило — вписать своё имя и осенить себя крестным знамением со святой водой, — он выходил, произнося: «Vias tuas, Domine, demonstra mihi, et semitas tuas edoce me» (Пути Твои, Господи, укажи мне и стезям Твоим научи меня. — Пс. 24:4). На улицах он в точности соблюдал глубоко продуманные правила совершенной скромности, которые составил для себя. В них, помимо того, что содержится в наших правилах о скромности, он предписывал себе внутреннюю собранность сердца и размышление о божественном присутствии, с которым он должен был ходить по улицам, дабы уберечься от сетей, что расставляет там диавол для тех, кто ходит, не будучи столь благоговейно бдителен.
О том же благоговении и той же сосредоточенности, с коими он исполнял прочие внешние послушания, ему выпадавшие: на кухне, в трапезной и в других подобных местах, где обыкновенно трудятся наши братья, — можно судить по тому, что он сам говорит в своём дневнике, или, точнее, памятных записках. Вот его слова:
«Когда хочешь совершить какое-либо дело, как-то: прислуживать за столом, на кухне и т.д., — тебе надлежит посвящать его и возносить, как жертву, Богу, Господу нашему, в начале, в середине и в конце. В начале — дабы пробудить в себе намерение делать это из любви к Богу и во исполнение святого послушания. В середине — дабы соединить его с жизнью, трудами, смертью и заслугами Христа, Господа нашего. В конце — дабы вознести его Богу как жертву во спасение своей души, а также во исполнение той особой цели, что у тебя на сердце.
Например, если ты прислуживаешь за столом, то вначале предстань [мысленно] перед Богом и заяви намерение: «Хочу исполнить это служение исключительно из любви к Богу, чтобы доставить Ему радость и потому, что так велит святое послушание».
В середине, пока прислуживаешь, постоянно устремляй сердце своё к Богу и часто говори Ему: «Я посвящаю и соединяю сей труд мой с жизнью, Страстями, трудами, смертью и спасительными свершениями моего Господа Иисуса Христа, Твоего Единородного Сына».
По окончании же дела следует сказать с обновлённым, сугубым рвением: «Приношу Тебе, Боже мой, сей труд мой единственно во славу Твою, о спасении души моей, в помощь душам в чистилище, на обращение грешников и раскаяние еретиков».
В другом месте, говоря о том же предмете — о работе, — он пишет так:
«Всегдашней твоей заботой да будет угождать Богу и радовать Его, так что не смей делать ничего, сколь бы малым оно ни казалось, без Его соизволения. А потому на каждое слово, которое тебе предстоит сказать, на каждый взгляд, на каждый кусок, который ты собираешься съесть за столом, и на каждое движение ты должен сперва испросить позволения у Бога в сердце своём. И если, прислушиваясь к голосу совести, ты получишь его, и она не упрекнёт тебя (ср. 1 Ин. 3:21), тогда можно сказать то или иное, а иначе — нет.
Подобным же образом все дела, даже те, о которых ты знаешь, что они богоугодны, совершай с живым намерением угодить Ему и прославить Его. Наконец, так себя веди, словно ты не видишь, не слышишь, не ешь, не чувствуешь, не обоняешь, не вкушаешь и не осязаешь, но во всём ищи Бога, так, чтобы всё, что ты делаешь, происходило с Его позволения и по Его велению, а не иначе (ср. 1 Кор. 10:31)».
Так говорил брат, и как говорил, так и поступал. А благодаря этому радению о совершенствовании в повседневных и обыденных делах он и стал святым, и притом великим святым, не прибегая к иным, чрезвычайным и особым путям, которыми шли другие.
На каждый час и даже на каждую четверть часа у него были установлены особые молитвенные правила и упражнения. Начинал он их с первым ударом колокола к подъёму и не оставлял до самой ночи, продолжая во время послушаний, выпадавших ему в течение дня, и используя всякий промежуток между делами, дабы не потерять ни единого мгновения.
Помнится, я много раз замечал, что, когда нам давали знак закончить какое-либо обязательное общинное занятие — будь то час отдыха, беседа или иное подобное, — в то самое мгновение, как мы поднимались со своих мест, он тотчас принимался за свои молитвенные упражнения. То же самое он делал, входя в трапезную и выходя из неё, разворачивая салфетку, — словом, при всяком действии, когда силы его души не сосредотачивались на какой-либо работе по послушанию, он направлял их на молитву, размышление или иное душеполезное упражнение, которое было у него установлено на это время.
В конце каждого часа он уединялся, дабы, испытав свою совесть, утвердиться в чувстве Божия присутствия и возобновить подвиг в той добродетели, над которой трудился, для чего с усугубленным рвением призывал на помощь того святого, которому, согласно составленному им распределению, был посвящён этот час суток. Иноки же, чьи кельи какое-то время находилась по соседству, доподлинно свидетельствовали: всякий раз, пробуждаясь ночью, они слышали его молитву, особенно когда часы били очередной час.
Из того, что произошло с одним отцом более чем за тридцать лет до блаженной кончины брата Алонсо, станет ясно, сколь заняты были все силы его души в течение дня и сколь мало давал он им вольности отвлекаться на внешние предметы. Сей отец (который был жизни весьма примерной) на одном духовном собеседовании задал вопрос, возможно ли всегда ходить в присутствии Божием и как этого достичь. Настоятель, председательствовавший на собеседовании, отвечал, что если понимать вопрос со всей строгостью, то непрестанно пребывать в присутствии Божием — дело скорее ангелов или блаженных душ, никогда не теряющих Его из вида, нежели людей, изгнанных в сию юдоль слёз. Здесь же, на земле, возможно лишь всё совершать ради Бога, часто возобновляя это намерение и вознося сердце к Господу, ради Которого всё делается. И это можно было бы назвать постоянным хождением в божественном присутствии, не потому, что даже у созерцателей не проходит и мгновения без сознательного памятования о Боге, но потому, что трудиться ради Него с таким намерением и есть навычное памятование и чувствование Его божественного Величия.
Отец, однако, не удовлетворился этим ответом. Желая узнать, что думает об этом Алонсо, он на следующий день спросил его об этом. И поскольку то был человек, с которым брат делился делами своей души, он дружески ответил ему: — Говорить, что невозможно всегда ходить в присутствии Божием, — значит взирать лишь на силы и немощь человеческую. Но с Божией помощью и благодатью, говорю вам, это не только возможно, но и легко, и сладостно. «Обратимся же к опыту,» — сказал отец. «Скажите мне, ради самой жизни, всегда ли вы ходите в присутствии Божием? Надолго ли отвлекаетесь в течение дня?»
Здесь брат на мгновение задумался. Поразмыслив немного и рассудив, что ответ послужит к славе Божией, он с улыбкой на устах произнёс: «Пожалуй, на время, что требуется, дабы прочесть «Верую».
Ответ поверг отца в изумление, ибо он был твёрдо убеждён в невозможности подобного. Недаром один из древних духовных наставников в пустыне заметил, что для верного решения этого вопроса пригодны не столько умозрения богословских школ, сколько практика или опытное ведение молитвы и непрестанного предстояния Богу в пустынях (Кассиан, Собеседования, X). А потому созерцателям (как здесь Алонсо) легко даётся то, что умозрительным богословам и схоластам кажется трудным и даже по-человечески невозможным¹.
Среди записок брата была найдена одна, помеченная на полях значком в виде указующей руки. В ней говорилось:
«Вот неустанное упражнение, в котором тебе надлежит подвизаться пред Богом. Всегда помни и глубоко уразумей, сколь важно для тебя то, что Бог и Матерь Его, Дева Мария, неусыпно взирают на все твои помыслы, слова и дела. Ощущая их присутствие, ты будешь действовать, мыслить и говорить с той правотой и совершенством, какие подобают тому, на кого взирают столь великие Владыки. Поступай так, словно ты уже оставил эту жизнь и стоишь на суде Божием; совершай дела свои с тем совершенством, с каким желал бы явить их там, дабы премного утешить Иисуса и Марию, всегда пребывая в живой и деятельной любви к ним».
Из сих слов явствует, как стремился он совершенству, занимаясь работой, и как полно силы души его были поглощены Божественным присутствием. Вначале он прибегал к нему как бы по памяти, вспоминая, что Бог взирает на него, и так утвердился в этом, что уже не мог забыть, черпая из сего памятования забвение всего, что не было Богом или не приближало к Нему.
Затем он перешёл ко второй ступени присутствия Божия, которая есть путь разумения. Сам брат объясняет её, говоря, что это — ясное и простое ведение, коим душа познаёт, что Бог обитает и действует внутри неё. И ведение это обретается не столько путём размышления или воображаемого представления, сколько через ощутимую уверенность, которую душа испытывает в себе, — уверенность в том, что Бог пребывает в ней и повсюду. Он называет это интеллектуальным присутствием Божиим; оно обыкновенно длится долго, и чем более душа преуспевает в служении Богу, тем отчётливее ощущает Его в себе. И если порой, когда силы души сосредоточены на какой-либо работе, случается ей несколько отвлечься от Бога, то, говорит брат, происходит дивная вещь: она, сама не зная как, тотчас ощущает перед собой присутствие Бога, Который восполняет её недостаток ликованием, подобно тому как, когда перед нами внезапно предстаёт друг, которого мы нежно любим, это доставляет нам необычайную радость.
Этими средствами поставления себя в присутствие Божие брат Алонсо пользовался в то время, о котором мы говорим, то есть в пору своего служения привратником. Позже, в последние годы своей старости, он достиг иного уровня пребывания в присутствии Божием — в единении и поистине непрестанной сердечной устремлённости, ибо даже на время прочтения «Верую» не отступал от своего Возлюбленного, да и не мог бы, пускай бы и захотел, как мы увидим в своём месте.
Теперь же мы перейдём к дивным примерам добродетелей, которые он явил нам в ту же самую пору, и поговорим о каждой из главных добродетелей в отдельности, дабы всякому было легче найти то, чему он захочет подражать.
_____
¹ В оригинале — moralmente impoſſible. В схоластической теологии это выражение является термином, который означает не «безнравственно», а «практически невозможно для человеческой природы в её обычном состоянии, без особой божественной благодати».
Первое место мы отведём самообузданию, ибо в Законе Благодати ему по праву принадлежит то же место, что и обрезанию в Ветхом Завете. И начнём с обуздания внешних чувств и способностей, а среди них — со зрения, ибо от доброго или дурного управления им зависит и скромность или распущенность всех прочих.
Скажу, однако, вдобавок к тому, о чём упоминалось в предыдущих главах, что брат Алонсо отличался столь великой сдержанностью взора и скромностью, что за сорок лет в послушании привратника он ни разу не взглянул в лицо женщине. И это при том, что к вратам обители и церкви (а и те, и другие были на его попечении) в Майоркской коллегии приходит множество женщин, ибо велика там нужда в духовном окормлении. Кроме того, ему случалось порой на неделе сопровождать кого-либо из отцов, шедших со служением в гости к мирянам, а на мессе, после причастия, он подавал воду для омовения уст и мужчинам, и женщинам. И при всём этом, после тщательного расследования, допросов со стороны настоятелей и по наблюдениям тех, кто жил с ним, выяснилось, что за всё это время он не взглянул в лицо ни одной женщине.
По праву прославляет Кассиан (Установления, V, 25) другого монаха с берегов Нила, по имени Архебий, за то, что тот за пятьдесят лет не видел женского лица, даже своей родной матери, хотя та и приходила искать его в пустыне. Но тот, в конце концов, был отшельник и жил в безлюдной и дикой песчаной пустыне, а наш Алонсо совершает то же самое посреди многолюдного города, неся послушание привратника, столь располагающее к общению. Редкая скромность и исключительное доказательство той постоянной осмотрительности, с какой он действовал, и того присутствия Божия, в котором он пребывал!
Помогло ему в этом наставление, которое он получил от Девы, нашей Владычицы. Случилось брату сопровождать одного из отцов-проповедников, и, проходя по улице, он случайно поднял взор к окну мезонина, в котором стояла женщина. Это не было действие намеренное, связанное с любопытством или с желанием рассмотреть, что там в окне; то был лишь невольный взгляд, брошенный вверх, так что он увидел лишь неясный силуэт, не разобрав ни лица, ни чего-либо иного — поэтому, когда настало время испытания совести, которое мы совершаем дважды в день, Алонсо не счёл этот поступок греховным. Но ему явилась Дева и спросила, как мог он не обратить на это внимания. Она велела ему впредь не давать глазам больше воли, чем требуется, чтобы видеть, куда он идёт, и что так он избежит опасности увидеть то, что ему не подобает.
Брат уразумел свою провинность, которая состояла в том, что он без нужды поднял взор, не соблюл осмотрительность и потерял деятельное памятование о Боге, с которым обыкновенно исполнял свою работу. И, горько оплакав сие, он так пишет об этом случае в одной из своих записок для испытания совести: «Да уразумеют рабы Божии, с каким внимательным попечением должны они бодрствовать над собой, дабы не прогневать Господа». Подобный случай можно найти и в житии св. Екатерины Сиенской, где рассказывается, как Дева и святой Павел сделали ей выговор за то, что она однажды слегка приподняла взор.
Сохранить же эту великую скромность брату помогали строгость и суровость, с какими он обращался с собой, немедля наказывая себя за малейший намёк на вину или оплошность. Однажды, нечаянно бросив взгляд на окно дома, стоявшего на другой стороне, он, как ему показалось, увидел женский силуэт; окно было так далеко, что разглядеть что-либо он не мог. Но эту оплошность, показавшуюся ему достойной величайшей кары, он искупал многолетним покаянием: всякий раз, проходя мимо того места, он подходил к стоявшему поблизости Распятию, с силой рвал на себе волосы и истязал себя, осыпая бранью. С такой заботой наказывал он мятежную плоть свою и с таким упорством держался раз принятого решения.
И он воздерживался не только от взгляда на женщин, как от самого опасного, но и от созерцания прочих любопытных или суетных вещей, которых порой достаточно, как говорит св. Дорофей (Поучение 21), чтобы похитить у души её сокровища. За всё то долгое время, что он провёл в Майоркской коллегии, хотя и представлялось множество случаев увидеть нечто зрелищное и необычное, на что обыкновенно все стекаются, не известно примера, чтобы он по своей воле пошёл хоть раз на что-либо из этого взглянуть или хотя бы выказал такое желание.
Устраивались различные смотры и парады городских рот и кавалерии, охранявшей королевство; на поле выходило по шесть и по восемь тысяч человек из-за угрозы от турецкого флота. В порт входили блистательные эскадры и даже королевские армады всевозможных судов, на одной из которых самолично прибыл сеньор дон Хуан Австрийский. Со смотровых площадок или террас нашей коллегии можно было созерцать немалую часть всего того, что происходит при подобных событиях. Прочие иноки выходили туда, Алонсо же не покидал своего уголка у ворот, и никто не знает, чтобы он хоть шаг сделал или поднялся по лестнице ради такого зрелища.
Наши студенты представляли множество комедий на священные сюжеты, с великолепными декорациями, в разнообразных живописных костюмах. На площади перед нашей церковью устраивались захватывающие дух фейерверки, ночные шествия с факелами, танцы и прочие праздничные увеселения. И хотя привратнику было бы легко и вполне дозволительно насладиться всем этим, ибо все сии действа предназначалось к служению Божию и к чести святых, никто не помнит, чтобы он хоть на что-нибудь из этого обратил свой взор.
Новые городские укрепления были постройкой весьма примечательной, начатой в его время, и трудилось на ней изрядное множество мастеров и подёнщиков, сносивших старые здания и возводивших новые стены, бастионы и великолепные ворота, — на что с любопытством взирали и местные жители, и чужестранцы, — но Алонсо никогда не останавливался, чтобы посмотреть на них, и не обращал на них большего внимания, чем если бы ничего и не происходило.
Если же настоятели порой посылали его за город, в поле или в сад коллегии, то и такой день становился для его глаз не отдыхом и развлечением, но непрестанным упражнением в самообуздании, ибо он с великим рвением старался лишить их того, что им было всего приятнее. И столь мало жаждал он подобных выходов, что за сорок лет, как помнят, он лишь единожды попросил отпустить его за город, и то, как выяснилось, ради духовной пользы одного брата, который поверял ему тайны души своей.
Что же до слуха, то не с меньшим тщанием он обуздывал и его. В дни главных праздников, во время октавы Тела Христова, на Карнавале и в прочих случаях, когда в нашей церкви звучала изысканная музыка, он мысленно уносился к хвалам, которые святые возносят Богу в небесной славе, и так погружался в сие созерцание, что, как он сам признавался, от здешней музыки до него доносился лишь слабый звук, словно издалека. И если он столь совершенным образом обуздывал свой слух при этом, то легко можно представить, как он поступал в отношении вещей безразличных или непозволительных и сколь мало внимания уделял любопытным новостям и суетным мирским слухам, и уж тем более лести или пересудам.
Он ни за что не допускал, чтобы в его присутствии говорили о чьих-либо нравственных или телесных недостатках; и если говоривший был человеком менее значительным, он прямо увещевал его. В беседах же своих он говорил лишь о вещах духовных и святых; если же собеседники заводили иной разговор, он тотчас засыпал. Это было замечено всеми, особенно же новициями и молодёжью, во время «отдыха» (так мы в Обществе называем отдохновение после трапезы), на котором он долгое время председательствовал. Братья, видя, что председатель дремлет, обыкновенно начинали рассказывать какой-нибудь назидательный пример или говорить о какой-либо добродетели, и он тотчас пробуждался. Стоило же им, желая его испытать, переменить тему и завести разговор о вещах безразличных, как он снова засыпал, в точности как Кассиан рассказывает о святом авве Махеcии (Кассиан, Установления, V, 39).
Самой привычной и излюбленной темой его бесед были «последние вещи»¹, о которых он говорил с особым вниманием и чувством. Однажды, в день Обрезания Господня, нас почтил своим присутствием в трапезной светлейший сеньор дон Карлос Колома, бывший в ту пору вице-королём Майорки. После трапезы он оказал нам честь, оставшись на час отдыха. Брат Алонсо сидел почти последним (ибо это было его обычное место) с видом человека, погружённого в глубокое созерцание, в каком он пребывал почти всегда. Вице-король не сводил с него глаз и, видя, что прошло уже много времени, а он не проронил ни слова, попросил его сказать что-нибудь и обратился к настоятелю, чтобы тот отдал ему соответствующее распоряжение.
Настоятель так и сделал, и Алонсо, повинуясь, начал говорить о «последних вещах» с таким рвением, так красноречиво и веско, что мы, переглядываясь, не знали, что и думать. Речь его длилась довольно долго, а когда он закончил, вице-король, до того сидевший словно в оцепенении, обернулся к нам и со свойственным ему изяществом и остроумием произнёс: «Так вот какой десерт вы приберегли для меня, отцы?»
Он намекал на то, что беседа, будучи послетрапезной, зашла о «последних вещах»². Ибо древние египтяне, как повествует Геродот (История, II, 78), на пирах своих носили перед гостями изображение мертвеца. А император Домициан, как свидетельствует Дион Кассий, на погребальных пирах, звавшихся silicernia, приказал, чтобы гостей, возлежащих в отдельных саркофагах, разносили по домам (Дион Кассий у Радера; Марциал, Эпиграммы, II, 78). В любое время весьма важно помнить об этом, и потому сей раб Божий обыкновенно говорил на эту тему с любым человеком, в любое время, но особенно — во время часов отдыха.
За слухом следуют обыкновения при трапезе, где примечательны примеры обуздания вкуса, которые явил нам брат Алонсо. Он установил для себя, ради вящей осторожности, несколько предписаний, или правил, касающихся еды, которые и соблюдал нерушимо всю свою жизнь. Вот они:
«Первое. Если у тебя отнимают то, что тебе по вкусу, воля Божия в том, чтобы ты, превозмогая себя, смолчал из любви к Нему и не подал вида. Если же тебе дают то, чего ты не желаешь, то снова же воля Господня в том, чтобы ты, не подавая вида, молча принял это.
Второе. Соблюдай величайшую скромность, как тот, кто предстоит Самому Богу и вкушает пищу перед лицом Его, стараясь, скорее услужить Ему [нежели самому насытиться].
Третье. Если тебе чего-нибудь недостаёт, молчи и будь как немой. Но если недостаёт чего-то твоему соседу, тотчас сообщи прислуживающему, ибо так велит Устав.
Четвёртое. Не разворачивай салфетки, пока этого не сделает твой сосед, и не будь первым ни в еде, ни в питье.
Пятое. Ешь спокойно, маленькими кусочками, неспешно, занимая ум более Богом, нежели пищею.
Шестое. Из того, что подадут тебе за столом, всегда оставляй немного, и притом самое лучшее, отборное и то, что доставляет тебе наибольшее удовольствие.
Седьмое. Ни в какое блюдо не добавляй соли, ибо она служит лишь для услаждения вкуса, а это не имеет значения.
Восьмое. Прекращай есть, как только кто-нибудь сложит свою салфетку. Никогда не будь последним, сколько бы еды ни оставалось — ограничивай себя».
Соблюдать сии правила ему помогали особые молитвословия и самопринуждения к добродетели, коими он предварял каждую трапезу; благодаря им он обрёл лёгкость в этом делании и достиг совершенного обуздания вкуса, равно как и прочих чувств.
Когда он состарился и занемог, ему обыкновенно давали на ужин несколько яиц. Как то водится в общинах, при этом порой случались оплошности, которыми ревностный брат пользовался для упражнения в самообуздании. Однажды вечером ему принесли яйца сырыми. Повар, спохватившись, поспешил в трапезную, дабы помешать аскетическому упражнению, на которое, как он знал, пойдёт Алонсо. Но когда он прибежал, одно яйцо уже было проглочено, а второе вот-вот могла постичь та же участь. Повар выхватил его из рук брата, оставив тому лишь заслугу доброго намерения.
В другой раз один брат взялся самолично проследить, чтобы яйца были свежими. Он сам пошёл в курятник и принёс несколько штук. Их подали Алонсо, но они оказались столь испорчены, что когда он разбил первое, зловоние распространилось по всей трапезной. Святой брат поспешил проглотить его и сделал бы то же со вторым, но милосердие сидевших рядом оказалось сильнее: они поспешно отняли у него яйцо.
Но в другом случае он всех опередил, как то видно из примера с тыквами, подобными диким колоквинтам сынов пророческих (Вульг. 4 Цар. 4:39-41).
Заведовал кухней в коллегии один брат, более набожный, нежели опытный в своём деле. Было лето, и поскольку в монастырском саду уродилось множество тыкв, он обыкновенно тушил их с мясом. Случается порой, что среди хороших плодов попадаются и горькие, как полынь. Наш повар однажды наткнулся на несколько таких и, не заметив, приготовил из них похлёбку. Он не попробовал её, как следовало бы, и так она попала на стол. Брат Алонсо, который из скромности и по старости лет обыкновенно не притрагивался к еде раньше других, в тот день отложил в сторону фрукт, что лежал перед ним, и, взяв свою миску, принялся есть тыкву, не выказывая ни малейшего неудовольствия, но, напротив, с особым рвением и усердием.
«Я ел, — пишет отец Матео Маримон, духовник Алонсо, в составленном им жизнеописании, — в тот день рядом с настоятелем и ,едва поднёс ко рту первую ложку тыквы, как вынужден был выплюнуть её и с великим отвращением произнёс: Mors est in olla (Смерть в котле)!»
Настоятель, поняв в чём дело, первым делом велел забрать у брата Алонсо тыквенное кушанье. Поспешили исполнить, но поздно, ибо в миске его оставалось всего несколько ложек. Прочие же иноки не могли съесть ни кусочка ни тыквы, ни мяса, что было с нею сварено, хотя благочестивый повар и приложил немало усилий, чтобы спасти кушанье. В конце концов, всё оказалось на помойке, ибо даже кошка и собака не осмелились притронуться к тому, что Алонсо съел с таким рвением.
Дорого же обошёлся ему этот подвиг: едва он вышел из трапезной, как его начало рвать, а затем вспыхнула лихорадка с сильными болями в желудке, которые мучили его много дней. И ещё долгие годы один лишь запах тыквы вызывал у него тошноту, но он, тем не менее, ел её и радовался, когда ему её подавали, пока, наконец, от привычки не прошла та естественная неприязнь, что осталась у него, и он стал есть тыкву если не с удовольствием, то по крайней мере без отвращения.
Не довольствуясь обузданием вкуса горькими яствами, сей истинный гонитель чревоугодия изыскал способ не наслаждаться и сладким. Для сего, когда ему случалось по послушанию вкушать какое-либо лакомство, он представлял себе нечто отвратное, покуда то не вызывало в нем омерзения, и он переставал ощущать вкус того, что ел. При иных же обстоятельствах, и так бывало чаще всего в старости, он старался всецело погрузиться в размышление о божественном, доколе чувства его не замирали, и он уже не воспринимал вкуса того, что жевал. Сей способ, как пишет Кассиан в своей книге об обуздании гортани, и есть самое действенное средство для победы над её усладами.
Из обычных блюд он всегда оставлял лучшее, не употреблял никаких соусов или приправ, даже соли и уксуса, если только их не добавляли в кушанье на кухне. Первое время по прибытии на Майорку он ел апельсины, коих в том краю много, и весьма изысканных, а потому их в изобилии подают к столу. Однажды некий отец сказал ему, что они могут ему повредить. Брат же, восприняв это наставление в ином смысле, рассудил, что ему повредит потакать своему вкусу, и воспринял это так близко к сердцу, что на всю оставшуюся жизнь отказался от них.
Сию столь непрестанную и жестокую войну, которую он вёл со своим вкусом, Господь наш вознаградил особыми милостями, явленными ему за трапезой. Он сам признаётся в этом в одной из записок, в которых давал отчёт о своей совести, следующими словами:
«Столь велики дары и посещения, которые эта душа обретает за трапезой от Бога и Его Матери, что их и невозможно как следует описать. Часто ей приходится прерывать еду. За трапезой она почти уподобилась человеку, отрешённому от себя и всецело пребывающему в Боге. Она забыла о вкусах и пристрастиях к яствам. Ест лишь по необходимости, а не ради удовольствия, и т.д.»
Все мы, жившие рядом с ним, свидетели тому, что много раз во время еды слёзы текли у него ручьями, хотя он и старался скрыть их, часто утираясь платком. А прерывал он трапезу столь явно, что много раз настоятелю приходилось через прислуживающих передавать ему повеление есть.
Однажды, когда он ел гроздь винограда, ему в горло попала плохо разжёванная ягода, перекрыв дыхание. Как он ни силился, он не мог её вытолкнуть. Он оказался в той же опасности, что и Софокл с Анакреонтом, о которых говорят, что они умерли от подобного несчастного случая (Лукиан о Софокле; Валерий Максим об Анакреонте). Осознав опасность, он всем сердцем воззвал к небесной помощи, умоляя о заступничестве Деву, нашу Владычицу. И Она столь скоро пришла ему на помощь, что в то же мгновение он не только избавился от опасности для телесного своего существования, но и исполнился великой сладости и духовных даров, что помогло ему понять: чего бы он ни попросил у сей державной Владычицы, всё ему будет даровано.
В другой раз, также за трапезой, с нежностью беседуя с Ней, он с пламенным чувством произнёс: — О Владычица! Кто бы сподобил меня узреть тебя там, на небесах! - и он услышал в ответ глас, омывший его светом и утешением: «Увидишь меня, не сомневайся».
Так Господь наш чрез Матерь Свою одарял сего раба Своего в награду за те услады, которых он лишал себя за трапезой.
_____
¹ Las postrimerías (исп.) — богословский термин, обозначающий четыре «последние вещи»: смерть, суд, ад и рай.
² Игра слов, построенная на созвучии испанских слов postre («десерт», «последнее блюдо») и postrimerías («последние вещи»).
Тысячами других способов обуздывал и укрощал себя ревностный Алонсо. Велико было отвращение, которое он питал к себе, и равно было тому старание, с коим он себя мучил. В начале своего обращения он, побуждаемый рвением, предавался некоторым излишествам, нося власяницу, бичуя себя, постясь и совершая иные внешние покаянные подвиги. После вступления в орден настоятели положили тому предел, повелев ему не совершать покаянных подвигов без их позволения. В соответствии с этим он каждый первый день месяца приходил к настоятелю со списком публичных и тайных покаяний, которые намеревался совершить в течение месяца. И просил он о стольких, что если бы ему дозволили все, он, без сомнения, прожил бы очень недолго. Настоятели умеряли их, сообразуясь с правилами доброго руководства и благоразумия, а брат распределял дозволенное ему так, что ни один день не проходил у него без особого покаянного подвига. За сорок шесть лет он ни на один месяц не оставил этого усердия.
Когда же, будучи болен, он не мог прийти лично, то посылал брата-больничника, чтобы тот испросил для него покаяний, и исполнял их в постели с таким упорством, что за несколько месяцев до смерти, будучи восьмидесяти шести лет от роду и пребывая в такой немощи и слабости, что едва мог сесть на постели, чтобы причаститься, он совершал по три самобичевания в неделю, да при этом просил настоятеля заменить его бич на другой, пожёстче, и жаловался на руки, что не слушались его и не давали ему бичевать себя с той силой, с какой он желал. Брат-больничник свидетельствовал, что много раз слышал его в это время и что бичевал он себя с такой жестокостью, что тот счёл себя обязанным доложить о том настоятелю, дабы тот это прекратил.
То же самое касалось и постов, ибо не было ни одного кануна праздника Пресвятой Девы, нашей Владычицы, ни одной установленной Церковью вигилии, на которую он не послал бы испросить позволения поститься. А если он мог прийти лично и изложить свою просьбу, то приводил в её защиту такие доводы, что настоятели часто бывали обезоружены и не находили в себе сил отказать ему.
Будучи здоров, он весьма часто спал на доске. Когда же в старости и немощи ему запретили этот подвиг, он несколько раз вымолил это право у Господа нашего, как то видно из двух случаев, которые я здесь приведу.
Однажды в нашу церковь пришёл проповедовать преосвященный владыка Алонсо Ласо Седеньо, бывший архиепископ Кальяри, а в ту пору епископ Майорки. Дабы обустроить ему уголок для отдыха, где он мог бы снять облачение, взяли тюфячок брата (ибо, хотя гость и был столь высокого сана, лучшего убранства в коллегии не нашлось). Ночью брату забыли вернуть тюфяк, и он, весьма довольный, лёг на голые доски с куда большим удовольствием, чем если бы у него была самая роскошная перина. Случилось это в то время, когда он сильно страдал от простуды. Озабоченный этим, министр¹ коллегии пришёл навестить его уже много позднее, после отбоя, и спросил его, отчего он так улёгся? Тот отвечал: «Очень хорошо, отче, слава Господу, это неважно, мне так весьма по нраву». И он, конечно, так бы и остался, если бы отец по своему милосердию не исправил эту оплошность.
В другой раз, когда он также был нездоров, ему велели не стелить себе постель самому. Тот, кто должен был о нём позаботиться, забыл это сделать, и послушный брат, дабы не нарушить послушания, не стал стелить тюфяк и, ухватившись за желанный случай, лёг на доски. Он провёл на них всю ночь, которая была весьма холодной, а наутро его нашли почти окоченевшим, но в таком светлом расположении духа, что он сам подбадривал брата-больничника, который сокрушался, видя его в таком состоянии.
Можно полагать, что и другие подобные случаи происходили в течение долгих лет его старости и немощей, ведь при всей заботливости братии, когда недуги длятся долго, подобные упущения неизбежны. И Бог попускает это Своим избранным для упражнения, а Алонсо попускал — в утешение ему, ибо блаженный радовался возможности восполнять таким образом свои покаянные подвиги.
К добровольным и записанным покаянным подвигам он добавлял и другие, не требующие дозволения, но не менее дивные, трудные и похвальные, как то увидит всякий, кто сам их испытывал. Он не отгонял от себя ни мух, ни комаров, ни блох, ни прочую нечисть, сотворённую Богом человеку на упражнение, если только благопристойность и иноческое достоинство не обязывали его к тому. Из двух путей, ведущих в трапезную, он всегда выбирал тот, что не был укрыт от непогоды. Когда у источника перед трапезной из двух водостоков один был исправен, а другой подавал воду с трудом, было замечено, что он всегда выбирал неисправный.
В холодное время он не прятал в рукава рук, хотя они постоянно у него трескались от стужи, не подходил к очагу и не отогревался на солнце, а в летнее время не обнажался, чтобы охладиться. Он никогда не говорил о погоде, чтобы на неё пожаловаться. Если его спрашивали: «Как вам, брат, в такой-то холод или в такую-то жару?», он отвечал: «Это ничто. Вот в чистилище — поистине жара, а в аду — нестерпимые стужа и лёд. Да избавит нас от них Господь».
Сидя, он находил способы умерщвлять плоть; стоя — то же самое. Сидя на стуле, он изыскивал, чем бы себя удручить, и устраивался так, что казалось, будто сжался для самоистязания, а не сидит для отдыха; никогда не прислонялся к спинке стула, никогда не опирался на подлокотники. Я сам видел несколько раз, как он (полагая, что делает это достаточно незаметно) держал одну ногу на весу, опираясь на другую. А следует заметить, что обе ноги у него сильно опухали и были покрыты язвами; недуг этот мучил его много лет и причинял ему тяжкие страдания, и неизвестно, отчего он произошёл, впрочем, скорее, следует считать его особой милостью, которую явил ему Господь наш, дабы дать ему возможность стяжать заслуги на его послушании привратника, требовавшем много ходить. И порой он чувствовал такую боль, словно ему в ступни впивались шипы.
Столь много способов удручать себя находил он в еде, одежде, жилище и обыденных делах, что, казалось, ни о чём ином он не думал и не помышлял, подобно тому как человек, люто ненавидящий врага своего, не думает ни о чём, кроме как досадить ему. Так и он поступал со своей плотью, что следует из примечательных слов, которые он оставил в одной из своих исповедей, или, точнее, письменных откровений помыслов [перед духовником].
«Одно из моих величайших тайных покаянных деланий, — пишет он, — заключается в том, что, когда Бог дарует мне познать себя самого, я вижу себя зловонным, порочным и мерзким и как такового ненавижу себя, так что от чистой ненависти и отвращения, которые к себе питаю, аж не хотел бы ни видеть, ни слышать себя. И если бы я мог убежать от плоти моей, этого злейшего врага, и удалиться от неё в дальние земли, я бы сделал это, чтобы не видеть и не знать её, и это было бы для меня великим утешением. В миру, если у кого есть враг, который его преследует, он старается оставить его и уехать в чужие края, и тогда обретает покой и уверенность, что не потерпит вреда. Я же не могу так поступить и оставить этого смертельного врага — плоть мою, и потому страдания, которые она мне причиняет, весьма велики».
Слова поистине дивные, которые достаточно свидетельствуют о святой ненависти, какую питал к себе сей раб Божий, и о том, как он был вечным палачом самому себе.
Публичные покаяния в трапезной были у него ежедневными. Покуда он был здоров, не проходило и дня, чтобы он не совершил какого-либо из них. Уже в глубокой старости, будучи столь измождён недугами, что едва держался на ногах, он испрашивал у настоятелей как великой милости позволения спуститься в трапезную, дабы объявить о своих проступках, облобызать ноги отцам и братьям и совершить другие подвиги смирения, но ему повелели целовать ноги лишь одному брату за каждой трапезой, ибо ему с великим трудом давалось это движение, а когда он простирался на полу крестом, то лежать ему так дозволялось лишь недолгое время — и с глубоким благоговением взирали братья на слёзы, с которыми он совершал это, пока кто-нибудь от имени настоятеля не подходил поднять его, ибо сам он подняться уже не мог. Он горячо желал, чтобы в Обществе сохранялся в полной силе тот дух ревностного покаяния, который он в нём застал, и потому с такой точностью исполнял эти подвиги.
Не меньшее доказательство христианского самообуздания — принимать с терпением и радостью, как покаянный труд, те невзгоды, что приходят к нам от чужой руки, нежели возлагать их на себя по своей воле; и даже большее, ибо требует оно величайшего смирения, терпения и кротости. Так вот нашему брату как мужу, ясно просиявшему этими добродетелями, не недоставало случаев, при которых он мог бы явить нам тому пример. Некоторые из них уже были приведены, некоторых черёд придёт при подобающем поводе. Здесь же я расскажу об одном случае, достойном особого упоминания.
Среди прочих цирюльников, приходивших потрудиться в Майоркскую коллегию, был один юнец, развязный и беспокойный. Когда ему впервые довелось брить Алонсо, он, заметив его скромность и глубокую молитвенную сосредоточенность, возымел желание испытать, не выкажет ли тот хоть малейшего нетерпения или досады. С этой целью он несколько раз уколол его и дёрнул за волосы, но, как ни старался, не смог тогда добиться своего.
С тех пор всякий раз, когда наступал день бритья, этот юнец во исполнение своего диавольского помысла старался, чтобы святой старец достался именно ему, прося товарищей уступить. Чего он только не вытворял с бедным братом! Товарищи замечали это, и один из них, надо полагать, более сострадательный, укорял его, но тот оправдывался, говоря, что страдалец, верно, ничего не чувствует, ибо не выказывает большей досады, чем если бы был мёртв.
И хотя один из цирюльников, что был более благочестив, горел желанием услужить Алонсо, дабы избавить его от рук жестокого товарища, по дивному попущению Господню всегда выходило так, что, когда подходила очередь святого, мучитель его неизменно оказывался свободен. И Алонсо вверял себя в его руки с великой радостью и духовным веселием, с непобедимым терпением сносил муки всё то время, что безрассудный юноша испытывал его, издеваясь над его головой и лицом. А когда тот заканчивал, Алонсо с глубоким поклоном и улыбкой на устах прощался с ним и шёл почтить Св. Дары.
Так продолжалось долгое время, и никто в обители не замечал подвоха, чтобы положить тому конец, ибо хотя и видели доброго Алонсо всего в царапинах, но думали, что бритва цепляется за многочисленные морщины, которыми от старости и худобы было изрезано его лицо. Прекратил же это Сам Бог, попустив, чтобы в одной драке этому юнцу так ранили правую руку, которой он уязвлял святого, что она осталась изувеченной. А позже, когда он перебрался в Италию, не чувствуя себя в безопасности на Майорке, то ввязался в другую ссору, в которой и был, несчастный, заколот кинжалами, в наказание, без сомнения, за свою безрассудную дерзость.
Не недоставало ему и случаев для упражнения в самообуздании и терпении при общении с братьями по обители; это одно из тех благ общинной жизни, которым наслаждаются даже те, кто по своему смирению и кротости не даёт никому повода для упрёка. Поскольку наш брат исполнял свои обязанности и правила с величайшей точностью и пунктуальностью, не допуская ни придирок, ни лицеприятия, некоторые, кто менее навык к сдержанности, порой находили здесь повод, чтобы его испытать. Он же принимал это не только терпеливо, но с радостью и веселием.
И Господь наш вознаградил его за это совершенно особой милостью. Однажды он, предстоя Богу, самоотверженно, как истинно обуздавший себя подвижник, молил Его даровать ему радость в страданиях и великую любовь к человеку, который в ту пору — по доброй, надо полагать, ревности — его унижал и преследовал. И вот, когда молитва его достигла предельного напряжения, на него внезапно низвергся луч света, подобный огненной комете, какие порой видны ночью падающими с неба. Луч этот пронзил ему сердце, и с той поры он воспылал такой жалостью и любовью к ближнему, что ему казалось невозможным желать зла кому-либо, какие бы обиды тот ему ни причинял. Более того, ему ясно представлялось, что если бы кто-нибудь и лишил его жизни позорнейшим образом, а он потом воскрес, то не смог бы питать к нему злобы, но, напротив, желал бы ему всяческих благодеяний и с искренним усердием старался бы их оказать.
Вот верный знак его незыблемого, всесовершенного самообуздания и благодать, вполне его достойная.
____
¹ Министр — в иезуитских коллегиях того времени — должность, соответствующая помощнику ректора по хозяйственным и административным вопросам.
Смиреннейший Алонсо, наставленный Божественным Учителем, Который в Евангелии Своём говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29), различает в одной из своих рукописей два рода смирения: смирение познания и смирение сердца, или чувства. Последнее, говорит он, заключается в воле и в делах, а первое — в разуме, и есть та высокая премудрость, коей святые познают собственную малость, как в порядке естественном, так и в нравственном, и умеют отличать то, что принадлежит им самим, от того, что даровано Богом.
Начнём же с первого, которое есть основание второго. Брат наш обладал им в высочайшей степени. Послушаем, что он сам говорит о себе:
«Главное моё упражнение — это ходить, всецело погружённым и затворённым в чертоге самопознания, откуда я и черпаю знание о себе, почитая и видя себя тем, что я есмь — совершенно ничтожным и порочным. Я так погружён в самопознание, как если бы кто выплыл в открытое море или оказался посреди залива, окружённый на много лиг водою, не видя ничего иного вокруг, и не мог бы объять её, ибо она безмерна. Так и я вижу себя в глубине сего моря самопознания, погружённым без всякого рассуждения в бездну моих низостей и грехов».
Отсюда и проистекало то, что он видел себя как труп, кишащий червями, и как злокачественную язву. А дабы оживить это размышление, Господь наш, возводя его от смирения познания к смирению сердца и дел, за десять лет до его кончины, во время долгой простуды, попустил ему на протяжении многих дней явственно ощущать от себя тлетворный дух, из-за которого он сам себя сносить не мог. И дивился Алонсо, как кто-либо находит силы приближаться к нему, и ходил в великом смущении пред Богом и людьми, хотя один лишь он и ощущал это зловоние. Напротив, один весьма почтенный человек, общавшийся с ним несколько лет спустя и имевший обыкновение порой брать его руку для поцелуя, свидетельствовал, что от него исходило некое сладостное благоухание, подобное дыханию малого дитяти.
Однажды, читая в духовной книге о самопрезрении и самопознании, он пришёл в исступление. Внешние чувства его замерли, тогда как чувства души, напротив, были весьма живы и бодрствовали, вбирая милости, которые явил ему свыше Бог. Милости эти, по его словам, были столь велики, что если бы Сам Дарующий не укреплял его Своей могучей дланью, он бы лишился чувств от радости и блаженства. Он воспламенился великой любовью к Богу, а с любовью возросло и смирение, и от этого небесного посещения в нём осталось глубокое познание себя и к себе самому презрение, как то видно из пояснений, которые он добавляет к повествованию об этом случае, написанному для настоятеля:
«Эта совершенная любовь, — говорит он, — совершает в душе то, что она приходит к подлинному познанию себя в истине, и живёт в нём как бы мёртвая для мира, и для всех вещей, и для себя самой вместе с ними. Тогда она зрит себя ничтожеством, источающим зловоние; ей мнится, будто смрад её наполняет весь мир, а все видят в ней лишь сосуд беззаконий и греха. Если кто-то оказывает ей честь, она почитает это за истинное бесчестие и насмешку над собой. Так истинная любовь Божия, обитающая в душе, даёт ей видеть её недостатки (как солнце — пылинки в воздухе) и познавать Бога и себя самое единым взором».
А в другом месте он добавляет:
«Душа ходит в таком омерзении к себе, что с великим трудом едва может сносить себя от отвращения, видя себя столь дурной и зловонной. Она хотела бы быть в подчинении у самого дурного человека в мире, лишь бы ему повиноваться. Она словно изумлена, что её почитают за добрую. Она стыдиться показываться на люди из-за того, что столь порочна. Сие недовольство собой приводит к тому, что всё в мире вызывает в ней отвращение, и, утратив охоту есть, она презирает все [кушанья и пития], а потому ни в чём не находит ни удовольствия, ни отдохновения. Единственная её услада и радость — это Иисус и Мария и общение с Ними во всех свершениях».
Он считал себя худшим грешником в мире и, хотя получил откровение о своём спасении и о том, что не войдёт в чистилище, постоянно и с великой горечью оплакивал свои грехи, не постигая умом, как может кто-либо желать его общества — общества создания столь нечистого и низкого.
Он обыкновенно говорил, что когда переворачивают сосуд, полный испорченного и протухшего вина, он издаёт зловоние, невыносимое для всех, кто оказывается рядом. Так же, по его словам, происходит и с рабами Божиими, которые, получив свыше свет, познают себя и видят, чего они стоят на самом деле. Созерцая свои низости, они не отводят от них взора, почитая себя нечистыми сосудами, полными осадка своих грехов и немощей, и смрад этот терзает их. Если же случается, что кто-либо их хвалит, это подобно тому, как если бы снова взболтали осадок, и те, кто и прежде дурно пах, теперь становятся вовсе невыносимы. Оттого-то и сгорают они от стыда, ибо хорошо знают, кто они, и что Бог, от Которого ничто не сокрыто, знает, чего они заслуживают. А потому сама хвала, которая, казалось бы, должна вызывать радость, причиняет им скорбь и страдание, и чувство это, не вмещаясь внутри, проступает на лице и выдаёт себя движениями и жестами.
Он считал себя недостойным любого посещения свыше и небесной милости, а потому избегал их, словно то были искушения или козни диавольские. Если в молитве он замечал, что его сладчайшая Любовь желает сообщить ему нечто через явление, видение, откровение или внутренний голос, он старался уклониться от этого, с благоговейным трепетом убегая от Бога ради Бога. Это и породило тот дивный поединок, о котором мы уже говорили в другом месте: Алонсо бежал от посещений и даров, а Христос являл ему ещё большие. Дошло до того, что он возненавидел эти милости, а когда они нисходили на него, то сколь бы верные признаки благого духа ни несли они в себе, он видел в них скорее повод к терпению и смирению, нежели предмет для радости — из-за страха впасть в заблуждение.
И хотя может показаться, что, раз уж дело дошло до того, что он обращал божественные восхищения и дары в повод для смирения и труда, то ему нечего было бояться, однако для вящей уверенности он долгое время желал, чтобы на него обрушилась какая-нибудь буря и гонение и чтобы его публично наказали как обманутого мечтателя. Алонсо много раз просил об этом Господа нашего, полагая, что тогда дух его совершенно освободится от боязни преткнуться, с которой он принимал дары Божии, и хотя не стяжал просимого, всё же навлёк на себя некоторое уничижение в соответствии со своим желанием.
Когда один настоятель Арагонской провинции прибыл с визитом в Майоркскую коллегию, он счёл, что некоторые, излишне увлекаясь благочестием, почитают вещи Алонсо за реликвии ещё при его жизни, причём говорил он об этом с общиной в отсутствие блаженного брата, после чего отдал необходимые распоряжения. Затем он позвал Алонсо и в присутствии всех велел укоротить его сутану, которую, хоть тот и противился изо всех сил, незадолго до того велел ему носить другой настоятель. Он потребовал у него все его бумаги и приказал впредь ничего не писать и не брать в руки пера ни для чего, кроме того, что он укажет ректору коллегии.
На всё это смиренный брат взирал с удивительным спокойствием, более того, с радостным и светлым лицом, что ясно говорило о том утешении, которое он чувствовал в душе от этого испытания. Могу лично свидетельствовать, что старания провинциала воспрепятствовать почитанию вещей Алонсо как реликвий оказались тщетны, ибо не успел он отдать приказ, как уже нашлись те, кто украдкой подобрал обрезки сутаны.
Не только почестей небесных считал он себя недостойным, но и малейшей тени уважения и почёта на земле. Некоторые кавалеры и знатные особы, наслышанные о его святости, просили у него руку для поцелуя. Он заметно огорчался, отказывал, а если настаивали, причиняли тем ему великую скорбь. Когда же он не мог более противиться, то становился на колени перед тем, кто просил у него руку, приводя его в совершенное замешательство.
Случилось так, что светлейшая сеньора донья Маргарита Лиенкерке, ныне правительница Камбре, а в ту пору вице-королева Майорки, собираясь отъезжать в Испанию, пожелала проститься с Алонсо, который уже не вставал с одра болезни. Дабы снизойти к её благочестивому желанию, настоятель велел снести его на руках на нижние хоры церкви, где её светлость и ожидала его. Она вверила себя и свою семью его молитвам и на прощание захотела поцеловать ему руку или хотя бы край одежды. Святой старец заметно смутился и пал на пол, где и лежал ниц, пока его не подняли. Светлейшая дама весьма огорчилась, что причинила ему такую скорбь, хотя и не удивилась, ибо была наслышана о его необычайном смирении.
Такое же чувство испытывал он, когда получал письма от некоторых знатных особ из других королевств. Он стыдился, что его общение и наставления так ценят, и, дабы об этом не стало известно другим, тотчас отрывал подпись, а бумагу пускал в дело. И на самом деле, позднее нашли множество его записей, сделанных на обороте полученных им писем, ибо, как мы скажем далее, бедность он любил не меньше, чем смирения.
Ему было невыносимо, когда его хвалили, предлагали ему лучшее место или, входя в какую-либо дверь, из учтивости уступали ему дорогу. Сам же он, напротив, всем оказывал почтение и был столь предупредителен, что, по собственному признанию, почитал для себя великим стыдом, если кто-нибудь опережал его в поклоне.
Удивительно почтение, которое он питал к священникам: он снимал перед ними свой головной убор ещё издали, не желал покрывать голову в их присутствии и не садился рядом с ними. Я много раз наблюдал, как он, моя руки, тут же снимал свой головной убор мокрыми руками, если рядом с ним случалось оказаться священнику.
Он весьма уважал братьев-студентов, даже если то были новиции, и никогда, как бы они ни настаивали, не соглашался занять почётное место по правую руку, которое братья обыкновенно уступали ему из почтения к его сединам. Крайнюю учтивость он проявлял и к другим братьям-коадъюторам, выказывая им внешнее почтение, насколько позволяло его положение, и почитая их в душе как своих настоятелей.
Ибо истинно смиренный не только бежит почестей, но и радуется поношениям и презрению. И в этом Алонсо также явил нам пример.
На первом листе одной из книжиц, которой он пользовался чаще всего, были найдены написанные его рукой слова: «Сказал один отец некоему брату: ты ничего не делаешь, а только мешаешь». Эта фраза заставила задуматься, и, подозревая, что за ней кроется некая тайна, выяснили следующее. Однажды, когда отцы и братья во время часа отдохновения занимались ручным трудом, один отец, видя, что Алонсо по причине старости и слабого зрения работает очень медленно, желая его подбодрить и как бы в шутку, сказал ему: «Ну же, брате, вы ничего не делаете, а только мешаете». Он же воспринял это со всей серьёзностью и, сочтя эту фразу весьма важной для своего преуспеяния, поставил её во главу своей книги.
Если случалось, что кто-нибудь, видя его недуги и годы, говорил ему, что он уже ни на что не годен, он весьма радовался и сам подтверждал это, приводя всё новые доводы к собственному уничижению. Он говорил, что ни на что не способен, что ест хлеб даром и занимает место другого, кто лучше служил бы Богу и ордену. Если какой-нибудь настоятель случаем говорил ему: «Ну как же так вышло, брате?», он не приводил иного оправдания, кроме признания в своём неразумии. «Говорю вам, отче, — отвечал он, — я поступил как дурачок, и нет мне иного извинения, кроме как признаться, что я придурок и осёл». Если кто-либо поверял ему свои искушения, дабы он дал совет, как их побороть, он с лёгкостью открывал свои собственные, выказывая равное желание и смирить себя, и утешить ближнего.
Следствие смирения, основанного на познании, есть недоверие к себе. Именно им, а также признанием своей малости и неведения, и побеждал сей раб Божий тягчайшие искушения. Одно из них, искушение тщеславием и высоким мнением о себе, было весьма тонким. Поскольку диавол видел, что не может склонить его к тому, чтобы он гордился своими делами при жизни, он решил использовать его участь по смерти. Он внушал ему, что тогда все будут его почитать, что добродетели его прославятся по всему миру, что по его заступничеству совершатся многие чудеса, и в этом прославится Бог, а добродетель восторжествует.
Алонсо тотчас распознал обман и хотел, по обыкновению, погрузиться в бездну своего ничтожества, но диавол хитроумно усилил искушение, возражая, что именно этим-то он и стяжал великие заслуги, а потому и превознесут его, ведь Богу свойственно возвышать смиренных. А радоваться этому — дело весьма справедливое, и не подобает чуждаться сего под предлогом смирения, ибо ни оно, ни иная добродетель не имеют никакой цены, если не служат к славе Божией.
Эти доводы, облечённые в коварное диавольское красноречие, повергли брата в великое смятение. Тогда, отвергнув всякую надежду на себя, он обратился с упованием к сладчайшим своим заступникам, Иисусу и Марии, и взыскал у них защиты, как дитя в объятиях матери (этот образ он обыкновенно советовал и другим, ибо на опыте познал его пользу). Иисус и Мария услышали его, избавили от этой напасти и повелели бесам впредь не искушать его подобным образом.
Впоследствии Алонсо говорил, что самое опасное искушение, постигающее рабов Божиих, кроется именно в подобном тщеславии и самопочитании, и что единственное средство против него — не доверять себе, а бросаться в объятия образцов смирения, Христа и Его Матери.
Этим же оружием он побеждал и другие искушения, касавшиеся веры, судов Божиих и предопределения. Враг многократно нападал на него, внушая по этому поводу тягчайшие сомнения, смиренный же брат каждый раз уклонялся, повторяя за Апостолом: Non plus sapere, quam opportet sapere («...не думать о себе более, нежели должно думать» — Рим. 12:3). «Не хочу знать более того, что мой Бог есть сама благость, святость и справедливость. Этого мне достаточно».
И когда однажды при помысле о сих тайнах его постигло необычайно сильное искушение, он победил его героическим подвигом недоверия к себе и упования на Бога и тотчас был восхищён духом, а душа его озарилась столь ясным светом небесным, что с тех пор он обрёл дар легко сокрушать любые козни и злохитрые измышления сатаны. Так что теперь он не только сам наслаждался покоем, но и своими рассуждениями приносил его тем, кто, терпя подобные искушения, приходил к нему за помощью. Custodiens parvulos Dominus, humiliatus sum, et liberavit me («Хранит Господь простодушных: я изнемог, и Он помог мне». — Пс. 114:6).
Чадом самообуздания и смирения является нищета духовная (Мф. 5:3). Святые называют её матерью добродетелей, опорой блаженств (св. Игнатий Лойола, Правила), стеной монашества, спутницей ангелов, невестой Иисуса Христа (св. Франциск у Бонавентуры), царицей мира, созидательницей царей, благоуханной жертвой всесожжения, родом мученичества, презирающей мир, чуждой забот, радостной среди печальных, сильной среди немощных, безопасной в величайших опасностях, птицей, что легко летит к небесному отечеству, где и хранятся её сокровища (св. Иоанн Златоуст, Беседа 11 на Послание к Евреям).
Брат Алонсо говорил, что она «состоит в том, чтобы иметь сердце столь обузданное, мёртвое и отстранённое от вещей мирских, словно их и не существует; отвергать собственную волю и исполнять божественную, словно в мире нет ничего, кроме Бога и тебя» (Лаврентий Джустиниани, Книга о Древе Жизни, XV, 7). Сие определение он вынес из школы молитвы, и оно созвучно иноческому [обету] бедности, который освобождает [монашествующего] от мирских благ, дабы он мог последовать за Христом, бедным и нищим, согласно сказанному: «пойди, продай имение твое и раздай нищим... и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19:21).
Сие и сотворил наш брат ещё до вступления в орден, когда решил покинуть Сеговию. А после принятия в Общество Иисуса и принесения обета иноческой бедности он столь преуспел в ней, что во всём, что составляло его обиход: в еде и одежде, в убранстве кельи и в скудости ложа, — он являл собой совершеннейшее зерцало иноческой бедности. Он взирал на себя как на нищего, принятого в коллегию из милости, и с этим настроением принимал все вещи как бы во временное пользование.
Вскоре по прибытии на Майорку, когда в обители поначалу наблюдалась большая теснота, ему отвели келью, открытую всем ветрам и непогоде, особенно же зимой, когда от сырости и холода она становилась почти непригодной для жизни. И хотя он испытывал на себе все её неудобства и понимал, какой вред со временем это может нанести его здоровью, он так и не смог заставить себя сказать об этом настоятелю, ибо ему казалось, что это противоречит святой бедности и тому желанию всесторонне поборать себя, которое он питал. Следствием этого стали сильный насморк и [неизлечимая] простуда, от которых он в течение всей своей жизни стяжал немало заслуг.
За сорок с лишним лет не припомнят, чтобы он хоть раз обмолвился о какой-либо своей нужде, пусть даже о починке куртки или чулок. И хотя настоятели, как отцы родные, пеклись о нём, ему порой случалось терпеть немалые лишения. Таков был случай со стулом, произошедший в 1604 году по случаю празднования Сорокачасового поклонения, которое совершается в наших церквях в дни Карнавала и тогда только вводилось на Майорке. Настоятель велел вынести из келий стулья и расставить их на хорах и в галереях для удобства знатных особ. Среди прочих взяли и стул Алонсо. Когда же по окончании торжеств прочие стулья вернули на место, о стуле святого старца забыли. Он же молча принял это малое неудобство как бы из руки Божией. В келье у него не было ничего другого, на что можно было бы сесть или положить одежду при раздевании — вот так он и провёл весь тот год, пока в следующем году, по тому же случаю, стулья снова не вынесли и не вернули, и тогда ему возвращён был и его стул. Он мог бы с лёгкостью забрать его, ибо тот всё это время стоял без дела на хорах, но такова была его бедность, что он не только не забрал его, но и не позаботился о другом сиденье взамен. Ни настоятели, ни подчинённые им служители в течение целого года не замечали этого, что было делом весьма необычным и попущено Богом нам в пример.
Когда провинциальные прокураторы возвращались из Рима и распределяли привезённые ими образкѝ, медальоны и прочие освящённые предметы, он, взяв свою долю в присутствии остальных, дабы не показаться особенным, относил её настоятелю, говоря, что ему некому это раздавать и что Его преподобие распорядится этим лучше. Старая одежда, самая рваная обувь, худшее убранство в жилище — вот что было предметом его желаний. Если случалось, что ризничий звал его, дабы выдать новую сутану или иную одежду, о, какие это вызывало с его стороны возражения! Лишь в этом он и показывал, что не мёртв; Алонсо заявлял, что на тот недолгий век, что ему остался, нынешней его одежды более чем достаточно, и вообще для него, презренного осла, и попоны из лохмотьев было бы довольно; к чему, мол, такие траты? Ему отвечали, что таков приказ настоятеля, и на этом возражения прекращались, хотя смущение и оставалось. Он получал одежду и уходил, говоря про себя: «Что же это, Алонсо? Неужто ты запамятовал, что величайшие святые и славнейшие отцы твоего ордена почитали за честь носить самое ветхое и залатанное? Твой удел — быть смиренным братом-мирянином; к лицу ли тебе теперь эта новая сутана? Скажи, какой награды в жизни вечной ты чаешь, если в этой не желаешь заслужить её, отказавшись от ничтожных удобств?»
Ему и в голову не могло бы прийти взять что-нибудь чужое без позволения, поэтому, когда ему требовалась нитка или, например, бумага, и он подбирал в обители какой-нибудь нитяной обрезок или обёртку от письма, годную для записей, он относил находку министру дома, чтобы тот позволил ему этим воспользоваться. И потому немало его записей сохранилось на таких вот обёртках и старых бумажных листках. Обыкновенно он обращался к некоторым из братьев-студентов с просьбой, чтобы они очинили ему перо, а они из почтения пытались подменить его или упрашивали его взять другое, подобное. Но не было никакой возможности убедить Алонсо: он твёрдо отвечал, что ни за что на свете не возьмёт и пера, будь оно хоть старое, без позволения настоятеля. Сему я сам надёжный свидетель, ибо много раз его в том испытывал. А ещё я могу рассказать, что, когда его переселили из кельи, и я занял его место, он через день или два пришёл сказать мне, что испросил позволения забрать образок нашей Владычицы, величиной с четверть листа бумаги, такой старый, что я уже вынес его из кельи и забросил куда-то в угол. Тогда я поискал его и отдал ему, теперь уж борясь с желанием оставить его себе, ибо понял, что благоговение, которое брат к нему питал, не лишено было особой тайны.
В этом деле — не брать ничего без позволения — он доходил до двух крайностей, весьма удивительных для тех из нас, кто не столь щепетилен. Первая была такова.
Будучи послан однажды на хутор коллегии, дабы отдохнуть с прочими, он, прогуливаясь возле бобового поля, нечаянно сорвал два боба. И тотчас оказался в затруднении: он не смел ни выбросить их, ни отдать другому, дабы не распорядиться ими без позволения, ибо он принял весьма близко к сердцу то предостережение из Устава, которое запрещает распоряжаться чем-либо из достояния обители без разрешения. Тогда он решил отнести бобы тому, кто исполнял на месте обязанности настоятеля, и поведать ему о своей провинности и сомнениях, и по его приказу положил их на стол. Пусть никто не сочтёт это духовным малодушием, ибо за три чечевичных зерна другой монах понёс весьма суровое покаяние от своего аввы, как о том пишет Кассиан (Кассиан, Установления, IV, 20).
Другая крайность касалась одного обычая, который, хотя и был введён из милосердия и по необходимости, не был, как то стало ясно позже, угоден Богу, ибо отступал от чистоты Устава. Те, кто сидел за столом рядом с Алонсо, обыкновенно срезали корку с хлеба, что лежал перед ними, и отдавали мякиш старцу, который, не имея зубов, не мог есть корку. Брат принимал это со смирением и благодарностью, а свой хлеб отдавал взамен. Однажды, когда он сидел за трапезой, Господь наш ниспослал ему особое прозрение касательно этого. Ему показалось, что рядом с ним стоит некая важная особа, которая нашептала ему на ухо, что меняться хлебом — против Устава, ведь он запрещает распоряжаться чем-либо из достояния обители без позволения, поэтому, если уж есть нужда, то настоятелям надлежит позаботиться о том, как следует поступить. Алонсо остался в великом смущении и с тех пор отказывался принимать хлеб без корки иначе, как из рук того, кто прислуживал за трапезой.
Брат в своём повествовании об этом случае излагает весьма примечательное учение, осуждающее все обычаи, которые укореняются в подобных делах либо из-за самочинных толкований, либо по снисхождению настоятелей. Я не привожу его здесь ради краткости, а также чтобы добавить заключительное слово о том особом духовном упражнении, благодаря которому он достиг в этой добродетели столь высокого совершенства.
«Старайся, — говорит он, — иметь сердце свободным от всего сотворённого, с великим презрением и отвращением к себе самому и ко всем вещам мира сего, радуясь, когда тебе недостаёт необходимого, дабы более уподобиться милому нашему нищему Иисусу. Целиком предайся Богу, убеждая себя и действенно стремясь к тому, чтобы всё худшее и самое презренное доставалось именно тебе, умирая совершенно для привязанности, попечения и заботы о вещах преходящих, дабы со спокойным сердцем мог ты вверить их божественному устроению. А всё потребное для жизни принимай с досадой или отвращением, так, будто не ты, а некто другой будет этим пользоваться. С таким отрешением и принимай их, дабы, уподобляясь Христу, нищему Господу твоему, обрести покой в Его объятиях, на Кресте распростёртых. А дабы осуществить и претворить в дело сие решительное намерение, с радостью готовь себя каждый день, запасаясь твёрдой решимостью задуманное исполнить».
Говоря в своей тетради об упражнении в целомудрии, он пишет так:
«Тебе надлежит с величайшей решимостью готовить себя к стяжанию и сохранению ангельского целомудрия, живя с твёрдым намерением скорее умереть за чистоту и без греха претерпеть любые адовы муки, чем оскорбить Господа и Бога твоего грехом простительным, а тем паче — смертным. Готовить себя с этой решимостью ты должен трижды в день, уделяя этому каждый раз немалое время, а если получится, то и час».
Так говорит брат. И если кто-то спросит меня, откуда у него было столько времени, раз уж одной этой добродетели он желал посвящать по три часа, я отвечу, что эти часы упражнения в добродетелях не всегда проходили в уединённой молитве, но совершались им внутренне в течение дня, когда он был занят своим послушанием у ворот. И отводил он этой добродетели столько времени потому, что Сам Бог предоставил ему в ней великое поприще для стяжания заслуг, попуская бесам искушать его тягчайшим образом, как то будет видно из моего дальнейшего рассказа на основе сведений, заимствованных из письменных отчётов, которые он давал своим настоятелям.
Бесы являлись ему видимо в образах обнажённых мужчин и женщин, творя деяния столь же мерзкие и соблазнительные, сколь порочны их учинители. Целомудренный муж, оскорблённый таким зрелищем, старался закрывать глаза, чтобы не видеть их, но они не позволяли ему, насильно удерживая его веки. Видя, что и при всём этом он не уступает соблазну, они осыпали его тысячами оскорблений и переходили к рукоприкладству, отвешивая затрещины и удары. Они валили его наземь и, поставив ногу ему на шею, с силой давили, грозя умертвить, если, не уступит.
Брат хорошо знал, что Бог этого не допустит, и потому, уповая на Его защиту и одновременно не доверяя себе, мужественно сопротивлялся до последнего и приносил себя Господу нашему в жертву, готовый терпеть сии искушения и тягости, и даже большие, если потребуется, до самого судного дня. Когда же бесы оставляли его в покое, он испытывал столь могучее воодушевление, что плевал им в лицо и, начертав в воздухе рукой большой крест, говорил им: «Преклоните колени, злобные, поклонитесь Святому Кресту», — произнося трижды: «Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per Sanctam Crucem tuam redemisti mundum» (Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя, ибо Ты святым Крестом Своим искупил мир). И тотчас добавлял: «In nomine Iesu omne genu flectatur, caelestium, terrestrium, et infernorum» (Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. — Флп. 2:10). В конце он, словно в насмешку, повелевал им произнести Акт Сокрушения.
Гордые духи не могли снести таких речей и тотчас, посрамлённые, исчезали. И Бог в конце брани являл Себя столь же благосклонным и щедрым к сражавшемуся, сколь отстранённым и суровым был в её начале.
Сии брани по большей части случались ночью, когда брат уединялся в своей келье. Если же бесы нападали на него днём, в присутствии других, он одним лишь суровым взглядом и выражением лица без слов повторял те же повеления, и они, уразумев его волю, бежали прочь.
Однако диавол, видя, что все его козни служат лишь к вящей славе подвижника и сплетают ему всё новые венцы, решил собрать воедино все свои силы для последнего, решающего удара. И вот, когда брат Алонсо уединился для молитвы в своей келье, Господь попустил ему увидеть, как в одном из недр преисподней сонмище бесов держало совет, помышляя, как бы его одолеть. Он услышал, что они решили в ту же ночь устроить ему общий приступ с обновлённой яростной мощью, ибо им казалось, что на этот раз они своего добьются.
Нисколько не смутился святой брат. Преклонив колена, он стал пред Богом и испросил Его помощи с сугубыми воздыханиями и стенаниями, как того требовали обстоятельства. «Ты хорошо знаешь, Господи, — сказал он, — немощь мою, несоразмерную силам и ярости бесчисленного множества адских волков. Но, Господи, укроюсь под сенью могущества Твоего, уверенный, что Ты всегда одесную меня, дабы дух мой не поколебался (ср. Пс. 15:8). Боже мой, на Тебя я уповаю, что Ты спасёшь меня и избавишь от рук гонителей моих (ср. Пс. 7:2)».
Обратился он также и к своему обычному прибежищу, Деве Марии, моля Её испросить у Пресвятой Троицы благодать скорее тысячу раз умереть и претерпеть все муки адские, нежели впасть хоть в малейший простительный грех. Он воззвал к святым небесным и к воинствам Всевышнего, прося их быть в ту ночь его заступниками и помощниками.
В назначенный час – когда настала полночь, – он увидел, как в его келью с грохотом и воплями ворвалась несметная толпа бесов. Они окружили его и воздвигли брань. Начали они с отвратительных представлений и возбуждения похоти во всех его чувствах. Таков был огонь, который они извергали, что нижняя часть тела Алонсо пылала пламенем вожделения. Видя, что и этого недостаточно, некоторые в образе женщин подходили, чтобы обняться с ним, стараясь вызвать в нём хотя бы лёгкое услаждение помыслом. Когда и это им не удалось, они сбросили его с кровати на пол и со свирепой жестокостью осыпали его градом ударов.
Доблестный воин взывал к Богу, но Тот удалялся от него, как, по преданию, Он поступил в подобном случае со святым Антонием. Дева, наша Владычица, в Которой он обыкновенно находил защиту и утешение, также не являлась. И увидел бедолага, что находится в отчаянном положении: небо затворено, ад разверст, а собственная плоть и чувства, восстав, заодно с врагами на него ополчились. И при всём этом, как он сам признаётся, самой жестокой мукой был страх перед собственной немощью и малое упование на свои силы, ибо сознавал себя глиняным сосудом, что вот-вот разобьётся под градом камней, которыми осыпало его бесовское воинство, тщась поработить его страстям. Послушаем, что он сам пишет об этом случае:
«С чем, — говорит он, — сравним мы страдания, которые претерпел сей человек, дабы не уступить внушениям бесов? Со смертью? Поистине, это мало, ибо он предпочёл бы претерпеть много смертей, очутившись в такой осаде от злобных духов, нежели терпеть ужасную возможность потерять своего Бога. Много раз он был на краю гибели, и душа его готова была исторгнуться от невыносимых мук.
Он счёл бы за благо оказаться в костре, огромном, как горящий город, и чтобы весь мир мучил его, и чтобы вся мощь пламени со всех сторон устремилась на него одного, дабы мука была ещё сильнее — всё это он принял бы и претерпел с благодатью к Богу, лишь бы не оскорбить Его и не потерять из-за своей немощи сокровище, которое враги его пытались отнять».
Всё это — слова брата, которые ясно свидетельствуют о том, что ему приходилось тогда терпеть. Для души, объятой любовью к Богу и в которой эта добродетель господствует, нет муки, равной страху оскорбить своего возлюбленного. Ибо в иных страданиях, пусть и самых тяжких, любовь, что крепка, как смерть (Песн. 8:6), делает душу несокрушимой, и та с радостью готова принести тысячу жизней в жертву за своего Возлюбленного. Здесь же битва велась в самой цитадели любви, и та добродетель, что должна была служить опорой, сама стала источником величайшей муки, оказавшись под угрозой.
То был сокрушительный удар, который, вместе с прочими, толкнул нашего доблестного Алонсо на край гибели и едва не отдал его душу во власть врагов. Но Бог, Который, предав Своей шуйцей Давида крайней опасности в пустыне Маон, изволил избавить его мощной десницей Своей, заставив Саула и его войско поспешно повернуть назад (1 Цар. 23:26-28), Он же пришёл на помощь в беде и Алонсо, верному Своему и возлюбленному слуге.
«С чем, — говорит он, — сравним мы страдания, которые претерпел сей человек, дабы не уступить желанию демонов? Со смертью? Поистине, это мало, ибо он предпочёл бы претерпеть много смертей, видя себя в такой осаде от злобных духов, нежели оказаться в столь великой опасности потерять своего Бога. Много раз он был при смерти и готов был разорваться от великих мук.
Он счёл бы за благо оказаться в огне, огромном, как горящий город, и чтобы весь мир мучил его, и чтобы вся сила огня со всех сторон устремилась на него одного, дабы мука была ещё сильнее. Всё это он принял бы и претерпел с благодатью Божией, лишь бы не оскорбить Его и не потерять из-за своей немощи сокровище, которое враги его пытались отнять».
Всё это — слова брата, которые ясно свидетельствуют о том, что он претерпел в этом случае. Для души, влюблённой в Бога и в которой торжествует любовь, нет муки, равной страху оскорбить своего возлюбленного. В других страданиях, сколь бы тяжки они ни были, любовь, что сильнее смерти (Песн. 8:6), делает душу твёрдой, и она с радостью приносит тысячу жизней в жертву за своего возлюбленного. Здесь же битва, опасность и страдание — в самой любви, и та, кто должна была бы укреплять своим мужеством, сама же более всего и терзает, ибо оказывается в опасности.
Это и был самый жестокий удар для нашего доблестного Алонсо, от которого, как и от прочих, он в конце концов дошёл до крайней опасности отдать душу во власть врагов своих. Но Бог, Который, предав Своей левой рукой Давида в последнюю крайность в пустыне Маон, смог и захотел избавить его Своей десницей, заставив Саула и его войско поспешно повернуть назад (1 Цар. 23:26-28), пришёл на помощь в этой крайности и Своему возлюбленному и верному рабу Алонсо.
Он явился ему, окружённый светом и сиянием, и, изгнав адскую тьму, исполнил его небесным утешением с таким избытком, что сердце оного не вмещало, и он был вынужден просить передышки и громко взывать: «Оставь меня, Господи, ибо я умираю! Оставь меня, ибо изнемогает сердце моё!» Бог услышал его, свет погас, а брат, воспрянув духом, укрепился для грядущих битв.
Алонсо сам признаётся, что много раз претерпевал подобные нападения в течение семи лет, пока длилась эта брань, и во всякий раз бывал весьма обласкан и одарён милостями от Господа нашего и Его Пресвятой Матери. Однажды, с любовью жалуясь, как то делал и святой Антоний, он сказал: «Господи, где же был Ты, когда я страдал? Как Ты мог так оставить меня?» И ему явился Господь наш, и, обратив к нему умиротворяющий небо и землю лик Свой, в созерцании коего — вечное блаженство праведных, сказал ему: «Что ты боишься, возлюбленный сын мой? Я не оставлял тебя и не оставлю». Он показал ему Свои язвы, и один вид их ободрил подвижника и укрепил его.
Столь велико было его страдание в то время, что студенты Майорки из наших школ, которым он по своему послушанию ежедневно отворял двери, прозвали его «брат соборованный», ибо вид его и облик были как у человека, получившего последнее помазание и готового испустить дух. Он испытывал сильные боли, падал в обмороки и терпел другие недомогания, оставшиеся у него после этих битв.
Угодно было Господу нашему, чтобы по прошествии упомянутого времени эти брани против целомудрия прекратились, хотя и не прекратились другие, поскольку бесы, видя, что не могут склонить его ко злу, постановили лишить его жизни и действительно пытались это сделать различными родами мучений, о чём я расскажу, когда мы дойдём до последних лет его жизни, которые были временем единительного пути — именно тогда это и происходило. События же, о которых я только что поведал в этой главе, случились в первые двенадцать-четырнадцать лет по его вступлении в орден, и то была пора пути очистительного.
Здесь же уместно будет привести важное наставление о том, как хранить целомудрие. Ибо Алонсо, одержав победу в стольких битвах и утишив в себе эту брань, до конца дней своих ни на миг не ослабил той неусыпной стражи, которую держал над своими чувствами, и с особой строгостью оберегал зрение от лицезрения женщин, о чём мы уже говорили в восьмой главе и ещё не раз скажем в дальнейшем.
Он провёл несколько дней в загородном доме с одним из отцов, где им прислуживали и оказывали гостеприимство несколько сеньор, живших там. И хотя брат много раз говорил с ними и ел за одним столом, он держал свой взор в таком строгом заточении, что едва видел их, разве что как тени, ибо всецело был поглощён Богом, и чувства его оставались глухи ко всему иному. Говоря с ними, он был так скромен, что не смел ни повернуть головы, ни поднять глаз, словно был изваянием или мертвецом. Говорил же он им о суете мира, о сокровищах, что сияют для нас во Христе, — словом, обо всём том, что могло бы отвратить их от мира и привязать к Богу. Такова была его осмотрительность, ибо он повсюду видел опасность; и хотя преклонный возраст, казалось бы, уже избавлял его от подобных борений, он не позволял себе и малейшего послабления, словно юный подвижник, которому ещё только предстоит начать брань.
Блаженный брат обыкновенно говаривал, что, когда рабы Божии общаются с женщинами, диавол их не искушает, ибо искушать их всё равно что предупреждать, дабы они остерегались; он ничего им не говорит, дабы они позволяли себе смотреть на них, но затем, в обители и на молитве, он искушает их и преследует. Отсюда видно, сколь великое дело — оберегать свой взор от лицезрения женщины, будь она хоть родною сестрой.
Брат Алонсо Родригес называл эту добродетель кратчайшим путём, которым инок быстро достигает вершин святости. Говорил он так по опыту, и всем, кто хоть что-то знает о его жизни, понятно, что именно послушание стало для него той силою, которая в краткий срок усовершила его и во всех прочих добродетелях, а поскольку он с самого начала всецело предался ей, Господь наш явил ему великие милости. Умерщвлял ли он себя во всём, желал ли для себя худшего в обители, искал ли блага для всех собратьев, назидая их своей скромностью и словом, трудился ли неустанно или ходил, внутренне всецело погружённый в Бога, — всё это проистекало из одного источника: его стремления в совершенстве повиноваться и ни на йоту не отступать от того, что повелевает наш Устав.
Послушание, говорит святой Бернард, — это добродетель, не имеющая определённых границ, но, скорее, некая всеобщность, которою она объемлет пределы прочих добродетелей (св. Бернард, О степенях смирения и гордыни). «Если я целомудрен, — добавляет святой Фома, — то потому, что мне так велит послушание; если не имею ничего собственного — по той же причине» (св. Фома Аквинский, Сумма теологии, II-II, вопр. 186, ст. 8). А посему о том, кто в совершенстве стяжал эту добродетель, мы можем заключить, что он одарён и многими другими. О степени же, в которой ею обладал наш брат, можно судить по следующим примерам.
Однажды он размышлял о послушании, согласно сказанному о праведнике: Mens iusti meditabitur obedientiam («Сердце праведного размышляет о послушании»)¹. И поскольку он был привратником, ему пришла такая мысль: «Что бы ты сделал, если бы настоятель приказал тебе никого не впускать, а к воротам подошёл бы король со своей стражей и стал кричать: "Отворите королю!"?» И, хорошо обдумав это, он решил, что отошлёт их подобру поздорову, сказав, что у него нет приказа открывать. А если бы они стали настаивать, он бы ответил, что ни за что на свете не пойдёт против приказа настоятеля, даже если за это его будут преследовать и мучить аж до смерти. Ибо ему казалось (и это самое удивительное), что во всех этих столкновениях он не потерял бы внутреннего мира, зная, что всё вверено Богу, от Которого исходит приказ настоятеля и на Чьём попечении и остаётся устранение неудобств, могущих возникнуть от слепого повиновения.
В доказательство того, что как он подумал, так бы и поступил, достаточно привести один случай. В нашей коллегии студенты должны были представить трагедию. Были приглашены вице-король, епископ, члены соборного капитула, представители орденов и другие знатные особы. Дабы не случилось нехватки мест, настоятель приказал привратнику (которым был наш брат Алонсо) не открывать ворота до определённого часа, ибо в такие дни народ обыкновенно приходит заранее и занимает места, предназначенные для знати, и добавил, что для предотвращения всяческих затруднений привратнику надлежит неотступно пребывать у вверенных ему врат.
Случилось так, что вице-король и епископ — а это были братья, сеньоры дон Луис и дон Хуан Вике-и-Манрике — прибыли ко входу до назначенного настоятелем срока. Стража закричала, извещая, что их светлости здесь. Привратник же отвечал именно то, что и замыслил, и сколько они ни настаивали, не было никакой возможности заставить его ни открыть, ни сдвинуться с места.
Наконец кто-то поспешил известить настоятеля о происходящем. Тот примчался и, велев открыть, объяснил сеньорам причину задержки. Христианская знать умеет отличать светскую учтивость от иноческой дисциплины, а потому сии образцовые братья-кавалеры, получив от случившегося добрый урок, не выказали и тени обиды за то, что их заставили подождать у ворот. И так исполнилось то, о чём много раз повторял в своих писаниях сам брат: что Господь наш, Чьё дело совершается через послушание, всегда заступается за Своих слуг, которые стараются во всём исполнять Его божественную волю.
Много и часто верный ревнитель послушания упражнялся в размышлении о сей добродетели, представляя в воображении и с сердечной горячностью принимая то, чего на деле не было и что по обычному ходу вещей казалось невозможным. Один священник спросил его, как бы он поступил, если бы его прямой настоятель велел ему отвезти пакет с письмами к провинциалу на материк, а готового судна не нашлось бы. Он отвечал: «Много раз я думал об этом и столько же раз решал в сердце своём, что бросился бы в воду, уповая, что Бог, повелевающий мне через настоятеля, перенёс бы меня без судна так же легко, как и с ним». Делал он это, по его словам, в подражание отцу нашему святому Игнатию, который утверждал, что не усомнился бы пересечь море2 на лодке без вёсел, паруса и мачты, если бы Папа (который один был ему настоятелем) повелел ему это. Намёк на исполнение этого столь героического решения мы увидим в следующем случае.
Однажды зимней ночью ректор коллегии беседовал в своих покоях с другими о делах духовных в присутствии брата Алонсо. Когда же речь зашла о том, сколь много страдают и служат Богу в Индиях, он сказал: «Как же это брат Алонсо никогда не просился в Индии? Неужели так и будете сидеть здесь сложа руки?» Он отвечал: «Отче, я ничто и ни на что не годен, но думаю, что, если бы то было угодно, послушание отправило бы меня и без моей просьбы. А если пошлют, отправлюсь с великой радостью, уповая, что сие повеление Божие». — «Так отправляйтесь же в Индии, — сказал ректор, — я вам это повелеваю». Было между восемью и девятью часами вечера.
Услышав эти слова, святой старец, со смиренным поклоном, вышел из покоев и в той же одежде и головном уборе, в каком был, пошёл к воротам и принялся звонить в колокольчик. Вышел привратник (уже предупреждённый настоятелем) и спросил брата, чего он желает. «Отвори мне дверь, — сказал тот, — я отправляюсь в Индии». — «Как же это, без плаща, без шляпы, один, и в такой час?» — «Да, брат, ибо послушание посылает меня сейчас, а для его исполнения всякий час хорош». — «А есть ли у вас разрешение? — сказал привратник. — Ведь вы знаете, что без него мы не можем отправиться в путь, и я не должен вас выпускать. Если же его нет, ступайте за ним, а потом я вам открою».
С этим ему пришлось вернуться в покои настоятеля, чтобы просить у него разрешения. Тот встретил его с укоризной, сказав: «Как же! Здесь-то вы нам только в тягость, так что в Индии собрались?!» Алонсо улыбнулся на эти слова, а когда его спросили, какие трудности он видит в исполнении этого послушания, сказал, что никаких, и что он идёт, как дурачок, без всяких сомнений исполнять повеление Божие.
Несколько лет спустя другой настоятель спросил его, как же он не подумал ни о судне, ни о припасах, или хотя бы о том, чтобы зайти в свою келью за плащом и шляпой. Он отвечал, что ему не было велено готовиться к отъезду в Индии, но лишь идти туда, и что раз уж Бог так повелел, то Он бы и позаботился о корабле и припасах, а если нет, то он пошёл бы по водам, уповая, что Тот, Кто повелел, и сопроводил бы его до конца пути.
Так сказал сей ревнитель послушания, и нет сомнения, что как сказал, так бы и сделал, если бы ему не преградили путь.
И не диво, что тот, кто чувствовал в себе такое дерзновение, чтобы ходить по воде аки посуху, уповая на то же послушание, решился бы и плыть по суше. Однажды отцы, преподававшие словесность, в час отдохновения ради развлечения затеяли спор: следует ли совершенно запрещать ученикам плавание. Одни говорили, что да, ибо сие занятие, по их словам, пагубно для здоровья, мешает учению и даже угрожает чистоте нравов. Другие же возражали, что запрещать сие не должно, ведь на островах умение плавать — порой единственная возможность спасти свою жизнь или свободу3.
Брат Алонсо, как и прочие, присутствовал при этом, но был более погружён во внутреннюю беседу с Богом, нежели в тот разговор. Настоятель, желая его испытать, спросил, умеет ли он плавать. Тот отвечал, что да. «Так посмотрим же, как вы плаваете», — сказал отец. В то же мгновение брат бросился грудью на пол и принялся быстро двигать руками, словно был в воде. Присутствовавшие замерли в изумлении, а настоятель, не ожидавший, что испытание зайдёт так далеко, велел ему встать, уразумев из этого, с какой готовностью брат повинуется тому, что ему велят. В другой раз, когда ему было уже за восемьдесят, другой настоятель, который также не упускал случая его испытать, велел ему то же самое, и он повиновался, как и в первый раз, пока ему не сказали: «Довольно, брате, вы и этого не умеете; не знаю, на что вы вообще годны».
Та же радость и готовность сопровождали его и в послушаниях куда более трудных и тяжких. Расскажу здесь об одном случае. Когда тяжкий недуг одолел его, а все прочие лекарства оказались бесполезны, он по велению настоятеля стал принимать по утрам некий напиток, который тот счёл подходящим. Брат начал его пить, но вскоре почувствовал, что оно идёт ему лишь во вред, ибо снадобье сие было противно самой природе его недуга; однако смолчал, дабы не выступить против повеления. Он исполнял это распоряжение до конца, не без заметного риска окончательно погубить здоровье, хотя и с великой для себя радостью; и Богу было угодно, чтобы в награду за послушание он не только не потерял здоровья, но и вернулся к своему обычному состоянию.
Спустя некоторое время, когда он снова занемог тем же недугом, настоятель, который, надо полагать, остался весьма доволен своим прежним лечебным средством, снова прописал ему то же. Брат оказался в великом смущении. «Не принимать его, — размышлял он, — значит пойти против приказа настоятеля, которому следует повиноваться слепо, невзирая ни на какие неудобства, даже на угрозу самой жизни. Принять же значит подвергнуть себя явной опасности, и, поскольку настоятель об этом не знает, Устав, кажется, обязывает сказать ему об этом. Что же мне делать? На что решиться?» Ему показалось, что надёжнее всего обсудить это с Богом, к Которому и следует прибегать в подобных сомнениях.
Он встал на молитву и в ней обрёл такую решимость, что не только согласился принять снадобье, но и возжелал, если тем доставит радость Господу, понести все труды мира и даже муки адские, лишь бы выполнить послушание. Это было столь угодно Богу, что в небесном видении, которого он в тот же миг удостоился, ему было дано уразуметь, что сим решением он заслужил столько же, сколько всеми своими трудами, которые до тех пор понёс на служении Богу. Он принял напиток, и Господь устроил так, что снадобье сие, сверх духовного сокровища, даровало брату и телесное исцеление.
В другой раз, захворав, он весьма сокрушался, что должен сообщить об этом настоятелю во исполнение правила Общества, которое велит, чтобы тот, кто почувствует себя нездоровым, известил настоятеля или брата-больничника, дабы те позаботились о лечении. Извещать о своей хвори казалось брату излишним попечением о теле, тогда как душа его жаждала претерпевать не только эту болезнь, но и труды куда более тяжкие. В конце концов, с огромным внутренним сопротивлением, он подчинил своё личное желание и стремление к страданию исполнению божественной воли, явленной через Устав. Он сообщил о своём недомогании с обычною прямотой и простотой и, тотчас уединившись, был восхищён духом на небо, где святые приветствовали его, а Бог одобрил его поступок, сказав, что сие утешение дарует ему в награду за послушание.
Добавлю к этому случаю ещё два, касающиеся соблюдения Устава, раз уж мы о нём заговорили. Один брат-студент, который ныне муж почтенный и уже был ректором той самой Майоркской коллегии, спросил его, следует ли для исполнения того правила, что гласит: «Все должны подметать свои кельи по меньшей мере каждый третий день», — подметать их трижды в неделю, или же достаточно и двух раз. Тот отвечал: «Дражайший брат, я подметаю четырежды, ибо раз уж в Правиле говорится "по меньшей мере каждый третий день", то сами эти слова "по меньшей мере" как бы просят о большем, а потому я и подметаю четыре раза, и это самое надёжное».
Другой пример — случай, произошедший с ним и с ризничим коллегии. Застав брата за молитвой в нижней галерее церкви, ризничий попросил его выйти оттуда в сам храм, думаю, по настоянию одной благочестивой особы, желавшей его видеть. Брат учтиво отказывался, но, поскольку ризничий настаивал, он сказал: «Заметьте, брат мой, что, когда церковь открыта для мирян, нам нельзя по Уставу выходить в неё без особого позволения, ибо это всё равно что покинуть обитель». Желание угодить мирянам, особенно тем, пред кем мы в долгу, — желание весьма справедливое для тех, кто по своему послушанию должен с ними общаться, как привратник и ризничий, — заставило последнего проявить настойчивость и довольно властно потребовать, чтобы брат вышел.
Тут вернейший ревнитель послушания преисполнился необычайного пыла духовного и, возвысив голос, отстранил от себя ризничего со словами: «Брате, не теряйте времени, ибо, хоть камни с неба падут, я не нарушу и малейшего правила!»
Слова, достойные вечной памяти и весьма схожие с тем изречением Зерцала послушания, Христа, Который, говоря о точном соблюдении Закона, говорит, что скорее разрушится строение сего мира, чем не исполнится в Законе и малейшая черта: Amen quippe dico vobis, donec transeat cælum et terra, iota vnum, aut vnus apex non præteribit à lege, donec omnia fiant (Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. — Мф. 5:18).
_____
¹ Вульг. Притч. 15:28. Автор цитирует стих с характерной заменой: в Вульгате стоит iustitiam (справедливость), а здесь — obedientiam (послушание), что подчёркивает центральную тему главы.
2 Эта решимость, основанная на слепом послушании, находит прямую параллель в древних патериках. Авва Дорофей приводит в пример историю ученика одного великого старца: «Однажды, когда я ещё был в обители аввы Серида, пришел туда ученик одного великого старца из страны Аскалонской с некоторым поручением от своего аввы. Старец дал ему заповедь возвратиться в свою келлию до вечера. Между тем поднялась сильная буря с дождём и громом, и протекавший вблизи поток поднялся в уровень с берегами. Брат, помня слова своего старца, хотел идти обратно, мы просили его остаться, полагая, что ему невозможно безопасно перейти поток; но он не согласился остаться с нами. Тогда мы сказали: пойдём вместе с ним до потока; когда он увидит его, то сам возвратится. Итак, мы пошли с ним, и, когда дошли до реки, он снял одежду свою, привязал её на голове своей, опоясался нарамником и бросился в реку, – в эту страшную быстрину. Мы стояли в ужасе, трепеща за него, как бы он не утонул; но он продолжал плыть и весьма скоро очутился на другой стороне, оделся в свою одежду, поклонился нам оттуда, прощаясь с нами, и пошёл скоро, продолжая путь свой. А мы стояли в изумлении и удивлялись силе добродетели: тогда как мы от страха едва могли смотреть на реку, он безопасно переплыл её за послушание своё» (Авва Дорофей. Душеполезные поучения и послания. Поучение 1. Об отвержении мира. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2010).
3 Речь идёт о реалиях жизни на Балеарских островах (в частности, на Майорке) в XVI-XVII веках. Острова постоянно подвергались набегам берберийских пиратов, главной целью которых был захват людей для продажи в рабство. Таким образом, умение плавать было жизненно важным навыком, позволявшим не только спастись с тонущего судна, но и избежать плена, то есть сохранить свободу.
Была в брате Алонсо одна совершенно особенная черта: Господь оделил его умом, способным справиться с любой трудностью, что и подтверждалось всякий раз, когда с ним советовались. Но когда дело касалось послушания, казалось, он терял всякую способность рассуждать, и разум его служил ему лишь для того, чтобы просто и прямо воспринять то, что ему велели, а воля тотчас устремлялась исполнить приказанное с такой поспешностью и слепотой, словно он и вовсе был лишён рассудка. Потому-то один весьма почтенный муж, бывший его настоятелем в течение нескольких лет, говорил, что, прежде чем отдать брату Алонсо какое-либо приказание, необходимо было сперва самому поразмыслить обо всех обстоятельствах и последствиях, ибо не приходилось сомневаться, что он исполнит его буквально, невзирая ни на что.
Это ясно видно из случаев, приведённых в предыдущей главе. Остались и другие, которые мы поместим здесь, а многие опустим, ибо они не столь важны для нашей цели.
Однажды настоятель, сидя за столом, заметил, что брат Алонсо не ест, ибо, как я уже говорил, от изобилия духовных утешений он порой цепенел и даже забывал о том, что делает — в таких случаях настоятели обыкновенно посылали ему приказ есть. Так вышло и на этот раз, а поскольку перед ним стояла миска, то посланный передал ему, чтобы он «съел миску»¹. Брат воспринял эти слова буквально и, поскольку у него не было зубов, принялся скрести миску ножом, намереваясь её съесть. Один отец, сидевший рядом с ним, удержав его руку, спросил, зачем он портит нож и миску. «Ибо мне велят, — отвечал тот, — её съесть». — «Нет, — возразил отец, — [велели съесть] похлёбку, или кушанье, ибо это мы здесь и разумеем под словом "миска"». Услышав это объяснение, он оставил нож и принялся исполнять то, что ему было велено.
Однажды вечером, во время часа отдохновения, всей общине читали назидательные письма, а по окончании чтения прозвучал звонок, указующий расходиться. Брат Алонсо тотчас поднялся со своего места, чтобы уйти, но настоятель же сказал ему: «Пусть брат останется, пусть не уходит». И хотя по окончании чтения все встали и разошлись, брат, поскольку последним повелением ему было «остаться, не уходить», так и остался в помещении, чего прочие не заметили. И провёл он там всю ночь. Утром, когда брат-будильщик пошёл всех поднимать ото сна и не нашёл его в келье, известил настоятеля. Тот сразу вспомнил свои слова («не уходит») и послал за Алонсо. Его обнаружили на том же самом месте, где застало его послушание, в прекрасном расположении духа.
В другой раз, когда он слушал проповедь на хорах, настоятель подошёл и сел рядом с ним. Алонсо, как и подобало, встал и хотел отойти в сторону, оказывая учтивость, но настоятель сказал ему: «Не двигайтесь, брат». Это слово — «не двигайтесь» — заставило его оставаться неподвижным и по окончании проповеди, и по завершении всех служб; так он и сидел, пока его, наконец, не хватѝлись в трапезной и не принялись искать по всей обители. Нашли его, наконец, поднявшись на те самые хоры: он сидел неподвижно, не осмеливаясь даже протянуть руку, чтобы взять с лавки свой головной убор. Ему велели спуститься в трапезную поесть, и он спустился без головного убора, в одном плаще, в том виде, в каком его и застали. Настоятель спросил его, почему он остался. «По послушанию», — отвечал тот. «Но когда зазвонили к трапезе, разве это не было также послушание? И поскольку оно было последним, разве не ясно, что оно-то и обязывало вас, а не предыдущее? По меньшей мере, видя, что одного другому противоречит, разве не могли вы обоснованно усомниться [в том, что правы в своём упорстве]? И в таком случае, не обязывал ли вас Устав обратиться к настоятелю, чтобы он разъяснил, как вам поступить? Что скажете на это?» — «Отче, мне нечего ответить, кроме того, что я ничто, и ничего не знаю, и ни на что не годен. Ваше Преподобие, распоряжайтесь мною».
В другой раз, когда настоятель велел ему стоять на коленях, он простоял в этой позе несколько часов, пока ему не приказали встать.
В последние годы его жизни, принимая во внимание его постоянные недуги, слабость и глубокую старость, ему велели в определённый час по утрам ходить в трапезную и завтракать. Когда настоятель отдавал это распоряжение, он сказал так: «Пусть брат идёт в такой-то час в трапезную и съест кусок». Для Алонсо это послушание оказалось весьма трудным из-за его желания умерщвлять плоть и подавать во всём добрый пример. Он высказал свои затруднения, воспользовавшись в этом случае позволением, которое даёт на то Устав. Тем не менее, ему было велено исполнять то, что приказано. Это всё ещё весьма тяготило его; он отправился обсудить это с Богом в молитве, и ему было отвечено: «Да, ибо Я этого хочу; делай то, что говорит тебе настоятель». Он смиренно склонил голову и с тех пор каждый день ходил исполнять послушание; но столь буквально, что, съев один кусок, возвращался. Через несколько дней это заметил брат-больничник и сообщил настоятелю. Когда же стала известна причина, по которой он не ел более одного куска, настоятель указал ему точное количество пищи, которое он обязан был потреблять. С тех пор он пунктуально исполнял это, утесняя себя, однако, в чём мог и как мог. Помнится, я однажды застал его за завтраком: он вкушал стоя, подобно журавлю, на одной ноге, что, как я уже говорил, было одним из его способов обуздания плоти.
Когда брат лежал, одолеваемый тяжким недугом, его пришёл навестить один отец, прибывший из Испании, дабы управлять коллегией. Движимый желанием познакомиться с братом Алонсо Родригесом, он провёл с ним в беседе довольно долгое время, а на прощание спросил больного, не утомился ли тот. Алонсо признался, что в голове чувствует некоторую тяжесть. «В таком случае не говорите», — сказал отец.
Эти слова — «не говорите» — брат воспринял со столь слепой буквальностью, что, хотя в тот день его и навещали другие, никто не смог исторгнуть из него ни слова. На следующий день брат-больничник, видя, что тот не отвечает, сказал ему: «Послушайте, брат, вы на моём попечении и должны говорить со мной». — «Сообщите о том отцу-ректору, — отвечал брат, — ибо вчера он строжайше повелел мне не говорить». Настоятель пришёл сам и разъяснил ему своё намерение.
Когда я был ещё братом-студентом, то зашёл однажды в праздничный день к нему в келью, дабы утешиться общением с ним. Я сказал, что принёс позволение «говорить с ним». Он ухватился за это слово («с ним») и возразил: «Выходит, чтобы и мне говорить с братом, надобно также испросить позволения; ибо из того, что у брата есть позволение говорить со мной, не следует, что и я имею позволение говорить с братом». Он сходил попросить разрешения и в тот раз, помнится, рассуждая об искушениях, сказал мне, что для победы над ними хорошо насмехаться над их виновником, то есть диаволом, и велеть ему поклониться Кресту и прочитать Акт Сокрушения, — приём, который он, как я уже упоминал в другом месте, обыкновенно использовал.
Такой род слепого послушания, лишённого всякого рассуждения, и навык понимать слова настоятеля буквально, как они звучат, не пытаясь истолковать его намерение, порою приводят к затруднительным недоумениям, которые немало препятствуют упражнению в сей столь важной добродетели. Но брат Алонсо обладал особым даром находить выход из подобных сомнений. Один благочестивый клирик испросил позволения навестить брата и поговорить с ним. Ему дали разрешение и от имени настоятеля передали, чтобы брат вышел в приёмную и сказал ему «пару слов». Брат отправился туда с великой радостью и, подойдя к месту, где его ожидал клирик, произнёс: «Deo gratias»2, — после чего сразу же развернулся, чтобы покинуть комнату, не прибавив более ни слова, но извещённый о том настоятель в итоге велел ему остаться и побеседовать с гостем некоторое время.
На закате его дней, дабы облегчить старцу служение у врат, в помощь ему по привратному послушанию определили товарища, который взял на себя обязанность разносить поручения и звать отцов. Ему же самому повелели, покуда ключи у него, не подниматься по лестнице в жилые покои, чтобы не утомляться. Случилось так, что однажды ночью, когда ключи всё ещё находились у него, прозвонили к отбою. Он пришёл в некоторое замешательство, ибо подняться по лестнице, чтобы идти в свою келью спать, казалось ему нарушением первого послушания, а не идти спать — нарушением второго. Что же он сделал? Лёг на скамье, стоявшей возле ворот, весьма довольный таким ухищрением, которое позволяло согласовать оба послушания, да ещё и прибавляло неудобство, которого он так искал.
Настоятель лежал в постели, но не мог уснуть, не зная, в чём причина его беспокойства. Спустя время он вспомнил, что ему, вопреки обыкновению, не принесли ключи от ворот. Он поднялся и, отправившись на их поиски, обнаружил, что добрый привратник спит на скамье. Отослав его в постель, настоятель вернулся в свою и уснул спокойно.
В делах духовных слепо повиноваться труднее, хотя и не менее важно и необходимо. Наш брат и в том, и в другом был образцом и примером для послушных иноков.
Однажды братья собрались для прохождения духовных упражнений, по обычаю Общества. Духовный наставник, который обыкновенно излагает пункты для размышления, сказал им в первый день, чтобы все руководствовались ими, ибо лучший способ молитвы для нас — тот, что Бог открыл отцу нашему св. Игнатию, а тот оставил нам записанным в своей книге «Духовных упражнений». Среди прочих упражнялся и брат Алонсо, и ему показалось, что он не сможет ни придерживаться того, что сказал отец, ни различать подготовительную молитву, преамбулы, пункты и беседу так, как им было изложено. Он поведал о своём затруднении. И хотя, согласно правилам духовной жизни, которые затрагиваются в той же книге «Упражнений», отцу, казалось бы, надлежало позволить созерцателю Алонсо продолжать свой способ молитвы, раз уж он им достигал того, к чему другие стремятся иным путём, пункт за пунктом, — Господь наш попустил, чтобы тот запретил ему это и повелел следовать изложенному способу. Брат, готовый к точному послушанию, так и сделал, и Бог вознаградил его тем, что, сам не зная как, все те дни он был исполнен особых даров и милостей небесных.
Обычно он причащался по вторникам и четвергам, помимо общего причастия по воскресеньям. Один настоятель отменил ему эти причащения, и хотя брат весьма сокрушался о том, всё же решил не говорить ни слова. Бог вознаградил его за это, даровав ему особую благодать причащаться духовно с такой лёгкостью, что всякий раз, когда он того желал, он ощущал внутри себя действительное и живое присутствие Христа, Господа нашего, и Девы Марии, Его Матери: Сына — по левую сторону сердца, а Матерь — по правую, так что они держали его словно между собой, утешая и укрепляя. Он нежно беседовал с Ними, и в речах его изливались любовь, благоговение и благодарность; так он внимал Им и молил Их о милости и заступничестве. Вскоре настоятель вновь позволил ему приступать к Таинствам, а брат после этого испытания обрёл, к великому своему утешению, навык многократно в течение дня причащаться духовно.
Испытания его послушания касались не только дней причащения, но и самого часа. Однажды, во время выздоровления, настоятель повелел ему причащаться за четвёртой мессой, дабы он не вставал ранее, чем то позволяло ему здоровье. И вот, когда он однажды готовился принять Господа, полагая, что это четвёртая месса, ибо её обыкновенно служили в тот час, он услышал звон колокола и понял, что это лишь третья, ибо в тот день мессы были сдвинуты. Он пришёл в некоторое смятение, размышляя, как ему поступить, но, уразумев, что это искушение от злого духа, ибо сомнение сие сопровождалось некоторым внутренним беспокойством, принял твёрдое решение не причащаться до четвёртой. Он дождался её, и в то время, что длилось ожидание, а было то около трёх четвертей часа, Господь наш удостоил его высочайшего Своего общения, отчего он и после того долгое время ясно чувствовал в себе присутствие Господа, посетившего его.
Иное беспокойство, или, вернее, приступ мнительности, овладел им во время недуга: ему казалось, что он может встать, дабы выслушать мессу, а настоятель повелел ему этого не делать; и вот диавол стал смущать его, напоминая об обязанности исполнить заповедь, и пытался убедить, что в таком случае он не обязан повиноваться настоятелю. Брат пришёл в великое замешательство, пока не решил прибегнуть к Богу в молитве, на которую и получил ответ: «Такова Моя воля, чтобы ты делал то, что скажет тебе настоятель, и ничего иного». После сего дух его совершенно успокоился.
Наконец, дабы не умножать примеров на одну и ту же тему, можно в общем сказать о брате Алонсо Родригесе, что он никогда сознательно не нарушал ни одного правила, ни одного повеления. Когда настоятели желали, чтобы в каком-либо деле не было упущений, они вверяли его ему. Во всех общинных делах он оказывался первым, ибо так спешил исполнить послушание, что в последние годы, когда едва отрывал ноги от земли, выходил из своей кельи за полчетверти часа до звона колокола; и потому, хоть и шёл медленнее всех, всегда опережал остальных.
И если кто-либо желает узнать, какими путями он достиг столь совершенной степени послушания, дабы ему подражать, — а это для нас важнее всего, — я поведаю здесь то, что открывается нам из его собственных писаний.
Он начал стяжание сей добродетели3 с затворёнными очами разума, уповая, как то обыкновенно бывает в делах Веры, что повеление настоятеля есть веление и установление Божие; и с этим убеждением, без дальнейших расспросов, он приводил его в исполнение. Слепоту разума он довершал сердечным порывом воли, приучая себя любить всякое повеление и с радостью его исполнять, дабы тем вернее угодить Богу.
После того, как он несколько лет таким образом повиновался, Господь наш отверз ему очи души и небесным светом дал ему познать, что послушание исходит от Бога и что то, что люди повелевают как настоятели, повелевает Сам Бог. Озарённый этим светом, он повиновался уже не человеку, но Богу в нём, с такой ясностью, что теперь он повиновался уже не по одной лишь вере, но с очевидностью видения: озарённый высшим светом, он обрёл небесную уверенность в том, что повелевает ему Сам Бог и что именно Ему он повинуется.
Сверх того, поскольку он не только умертвил собственное суждение, ослепив не только его, но и волю, склонив её к тому, что приказывал настоятель, сколь бы ни противилось тому самолюбие, Бог не только разум его вознаградил, даровав ему упомянутый свет, но и волю, вложив в неё склонность и расположенность, столь согласные и сродные с тем, что ему повелевали, что ему уже не было нужды превозмогать себя, дабы повиноваться в чём-либо, сколь бы трудным оно ни было; напротив, ему пришлось бы совершить над собой насилие, дабы не исполнить приказанного.
Так что, едва до его сведения в любом виде доходил приказ настоятеля, в тот же миг, почти незаметно, Бог влагал в его душу уверенность, что это Его повеление, и с неодолимой силой понуждал, так сказать, его к исполнению оного, так что все тяготы, гонения и муки мира не смогли бы отвратить его от исполнения божественной воли, выраженной устами настоятеля.
«Этим, кажется, — говорит брат в одном из своих писаний, — и достигается вершина послушания — когда душа видит, что повелевает ей Бог, как то видят ангелы на небесах, хотя и не с такой ясностью. Достигнув сей ступени, послушник уже не помнит о человеке, который ему повелевает, но лишь о Боге, Который повелевает, говоря устами человека; и на Бога устремляет он взор свой, как то делают ангелы, когда Бог посылает их с каким-либо поручением. Те, кто в послушании подражают ангелам, ни на что не взирают, но без всякого рассуждения, со слепым послушанием, исполняют то, что им велено, пусть даже оно кажется невозможным, трудным, бесполезным, неблагоразумным и чрезвычайно нелепым, ибо тогда послушник творит то, что, по его ведению, повелевает ему Бог, а исполнить сие — всегда великая добродетель, будь то даже повеление Аврааму принести в жертву сына своего Исаака. Однако для достижения такой вершины послушания необходимо послушание ангельское, какое имел отец наш Игнатий».
Доселе — слова брата Алонсо, который разъясняет сию высочайшую степень послушания, приводя в пример ангелов. Мы же, в свою очередь, поясним совершенство этой добродетели, явленное в нём, на примере блаженных. Ибо им, в награду за их подвиги в земной жизни, Бог в жизни вечной просвещает разум светом славы, и тем светом они ясно зрят Бога. От этого лицезрения воля их с необходимостью воспламеняется любовью и вечно услаждается Им, уже будучи не в силах эту радость утратить.
Так и слуга Божий Алонсо был вознаграждён за великие подвиги в сей добродетели: разум его озарил высший свет, в коем он воочию узрел, что всякое повеление настоятеля исходит от Бога. Из этого прозрения родилась в нём та сердечная готовность, что стала ему второй природой, ибо он с неодолимой радостью принимался за исполнение всякого приказания, и склонность эта была так сильна, что, по его собственным словам, восстань на него хоть весь мир, он был уже не в силах желать иного, кроме как воли Божией, возвещённой устами настоятеля, и находил в исполнении её великую радость. В этом — отблеск блаженного состояния святых, насколько оно достижимо в нашей смертной жизни.
_____
¹ В оригинале: comiesse la escudilla. В испанском языке слово escudilla может означать как саму посуду (миску, чашу), так и её содержимое (миску похлёбки). Вся соль анекдота строится на этой двусмысленности и на буквальном, лишённом всякого рассуждения, послушании Алонсо.
2 Deo gratias (лат.) — «Благодарение Богу». В этих двух словах Алонсо буквально исполнил приказ сказать клирику «пару слов».
3 В оригинале: conquista de esta virtud – «завоевание (конкиста) сей добродетели», что придаёт словесной конструкции воинственное, очень испанское звучание.
Прежде чем продолжить повествование о добродетелях сего раба Божия, будет уместно остановиться на одном особом и весьма важном средстве, которым он, с благодатью Божией, стяжал как добродетель послушания, так и добродетели смирения, нищеты и целомудрия, о коих мы уже говорили, а также терпение в трудах, о чём речь пойдёт в дальнейшем.
Мы уже упоминали, приводя первый пример послушания, что сей раб Божий размышлял об этой добродетели, согласно изречению Соломона: Mens iusti meditabitur obedientiam (Сердце праведного размышляет о послушании). А именно: он представлял себе трудноисполнимые повеления, которые могли ему дать, и, внутренне настраиваясь, готовил себя к тому, чтобы преодолеть все сложности. О том же говорит и одна глосса на это место: «Праведник, верный послушанию, упражняется внутренне, помышляя и размышляя о том, что ему могут повелеть, и о том, как он исполнит это с точностью, доброй волей и радостью, когда ему прикажут, сколь бы трудным то ни оказалось».
О святом отроке Исааке Священное Писание говорит, что вышел он однажды вечером поразмыслить в поле (Быт. 24:63). Семьдесят толковников вместо слова «поразмыслить» (meditari) поставили другое, означающее «упражняться с прилежанием и заботой в чём-либо». Потому и толкователи разумеют здесь не столько телесное упражнение, сколь духовное, когда человек умственно и внутренне занимается практическим усвоением добродетелей. Придавая, таким образом, изречению Соломона тот же смысл, мы скажем, что для праведника размышлять о послушании — это то же, что, размышляя о нём, совершать духовное упражнение, как было сказано выше. И то же самое следует понимать и о смирении, и о других добродетелях, ибо все они вмещаются в еврейское слово, которое наша Вульгата перевела как Obedientiam (Послушание), а Семьдесят — как Fidem (Веру), Глосса — как Sapientiam (Премудрость), а иные — как Humilitatem (Смирение)1.
Возвращаясь же к нашему предмету, кто усомнится, что изречение сие с особенной точностью исполнилось на нашем брате Алонсо Родригесе? Ибо он имел за обыкновение уделять каждый день некоторое время внутреннему упражнению в добродетелях, избирая в один день одну, а в другой — другую, сообразно с обстоятельствами и нуждою, в которой оказывался. Говоря о бедности, мы приводили его слова, в которых он побуждает себя уделять каждый день определённое время на то, чтобы упражняться, принимая твёрдые решения касательно сей добродетели. А в двенадцатой главе, посвящённой целомудрию, мы отмечали, что он выделял по три часа в день на внутреннее упражнение в нём.
Способ же, которым он совершал сие упражнение (согласно тому, что можно извлечь из его писаний), был таков. Собравшись с мыслями и сосредоточившись на том, что ему предстояло делать, он представлял себе в воображении величайшие трудности, которые могли бы встретиться ему в упражнении в той добродетели, за которую он брался, и с мужественным сердцем встречал их пред Богом вновь и вновь, покуда они не становились для него лёгкими. Он испрашивал на то помощи Божией с великим усердием, словно наяву предстоял той беде или затруднению, которое воображал, и многократно укреплялся в решении, как именно, с помощью Божией, он поступит в подобных обстоятельствах. При этом, с омерзением отвергая противный ей порок, он, дабы утвердиться в добродетели, взирал на пример Христа и святых, призывая их на помощь.
Уже будучи старцем и свободным (как мы увидим далее) от монастырских послушаний, Алонсо посвящал этому труду много часов в день, стоя в уголке своей кельи. В прежние же времена, когда он ещё нёс послушание у ворот, это упражнение совершалось им внутренне, без отрыва от внешних занятий; и хотя силы души его и без того были поглощены иными благочестивыми размышлениями, он приучал себя в положенные часы вступать на сие, так сказать, ристалище добродетелей, дабы, сделавшись весьма искусным во владении духовным оружием, в час грядущей брани победа над врагом далась ему с большей лёгкостью.
В одной из своих записок брат говорит об этом упражнении с особым чувством сими словами:
«Отчего некоторые рабы Божии мало преуспевают в добродетелях? Причина в том, что они не стараются упражняться в них. Недостаточно совершать общего испытания совести о добродетелях в целом, ни даже частного — о каждой из них, если с испытанием не соединяется упражнение2. Надобно каждый день отводить определённое время на то, чтобы упражняться в добродетелях при всяком [воображаемом] случае, будь он велик или мал, доколе противный порок не будет совершенно искоренён, а горечь труда, сопутствующая стяжанию добродетели и изживанию сего порока, не претворится в сладость, — чего и достигают благодатью Божией, подвизаясь в молитве и умерщвлении плоти, и так побеждая себя».
Молитва, о которой мы говорили в тринадцатой главе, — та, что он начал, когда настоятель, сам того не зная, подверг опасности его жизнь, велев ему принять лекарство, которое, как брат по опыту знал, было весьма вредно при его недуге, — и была этим упражнением в послушании. Он тогда множество раз с пламенной решимостью внушал себе послушание и приносил себя в жертву, готовый повиноваться, не страшась ни смертельной опасности, ни величайших трудов, ни даже самих мук адских. И Господь вознаградил его небесным посещением и высшим светом, коим дал ему уразуметь ценность сего упражнения и пламенных молитвенных порывов3, к великому утешению и пользе для души его, как мы уже говорили выше.
Также и в одной из своих записок, изъясняя дивный способ, которым он упражнялся в смирении и самоуничижении, Алонсо прибегает к словам, которые нельзя читать без стыда и смущения. «Укоряй себя, — пишет он, — каждый день таким образом. Войдя в себя и взирая на свою дурную жизнь, поноси себя и говори: "О, негодный старец, исполненный грехов, великий нечестивец, зловонный и мерзкий, как смеешь ты появляться среди людей, будучи столь дурён? Как не разверзается земля и не поглощает тебя ад?"». Точно так же поступает и святой Ефрем в дивном своём трактате о самоукорении; и таков общий язык святых. В седьмой главе второй книги, что посвящена средствам стяжания смирения, он последним и главнейшим средством полагает это упражнение.
То же самое мы находим и в главе 27-й, где говорится о том, как высоко он ценил страдания и как вёл себя при них. И во второй книге, в главе 2-й, что также посвящена страданиям, изложив во втором и третьем параграфах это упражнение, он начинает четвёртый с изречения папы св. Григория на ту же тему. Коль скоро он так часто и говорил об этом упражнении и сам к нему прибегал, то, без сомнения, придавал ему величайшее значение.
Великим заблуждением в духовной жизни было бы (особенно для тех, чей устав предполагает так называемый «смешанный» образ жизни, включающий деятельность и созерцание) довольствоваться в размышлениях и духовных упражнениях одним лишь умозрительным созерцанием добродетелей и таинств, не переходя к рассмотрению того, как согласно им поступать на практике. «Какая польза, — говорит святой Григорий в изречении, которое цитирует брат Алонсо, — говорить великие вещи о вреде гнева, если мы не потрудимся исследовать, как его обуздать?» (Moralia, V). Святой Ансельм разъясняет это на примере искусств, а святой Иоанн Златоуст — на примере наук. Тот, кто хочет стать мастером игры на виуэле, не довольствуется (говорит святой Ансельм) знанием правил или тем, чтобы раз-другой взять виуэлу в руки. Он выделяет для этого время раз или два в день, стремясь к совершенству (De beatitudine, cap. 152). Подобным образом и ученик в школе, если не преуспевает, то потому, что не упражняется каждый день и не применяет на деле то, что изучает; если бы он делал это, не пропуская ни дня, то к концу года обнаружил бы, что весьма преуспел. «Так и мы, — говорит Златоуст, — по своему званию обязанные искоренять пороки и стяжать добродетели, во всей нашей жизни не должны провести ne vnum quidem diem (ни единого дня) без того, чтобы через деятельное и духовное упражнение снискать хоть некоторого преуспеяния в добродетели» (Homil. 27 ad populum).
Давно известно, что навыки в добродетелях зарождаются в душе от постоянного повторения соответствующих им актов, в особенности же — актов героических. Ибо чем самоотверженнее будут те поступки, которые мы совершим с благодатью Божией, тем скорее мы станем добродетельными в совершенстве и постоянстве, а не порывом минутного рвения, которое тотчас угасает, как то обыкновенно случается с теми, кто не упражняется должным образом в этом делании. Семь раз повелел пророк сирийскому военачальнику омыться в Иордане, чтобы исцелиться от проказы (4 Цар. 5:10). Если исцеление должно было быть чудесным, а не от естественной силы вод Иорданских, то, казалось бы, достаточно и одного раза. Но пророк рассудил иначе: надлежало быть семи омовениям, дабы, по слову аббата Геррика5, уразумели изнеженные и малодушные в упражнении добродетели, что для избавления от порока недостаточно омочить лишь кончик стопы в купели покаяния, но надобно омыться с ног до головы, и притом не единожды, а многократно, ибо для искоренения порока и достижения добродетели в совершенной степени требуются многие, повторяющиеся волевые решения (actos).
Если мы покрыты проказой дурных навыков, то как же искоренить их из души и насадить в ней навыки противоположные, если не силою многих и многократных волевых усилий (actos)? Потому и Невеста, дабы усовершиться в любви, не довольствуется лишь единственным лобзанием, или изъявлением (acto) любви, своего Жениха, но просит многих (согласно чтению Семидесяти): Osculetur me ab osculis oris sui («Да лобзает он меня лобзанием уст своих» — Песн. 1:1). И искренне кающаяся грешница из Евангелия, как заметил Сам Христос, с той самой минуты, как вошла в дом фарисея и припала к стопам Его, лобызала их непрестанно (ср. Лк. 7:45), — и в этом явила совершенную любовь, что воцарилась в её душе. Ибо, любя истинно, она не могла удовольствоваться немногим, но расточала лобзания вновь и вновь, в бесчисленных изъявлениях любви, как замечает в своём толковании на это место и св. Амвросий.
Путь праведника, говорит Дух Святой, есть творение правды, то есть деятельное упражнение в добродетелях, и одного лишь умозрения их недостаточно6. А потому св. Бернард и другие святые и наставники духовной жизни утвердили за правило, что действительное уничижение есть путь к смирению, а претерпевание скорбей — средство к терпению7, подобно тому как урок, изучение и упражнение есть самое действенное средство для овладения науками.
Поэтому некоторые духовные лица, дабы паче воодушевить себя на это столь важное упражнение, ставят себе заданием совершить такое-то число молитвенных сосредоточений (actos) каждый день или каждый час и побуждают друг друга святым соревнованием в том, кто чаще сосредоточится на той или иной добродетели. Это весьма похвально, в особенности для начинающих, которые только приступают к обучению в мистической школе духовной жизни.
Люди же преуспевшие и зрелые обращают внимание не столько на множество самих сосредоточений, сколько на число часов или дней, посвящаемый этому труду. И в течение их, представляя себе Христа или Деву и тот добродетельный поступок или тот труд, который они ради любви к Ним и в подражание Им желают свершить, они пребывают в своего рода непрестанном делании, упражняясь в нём с великой кротостью и простотой пред Богом, пока от постоянства упражнения не почувствуют, что горькое и трудное становится сладостным и лёгким.
Здесь я позволил себе отступить от прямого повествования, дабы подчеркнуть важность внутреннего упражнения в добродетелях — средства, которое, в отличие от размышления и испытания совести, не всегда удостаивается должного внимания; ибо, как говорит брат Алонсо, некоторые потому так мало преуспевают в добродетелях, что, помимо размышления и испытания совести, не уделяют особого внимания упражнению в них.
_____
1 Автор строит своё рассуждение на многообразии переводов еврейского глагола hāgâ (הגה) из Притч. 15:28. В Синодальном переводе: «Сердце праведного обдумывает ответ». Септуагинта (LXX) переводит его как μελετῶσιν πίστεις (размышляют о вере, fidem). Вульгата даёт iustitiam (справедливость), но Колин, как и в предыдущей главе, последовательно заменяет его на obedientiam (послушание). Упоминания переводов «премудрость» и «смирение» указывают на другие, распространённые в то время глоссы и толкования.
³ Испытание совести (examen de conciencia) — ключевая духовная практика Общества Иисуса, установленная св. Игнатием Лойолой и предписанная для ежедневного (обычно двукратного) выполнения. Автор различает два его вида. 1. Общее испытание (examen general) — это обзор всего прошедшего дня (или его части) в пять шагов: благодарение Богу, прошение о свете для распознания своих поступков, собственно исследование мыслей, слов и дел, сокрушение о грехах и твёрдое намерение исправиться. 2. Частное испытание (examen particular) — более сфокусированная практика, направленная на борьбу с одним конкретным пороком или на стяжание одной определённой добродетели. Автор жития подчёркивает, что Алонсо Родригес пошёл дальше простого самоанализа, превратив испытание в деятельное «упражнение» (ejercicio), которое включало в себя мысленное проигрывание трудных ситуаций и принятие твёрдых решений, как в них поступать.
⁴ В ориг. actos fervorosos; в католической духовной практике «акт» (лат. actus, исп. acto) — это не просто молитва, а краткое, сознательное духовное действие или направленный порыв воли и разума к Богу. Существуют акты веры, надежды, любви, сокрушения и т.д. В данном контексте «пламенные акты послушания» (actos fervorosos de la obediencia) — это многократные внутренние решения, которыми Алонсо утверждал себя в решимости повиноваться, принося свою волю в жертву Богу. Это и есть суть «упражнения» (ejercicio), описанного в этой главе.
5 Геррик из Иньи (Guerricus Igniacensis, ок. 1070/80–1157) — блаженный, монах-цистерцианец, настоятель (аббат) монастыря Иньи во Франции, ученик и сподвижник св. Бернарда Клервоского. Автор жития ссылается на его «Четвертую проповедь на Богоявление» (Sermo IV in Epiphania Domini, 3), где Геррик, рассуждая об исцелении сирийца Неемана, иносказательно говорит о необходимости многократных и усердных усилий в духовной жизни для очищения от «проказы» греха.
6 Ср.: Sanctus Ambrosius. De Isaac et anima, III, 6.
7 Ср.: Sanctus Bernardus. Sermo XXXIV de diversis, 3. Хотя в данном месте св. Бернард говорит о том, что уничижения ведут к смирению, а не о том, что следует намеренно их искать. Автор приводит этот принцип в более широком смысле.
Для столь совершенного послушания, о котором шла речь, весьма важно питать любовь и почтение к настоятелям, коим повинуешься. А потому не будет неуместным, если в этой главе мы поведём речь о любви, которую брат Алонсо Родригес неизменно питал к Обществу Иисуса, и о том, как высоко ценил он его Устав с самого первого дня, как вступил в него.
Сам Алонсо пишет, что, однажды, снедаемый желанием внутренне упражняться в самообуздании, он стал размышлять, какая из земных скорбей могла бы стать для него тягчайшей, дабы и её принять ради любви к Богу. И представилось ему, что не было бы для него большей муки, чем если бы его по какой-либо причине изгнали из Общества.
Он добавляет, что при этой мысли его охватила великая скорбь. И хотя душа его жаждала страдания, он не мог заставить себя примириться с этой мыслью, покуда, погрузившись в молитву, не предался в руки Божии, всецело покорившись Его святой воле, полагаясь на то, как Он Сам определит его участь, как сочтёт угодным, — внутри ли Общества или за его пределами. И тогда он обрёл глубокое умиротворение и духовное спокойствие и такое изобилие внутренней радости и веселия, что, как ему казалось, за те пять или шесть дней, что это продолжалось, Бог явил ему больше милостей, чем за годы.
Именно из этого глубокого почтения к своему Уставу и рождались те страхи, о которых мы говорили в пятой главе: во время новициата он опасался, что его изгонят из Общества за негодностью. Среди его бумаг нашлась запись о том, что эти опасения возвращались к нему вновь, и что Господь снова ободрил его, сказав: «Не случится того, чего ты боишься; довольно того, что Я этого хочу».
Он возобновлял свои обеты ежедневно во время мессы, когда священник заканчивал возношение Гостии и Чаши, словами, которые он записал для этой цели и которые хорошо выражают суть этой главы. Они таковы:
«О, Отче Предвечный, Боже мой и Господи мой! Сколько раз обещал я Тебе и давал слово хранить бедность, целомудрие и послушание согласно Уставу Общества! Молю Тебя, Господи всемилостивый и Отче милосердия, прости мне всё, в чём я согрешил в деле послушания и совершенного исполнения Твоей святейшей воли. Даруй мне благодать, дабы я служил Тебе с величайшим совершенством и во всех делах моих неуклонно искал вящей Твоей чести и славы, доставляя Тебе радость и утешение, как я того желаю и как по справедливости должен.
И ныне вновь говорю, что приношу обет и присягу Твоему божественному Величеству пред Пресвятой Девой Марией, Матерью и Владычицей моей, и пред всеми святыми силами небесными, — обет бедности, целомудрия и послушания, согласно Уставу Общества Иисуса, Сына Твоего. Молю Тебя, Господи: как Ты сподобил меня по благодати Твоей принести Тебе это слово и сию жертву, так и ниспошли мне помощь Твою, дабы я всесовершенно исполнил всё, что обещал.
Также молю Тебя, чтобы, если это приношение чего-либо стоит пред Твоим божественным Величеством, Ты принял его в знак благодарности за великую милость, которую Ты явил мне, изведя меня из мира и приведя в иноческий образ под кровом Твоего святого Общества, где по Твоему благодеянию и милости я вкушаю толикое счастье, какое Тебе одному ведомо. Столь велико благодеяние, которое в одном лишь этом даре я принял от Твоей руки, что если бы все люди, населяющие землю, сообща стали изыскивать и воображать величайшее благо для души и тела моего, то не только не обрели бы такого, но и не смогли бы даже помыслить о другом, равном тому, что даровал Ты мне, Господи. Где же, о вечный Благодетель мой, та истинная любовь, которой я должен любить Тебя, будучи стольким Тебе обязан? Где те бесчисленные служения, кои я обязан отслужить Тебе за столь великое благо? Где та безмерная благодарность за великие милости, которые я от Твоей божественной щедрости получил и каждый день получаю?»
Здесь благочестивый брат обыкновенно умолкал, погружённый в созерцание бездны божественных благодеяний и собственного своего ничтожества, и прибегал к Крови Христовой, дабы принести её в уплату великого долга своего перед Богом за то, что Тот привёл его в Своё Общество.
Однажды, когда после поклонения Святым Дарам он с особым усердием размышлял об этом, сопоставляя величие полученного благодеяния со своим ничтожеством и убожеством, он услышал ясный и внятный голос, который сказал: «Алонсо, всегда помышляй о том, простёршись у стоп Моих, и всё у тебя будет благополучно». Он, будучи истинно смирен, убоялся, не прелесть ли это бесовская, ибо не почитал себя достойным такой милости Божией. И, пребывая в таковой тревоге, снова услышал слова: «Чего боишься? Нечего уж, ибо в том невозможно обмануться; делай то, что Я тебе сказал». Вместе с этим голосом пришли мир и внутреннее спокойствие, и так, исполнившись величайшего утешения, он с новым рвением продолжил это упражнение.
В другой день, когда он молился Богу о приумножении Общества, Господь наш явил ему его в образе Солнца, что вращалось вокруг мира, озаряя его своим учением и примером. И было ему сказано, что средствами для свершения этого должны были стать смирение и послушание.
Среди его бумаг нашлась одна, что начинается так:
«Поскольку я, по благости Божией, так возлюбил наше святое Общество и в своих убогих молитвах прошу Бога распространить его до последних пределов земли и всех нас возрастить в такой святости, чтобы это послужило к славе Божией и ко спасению душ всех людей, я, движимый этой ревностью, решился написать следующее».
А написанное им далее, учитывая многие его доводы, указывает на то, что лучшее средство для роста и процветания Общества пред Богом и людьми — это совершенное послушание. И, касаясь послушания Авраама, которое, по его словам, принесло ему в награду почти бесконечное приумножение его потомства, он говорит такие слова:
«Что стало бы с Авраамом, если бы он, когда Бог повелел ему принести в жертву сына, прибег бы к казуистике¹ и начал прекословить Богу, почитая за лучшее проявить милосердие к сыну, нежели исполнить то, что повелел ему Бог, и стал бы оправдываться, говоря: "Этого я сделать не могу, ибо это против милосердия, и надобно сохранить жизнь невинному, тем паче сыну"? Несомненно, он не стяжал бы такой великой заслуги.
Но он повиновался, невзирая на любовь к сыну, с единственным устремлением – исполнить повеление Божие; и потому его послушание было столь угодно Богу и принесло ему такую награду. Отсюда видно, сколь превосходная вещь — слепое послушание, когда оно ведёт к точному исполнению того, что Бог повелевает, даже если это означает необходимость убить своего сына, что, казалось бы, противно милосердию. Истинное милосердие — это повиноваться Богу и делать то, что Он повелевает, а противное тому — противно и самому милосердию».
И затем он добавляет упоминание о том, как усердно отец наш св. Игнатий заповедал послушание, зная (по словам Алонсо), что именно этим средством Общество должно на диво возрасти.
С этим верным сыном Общества произошёл и другой случай, который послужит не меньшим утешением для тех из нас, кто живёт и желает умереть в его рядах. В октябре 1599 года, когда Алонсо после трапезы возносил благодарение вместе с большинством отцов и братьев коллегии, он окинул всех их взором любви, коей душа его до избытка преисполнилась за той трапезой. Они предстали ему ангелами небесными, и он пламенно желал и молил Бога удостоить его оказаться с ними на небесном пиру. И, погружённый в сии упования и помыслы, он ясно услышал глас Господень: «Все они спасутся, и ты увидишь их на небесах ещё чище и прекраснее, чем они представляются тебе ныне. И не только эти, но и все, кто ныне состоит в Обществе, если, конечно, пребудут в нём до конца».
Брат описывает это чудесное откровение в своих записках и говорит, что хранил его в тайне, решив не рассказывать никому, за исключением разве что того, кто сомневается в своём призвании и кого нельзя утешить иным способом. Лишь такому человеку, по его словам, он и решил это поведать.
Откровение он получил, как я уже сказал, в 1599 году. А в 1614 году в небольшом саду Майоркской коллегии, куда выходило окно кельи брата, я нашёл бумагу, разорванную на множество клочков. Я собрал их, ибо узнал его почерк, и хотя записка была длиннее, то, что мне удалось прочесть, гласило следующее:
«С тем же человеком произошёл и другой случай: когда все, бывшие за первой трапезой, покидали рефекторий, он окинул их взором, полным нежной любви, истинно видя в них ангелов, и им овладело страстное желание оказаться вместе с ними на небесах — желание, рождённое из чистой и нежной к ним любви. И когда он поведал о том Богу, то в тот самый час, когда братия выходили после ужина, получил ответ, что да, он воистину их узрит, и сие подтвердилось не единожды, но многократно.
И я тому верю, ибо в моих очах они подобны ангелам небесным, и, дабы смиряться и возрастать в святости, мне, с помощью Божией, не надобно ничего иного, кроме как взирать на них, ибо в их добродетелях я вижу, чего мне недостаёт. Да соделает меня Бог таким, как они! Аминь. И да взойду я на небо по Его милости. И после, когда я снова беседовал о том с Богом, получил новое подтверждение».
У брата вошло в обычай всякий раз, находясь в собрании иноков, упражняться в любви к ним, как бы обнимая всех их в сердце своём. Из этого чувства рождалось в нём горячее желание разделить с ними вечную славу; и за это устремление Господь наш вознаграждал его, даруя, как мы уже поведали, предвкушение оной. И я нимало не сомневаюсь, что подобное случалось не единожды.
Особо отмечу, что событие, о котором говорится на этом клочке бумаги, отлично от откровения 1599 года. О том, первом, брат поведал в самых первых своих записках о делах духовных, составленных по первому же велению настоятелей изложить всё письменно, а было то за много лет до 1614 года, когда я и нашёл этот другой, только что разорванный и, по всей видимости, незадолго до того написанный листок. Различие же в том, что первое откровение касалось всех, кто в ту пору состоял в Обществе, тогда как это, второе, лишь тех, кто в тот вечер разделил с ним трапезу.
Однако несравненно шире обетование Христа в Евангелии Его, обещающее сторицу и жизнь вечную тому, кто отречётся от себя самого, и от своих, и от своего достояния (Мф. 19:29), что и делаем мы, иноки, когда вступаем в монашество.
______
¹ В оригинале — epiqueya (от греч. ἐπιείκεια), богословский и юридический термин, означающий толкование закона согласно его духу, а не букве, особенно в случаях, когда буквальное исполнение приводит к несправедливости. В данном контексте Алонсо использует его в отрицательном смысле, как «увёртку», «лазейку» или «прекословие», позволяющее уклониться от прямого повеления под благовидным предлогом.
Поведав доселе о самообуздании, покаянии, смирении, бедности, целомудрии и послушании сего раба Божия, перейдём теперь к рассказу о его молитве и боголюбии— добродетелях, благодаря коим душа теснейшим образом соединяется с Богом и вкушает плод трудов самоотречения, покаяния и добровольной бедности. Сими подвигами Алонсо и приуготовил себя к принятию от Бога высочайших даров молитвы, созерцания, любви и единения с Его божественным Величеством.
Предметы сии неотделимы друг от друга и столь возвышенны, что я не осмелюсь рассуждать о них иначе, как словами того, кто сам изведал, о чём здесь пойдёт речь. А потому всё, что будет сказано в этой и следующей главах, целиком заимствовано из его писаний.
Начнём же с различных способов молитвы, которые имел сей несравненный муж. Излагая их, я лишь немного изменю слова, которыми он их описывает.
Первым способом было для него упражнение в молитве устной. Он произносил слова негромко, а оставшись один — и в полный голос, сопровождая их размышлением и вникая в их смысл, с великим благоговением и чувством внутренним и внешним, как тот, кто молится в присутствии Бога и в общении с блаженными духами. Часты были его воздыхания, а с ними смешивались слёзы, которые часто текли из его очей, и всё это сливалось в созвучие, весьма угодное слуху Божию.
Итак, он читал каждый день Розарий Пресвятой Девы, Розарий Смерти¹, литании и некоторые гимны и псалмы, в особенности же Te Deum Laudamus («Тебе, Бога, хвалим») и Benedicite, omnia opera Domini, Domino («Благословите, все дела Господни, Господа»), а также Часы Непорочного Зачатия Девы Марии, определённое число «Отче наш», «Радуйся, Мария» и «Salve Regina» и другие устные молитвы, которые были у него в ходу с самого начала и которые он не пожелал оставить и позже, даже в пору высочайшего созерцания, коего удостоил его Бог.
Умственная молитва его имела три состояния, или ступени, соответствующие трём путям, которые различают наставники духовной жизни: очистительному, просветительному и единительному.
На первой ступени он был всецело поглощён размышлением о своих грехах, о смерти, суде и аде. И Бог даровал ему столь живое постижение этих вещей, словно они были начертаны в его сердце. Он плакал непрестанно, и если бы даже захотел, не смог бы не представлять себе как грехи своей юности, так и наказания, которых за них заслуживал. Особенно же, как он сам признаётся, великие милости явил ему Господь при размышлении о смерти. Ибо, во-первых, Он даровал ему живое познание и глубокое разумение того, что происходит в тот час: предсмертные муки и агонию тела, скорби и печали души, отчаяние, сомнения и смятение. Всё это он видел в особом небесном свете так явственно, что ему не хватало слов, дабы передать глубину сего созерцания.
Затем Бог перевёл его от познания к самому переживанию, ибо много раз случалось ему, — порою во сне, порою наяву, но всегда не доходя до действительного страдания, — претерпевать душою предсмертные муки и терзания, словно она и впрямь разлучалась с телом. И мука эта, по его словам, и боль были столь велики, что и их он не смог бы выразить словами. Когда же испытание проходило, Господь наш приходил утешить его и отгонял опасения, которые и тут его посещали, — что в этих видениях может скрываться некий обман врага рода человеческого.
Так протекли первые годы его духовной жизни, пока однажды, во время молитвы о грехах, не был он сверхъестественным образом перенесён меж двух морей: с одной стороны простёрлось море горького сокрушения о содеянном, а с другой — безмерной благости и милосердия Божия; где и стал Алонсо нежно и горячо молить Бога сжалиться и простить ему грехи его. И тут он трижды услышал ясный и внятный голос, произнёсший: «Алонсо, прощаются тебе грехи твои». От этой вести внезапно оставили его всякая печаль, скорбь и мука. «И человек сей, — говорит он сам, повествуя о себе, — преобразился, словно стал иным, и внезапно исполнился такого великого утешения, какого никогда прежде не испытывал. Ему казалось, что в то мгновение он исполнился Богом и Его благодатью, ибо Господь посетил его совершенно необычайным образом, доставив радость такую, что она продлилась около восьми дней. В те дни ему казалось, что он мог бы воистину сказать со святым Павлом: “...и уже не я живу, но живёт во мне Христос” (Гал. 2:20). Ибо он ясно видел, что все его дела творит в нём Сам Бог».
С той поры он жил в великом мире и утешении. Из этого видно, как вознаграждает и посещает Бог тех, кто страждет ради любви к Нему, сокрушается о том, что оскорбил Его, и полагает все силы на то, чтобы служить Ему истинно. И этим милость Господня не ограничилась, ибо Он и в тот раз даровал ему множество иных даров, щедро обогатив его душу.
Таковы подлинные слова святого.
В другой раз, в ту же пору очистительного пути, его терзало напрасное опасение: не подпал ли он, живя в миру, под какое-либо отлучение, от которого не получил должного разрешения. Богобоязненным душам свойственно видеть опасность и там, где её нет; нашего же брата этот страх так измучил, что поверг его в крайнее смятение, душевную муку и скорбь. Наконец, осознав, в какой опасности он пребывает, Алонсо прибег к Богу, поведал Ему о гнетущем его бремени и, воспламенившись великим рвением, воззвал:
«Что, Боже мой, повелишь Ты мне, дабы я избавился от сей муки? Укажи мне святейшую волю Твою, как поступить! Я готов исполнить всё, что Ты ни прикажешь, даже если придётся странствовать всю жизнь2».
И едва он произнёс это, как на него снизошёл столь мощный порыв (это подлинные его слова) небесного и божественного света, что казалось, будто он погрузился в безмерное сияние, а вместе со светом — в величайший мир и безмятежность совести и в такое ясное знание о пребывании в благодати Божией, что оно походило на ведение блаженных на небесах. Ему казалось, что если бы он в тот миг оказался на смертном одре, окружённый тысячами бесов, в сердце его не нашлось бы и тени страха, ни следа печали, ибо Бог уверял его изнутри сердца, что всё будет благополучно. Так вознаградил Господь ещё в этой жизни сего раба Своего за горечь и слёзы очистительного пути.
А дабы он не покинул пути этого, не вооружившись как следует для перехода на путь просветительный, Господь запечатлел и начертал в сердце его познание самого себя и святой страх Божий, которые суть основания духовной жизни. Случилось же это так: однажды, когда Алонсо предстоял Господу, деятельно упражняясь в самопознании, после того как он несколько раз прочувствованно произнёс молитву (acto), вводящую душу в смиренное состояние, на него снизошёл с небес высший свет, в котором он, охваченный невероятно могучим внутренним порывом, с такой ясностью увидел ничтожество своего естества, что в сердце его запечатлелось презрение к себе и ко всему мирскому, которое уже никогда не смогло изгладиться.
В другой раз, когда его уже много дней терзали скорбь и страх о собственном спасении, обычные для тех, кто ещё оплакивает свои грехи, он стал усердно молить Бога об избавлении от сего страдания. Он долго упорствовал, настаивая и как бы борясь с Господом, дабы, как говорится, силой исторгнуть у Него благословение (ср. Быт. 32:26).
И тут его внезапно объял небесный свет, что сошёл, подобно лучу, а в нём — пронзающий страх Божий. Луч сей уязвил ему сердце, и страх тот в нём ощутимо запечатлелся, а душа исполнилась великого упования, что Господь никогда не оставит его. Страх прежний не исчез, но, напротив, укоренился в нём заново, ибо было сказано, что, вооружившись им, он не впадёт ни в тщеславие, ни в самопочитание.
Удостоившись от Бога сих милостей, брат наш Алонсо вступил на второй путь, именуемый просветительным, а молитва его достигла второй своей ступени: молитвы-подражания, свойственной преуспевающим в духовной жизни. Он размышлял о тайнах Христовых, в особенности же о Его Страстях и смерти, но уже более путём сердечного чувства, нежели рассуждения, ибо едва он вступал в молитву, как уже беседовал с Богом о том, чего желал. Способ же сей беседы заключался не столько в словах, сколько в простом видении, при котором душа, созерцая Христа в той или иной тайне событий Его жизни, о которой размышляла, одним лишь взглядом и изъявлением своего ничтожества и убожества просила о том, в чём имела нужду.
«Именно так, — говорил брат, — лучше всего просить: душа, взирая на Бога, начинает познавать, что лишь от Него одного можно ожидать помощи, и, совершенно не доверяя себе и своим ухищрениям, возлагает всё своё упование на одного лишь своего Создателя, Которого видит перед собой. И этим недоверием к себе понуждает Его даровать ей желаемое, ибо Ему свойственно исполнять желания нищих духом и смиренных сердцем: Desiderium pauperum exaudivit Dominus (Желание нищих выслушал Господь. — Вульг. Пс. 10:17). Этот взгляд души на Бога заключает в себе усерднейшее моление о вожделенной цели».
И добавляет:
«Если хочешь, чтобы Бог даровал тебе всё, что ты просишь для себя или для других, возлюби Его и ближних своих великой любовью и в молитве своей проси о том, что послужит к вящей славе Божией и духовному благу души. И будь уверен, что Он дарует тебе это, ибо любит нас безмерной любовью и знает, что нам на пользу. Сверх этого не следует ни просить, ни желать, но предоставить Богу попечение обо всём, и тогда всё будет благополучно. Славы Своей и спасения душ наших — вот чего желает Господь, чтобы мы просили у Него, дабы даровать нам всё, что тому способствует».
Этому брат и учил, и сам так поступал, ибо в молитве своей он прежде всего испрашивал четырёх безмерных любовей: безмерной любви к Богу; любви к Иисусу Христу, Богу и Человеку; любви к Марии, Его сладчайшей Матери; а также любви к ближним, а затем молился и о спасении всего мира.
В завершение молитвенного часа он переходил к иным, частным, прошениям и посвящал некоторое время благодарению, призывая всё творение помочь ему воздать хвалу Богу за благодеяния Его. Венцом же всего служило приношение самого себя и всего, что он имел, в жертву — жертву, соединённую с заслугами Христа и Его Матери, в воздаяние и благодарение за явленные ему милости. О том, как брат следовал этим правилам, равно как и о нежных его беседах с Распятым Христом и о самом способе его размышления, будет рассказано во второй книге, в главе 17-й, в небольшом трактате о молитве, там помещённом.
Другой, более постоянный способ молитвы, о котором пишет брат, — это ходить в течение дня в божественном присутствии, беседуя с Богом запросто и нежно, как с сердечным другом, ни на миг не теряя Его из виду, оставаясь с Ним наедине не столько путём рассуждения, сколько в тишине и покое духа, который возрастает от внутреннего общения. И тело тогда разделяет дары души, которая обретает покой в божественном присутствии и отдыхает в средоточии своей любви и своего желания, то есть в Боге, и с великой сладостью ведёт беседу со своим возлюбленным обо всём, чего желает во славу Божию и на благо братьев своих. Об этом способе пребывания в присутствии Божием, которое достигается через познание, и о другом, достигаемом через память, — коим он пользовался на пути очистительном, — мы говорили в седьмой главе, повествуя о совершенстве и внутренней собранности, что определяли весь строй его повседневной жизни. Равным образом [говорилось выше] и о дивном упражнении в добродетелях, которое он называет третьим способом молитвы и почитает весьма полезным, ибо оно соединяет умерщвление плоти и упражнение в добродетелях с молитвою.
Видя стремительное преуспеяние Алонсо в добродетели и те широкие шаги, коими он, как говорится, с каждым днём продвигался по пути духовной жизни, диавол замыслил воспрепятствовать ему, испортив ему часы обычной молитвы, которые были тем проводником3, через который в душу его обильно изливались духовные сокровища, коими он обладал. Долгое время, когда он по утрам преклонял колени для положенного по Правилу молитвенного часа, по всему телу его разливалась некая тягость, смертельная истома, которая мучила его крайне, доводя до мертвящих страданий.
Мало того, он, изнемогая, падал на пол и так, распростёртый, продолжал свою молитву, обливаясь потом и теряя сознание от смертной муки, покуда не истекал положенный час. И тогда он чувствовал великое облегчение, словно гора с плеч, а в остальное время дня ему было легко, как никогда прежде, при любых занятиях, что были на его попечении.
Он уразумел, что это обман и искушение вражеское, и как таковому сопротивлялся ему, черпая силы в великом свете, который сообщил ему Бог, и в руководстве настоятелей. Господь же наш, сими борениями лишь очищавший его, как золото в горниле, но, казалось, оставлявший его во время молитвы, восполнял то сторицею в течение дня, одаряя его щедрее прежнего и сообщая ему невиданную доселе проворность и лёгкость в исполнении послушаний. Так что всё у него спорилось с небывалым утешением и духовной радостью, пока не наступал час молитвы, и тогда возвращалось упомянутое страдание.
Десять лет, по его словам, длилось это искушение, не давая ему ни единого дня передышки, но и он с неослабным постоянством и крепостью духа упорствовал. Великое наставление для тех, кого Господь испытывает в молитве сухостью, духовной тьмой и унынием!
По прошествии сей поры бранной он насладился другим временем, столь благодатным и мирным, какого не испытывал никогда прежде; часты и обычны стали в его молитве посещения Господа нашего, а тело и душа освободились от той тягости и великого страдания. Едва он уединялся для молитвы, как внезапно и без всякого рассуждения погружался в самую глубину Божества, и Господь сообщал ему великое познание Своих тайн, и в этом познании, объятый пламенем божественной любви, Алонсо преображался. Разум его тогда действовал так мало, что, казалось, рассуждения пресекались, и он простым созерцанием постигал то, чего не смог бы достичь силою размышления.
Миновав эту пору, брат наш достиг тех состояний, что свойственны пути единения4, и они столь возвышенны, что я не осмелюсь поведать о них иначе, как его собственными, подлинными словами. А потому я в точности перепишу сюда двенадцатую главу из записок, которые он составил по послушанию о своих духовных деяниях. Она такова, и для лучшего понимания того высокого духа, что в ней заключён, я снабдил её пояснениями и разделил на части, вынеся их на поля (здесь пояснения автора приводятся в скобках. – прим. пер.).
1. (К единению с Богом) «После того, как человек сей прошёл через упражнение и размышление о тяжести грехов и через скорбь об оскорблении Бога и горько оплакал их, что и есть упражнение пути очистительного; и после того, как он несколько лет упражнялся также и в размышлении о Жизни и Смерти, Страстях и Воскресении Христа, Господа нашего, что есть путь просветительный, путь преуспевающих, он был вознесён к созерцанию божественных совершенств, которым и достигается единение души с Богом. И от этого упражнения сердце его воспламенялось великой любовью к своему Создателю.
2. (Размышления) Он упражнялся в размышлении о бесконечном бытии, благости и любви Бога, Который безмерно любит душу; о многих и великих благодеяниях, которые Он ему оказал и оказывает всегда, размышляя о том, Кто их оказал и оказывает, и о том, кому они были дарованы и даруются. И душа, обретя через эти и другие божественные размышления познание Бога и любовь к Нему, и истинное познание себя самой, воспламеняется любовью к божественной благости.
3. (Три ступени) Этим путём разума он перешёл к воле, той высшей способности души, назначение коей — любить уже познанного Бога, и возгорелся любовью и желанием претерпеть великие труды ради преблагого Господа. Ибо чем выше душа восходит к своему Богу и к познанию Его, тем глубже она нисходит в себе самой и размышляет о себе, и смиряется.
4. (Упражнение) И так этот человек предстоял своему Богу, взывая к Нему то безмолвным сердечным чувством, то и гласом уст:
5. (Достигает познания Бога на высочайшей ступени созерцания) «Господи, да познаю я Тебя и да познаю я себя!» И в тот же миг дух его вознёсся над всем сотворённым и оказался наедине с Богом, словно в ином мире; там душу его озарил столь великий свет, что она познавала Бога уже не через умозаключения, но в Нём Самом, не доводами, а ясным небесным светом. И чем глубже смирялась душа здесь, пред Богом, тем выше возносил её Господь к познанию Себя. Это божественное знание, в свою очередь, воспламеняло в ней любовь к уже познанному Творцу, а по мере того как росла эта любовь, в душе отражённым светом пробуждалось и всё более высокое познание себя самой.
(Первый признак благого духа. Смирение) Так и длилось это священное состязание между Богом и душою: Он её возносил, она же — смирялась. И случалось, что познание и любовь к Богу так возрастали в ней, а близость и дружество их достигали такой тесноты, что, казалось, Господь вот-вот дарует ей то лицезрение, коего удостоены блаженные на небесах».
6. (Восхищение) Иной же раз, едва он произносил: «О, Возлюбленный мой! О, мой дражайший! Ты — весь мой, а я — весь Твой!», — как оказывался восхищённым и вознесённым в безмерное бытие Божие, объятый и поглощённый сим беспредельным огнём любви. Куда же возносилось тогда пламя души, погружённой в столь великий огонь любви? Кто сумеет поведать о величии сего? Вкусить сие дано тому, кто сам через это проходит, но поведать о том невозможно, ибо всё совершается в чистом умственном духе.
7. (Уподобление ангелам) На этом пути душа уподобляется Престолам, а в познании Бога и себя самой — Херувимам, достигая этим упражнением серафической любви и становясь серафимоподобной.
8. (Единение и духовное преображение души любовью в Боге) Так, через любовь, душа приходит к единению с Богом. В единении этом она любит и услаждается Господом, поглощённая и растворённая в Нём. И столь высоко сие единение, столь глубоко преображение души в Боге, что совершается полный взаимообмен, в коем каждый дарует другому всё, чем владеет, и всё своё существо. Тогда душа возглашает своему Богу: «Возлюбленный мой — мой, а я — его. «Ты — весь мой, и я — вся Твоя». Для этого отвращает она сердце и волю от всего земного и плотского, дабы всецело водвориться в Боге своём, и оба пребывают в священной тишине, наедине друг с другом.
(Второй признак благого духа. Благочестие) Достигнув этого состояния, уже не приходится понуждать волю, дабы она желала того, чего желает Бог, даже если это горчайшее страдание ради любви к Нему. Ибо, вкусив от Бога столь много и познав Его столь глубоко, душа обретает лёгкость в трудном, по великой любви, с которой она принимает всё, что исходит от Него.
Итак, поставлена царская трапеза божественных совершенств — яства столь изысканные, что они имеют вкус Самого Бога. Душа вкушает от них, избирая то, что доставляет ей наибольшую усладу, как и поступал этот человек. О, небесный пир! Сам Бог приглашает душу, и пища любви, которую Он ей подаёт, есть Он Сам. О, любовь державная! О, любовь небесная! О, любовь благословенная! О, любовь драгоценная! О, любовь божественная! Ибо Тот, Кто приглашает к этой трапезе, Сам Себя подаёт в пищу душе! Здесь она вкушает самого Бога сладчайшего. Он всего Себя отдаёт ей из любви, а она, объятая тем же пламенем, принимает этот дар от своего Возлюбленного. Кто сможет поведать, как она насыщается Им, столь прекрасным, сладостным и дивным? Она вводит Его в своё сердце и водворяет в самой глубине своей. Ибо чистота сердца зрит Бога, а благоговение вкушает Его. Душа вся погружается в своего возлюбленного, и Он весь в ней, и она вся Ему предана. Так любовью душа отдана Возлюбленному, а Он — ей, безраздельно.
Какие же беседы, что слаще мёда, поведёт душа со своим возлюбленным? Как будет говорить с Ним, не шумом слов, но пламенными желаниями сердца? Здесь она обретает покой и усладу. Здесь радуется и любит своего Бога. Здесь её утешают и наставляют хвалить и благословлять столь великого Господа, в непрестанном сердечном устремлении (acto).
(Третий признак благого духа. Умерщвление) Она видит себя, наслаждаясь своим возлюбленным, словно в ином мире, забыв обо всех вещах земных и о себе самой, ибо вся поглощена деятельной любовью к Богу, здесь и сейчас присутствующему и познаваемому. Так она умирает для всего и живёт только для Бога.
9. (Обо́жение души) Далее душа приходит в состояние обо́жения и достигает такой высокой ступени совершенной любви к Богу, что всегда, почти постоянно пребывает, любя своего Бога, в непрестанном порыве (acto) любви.
Те, кто достиг сего благословенного состояния, и кому Бог явил эту милость, молятся в великом покое и тишине, не утруждая ни сердца, ни ума. Они пребывают с Богом своим наедине, находя отдохновение в том самом, что для других труд. Ибо как для человека, истомлённого трудом, сколь бы ни был он крепок духом, лучшее врачевство — отойти на покой в свою постель, где он и обретает отдых, — так обыкновенно происходит и с той душою, которую Бог ввёл на путь молитвы. Когда она утомлена и изнурена каким-либо телесным трудом, лучшее и величайшее для неё облегчение — удалиться для беседы с Богом. И не только в телесных, но и в духовных трудах обретает она в Боге наставление и врачевание; пребывая с Ним, тело отдыхает, а душа молится с великой сладостью.
Среди прочих упражнений в любви к Богу, тот человек прибегал к трём.
10. (Молитва без рассуждения) Первое состояло в том, что душа его целиком поглощалась великим познанием и любовью к Богу, без всякого рассуждения, ибо рассуждения уже миновали. От этого познания она приходит в столь великое изумление пред совершенствами Божиими и Его любовью, что, изумлённая и любовью объятая, лишается чувств и впадает в восхищение, всецело погружённая в Самого Бога.
Второе упражнение, которое он совершал, состояло в том, что, с великой любовью к Богу своему он держал всё свою грудь и сердце как бы отверстыми, дабы водворился в них Возлюбленный его. Подобно тому, как мы отворяем окно, чтобы в него вошло солнце, — и стоит лишь открыть ему путь, как оно тотчас входит, — так и душа уготовляет себя с великим желанием, которое питает к Возлюбленному: Sicut cervus desiderat, &c. (Как лань желает к потокам воды... — Пс. 41:2).
11. (Любовь возвращённая) Любовь эта исходит от Бога и устремляется к душе, а душа, приняв её, возвращает её Богу; сие и именуется любовью возвращённой.
12. (Дары любви) Третье упражнение сей любви таково: душа обращается, словно грудное дитя, к Богу своему, присутствующему рядом, любя Его так, как младенец любит мать, нежась с нею и припадая к её лону, где он радостен и доволен. Особенно же, когда мать, держа его на руках, забавляется с ним и говорит ему нежные материнские слова, а дитя отвечает ей по-своему, по-детски. Она любит его нежной любовью, и дитя находит в ней всё своё утешение и радость. Она пребывает с ним и безмерно им услаждается, ибо он — её дитя; он же находит в ней отраду, ибо она — его мать. Она даёт ему грудь свою, и меж ними двумя протекают исполненные любви беседы, что мёда слаще. Так, на свой лад, духовно происходит и меж Богом и душою-младенцем, коей Бог безмерно услаждается. С сими простыми и детьми и беседует Бог: Cum simplicibus sermocinatio eius (С простыми у Него общение. — Вульг. Притч. 3:32). Таким душам много раз духовно представляется, что они обретаются на лоне Божием, ведя с Ним сладостную беседу, — как то и случалось с этим человеком, который общался с Ним в любви, подобно грудному младенцу, и с детскою же простотой.
13. (Лоно Божие, где покоится душа) Сие лоно Божие, где обретается душа-дитя, есть бесконечное бытие Божие.
Здесь, созерцая своего Бога, душа отвергает со всех сторон всё, что может ей предстать, как то и делал сей человек. Всё, что ни является ей там, сколь бы возвышенным ни казалось, она отбрасывает от себя, видя, что ничто постижимое не есть Бог, ибо Бог не может быть постигнут ничем, кроме Себя Самого. Так душа может возрастать в познании Бога и от познания переходить к любви. Но чем больше она Им наслаждается, тем яснее Его непостижимость и познаёт.
14. (Духовная мгла) Каким же образом душа наслаждается Богом как предметом познания, когда она устремлена к Нему? На это отвечают, что предметом познания её выступает бесконечное неведение о Боге. И поскольку оно не имеет предела, душа отвергает со всех сторон всё, что ей является или может быть представлено в воображении, убеждая себя, что ничто из являемого ей, что может представить воображение или постичь разум, не есть Бог. И так ум наш остаётся совершенно обнажённым от тварей и облечённым в бесконечное неведение о Боге. Это неведение, будучи бесконечным, лишает душу всякого постижения как тварей, так и Творца. Созерцатели именуют сие неведение мглой, над которой восходит душа, влекомая лучом божественного неведения, — не для того, чтобы постичь, но чтобы познать, что Бог благ. И так она познаёт вкушением то, чего не постигает разумом. И чем менее она постигает Бога и чем более Его не ведает, тем сладостнее ей Он (ср. Вульг. Пс. 33:9). Очи телесные видят то, что пред ними, и не более; очи же души, будучи духовны, видят то, что пред ними, и позади, и с одной стороны, и с другой. Душа, затворённая и погружённая в Бога, в той бесконечной бездне несотворённого бытия Божия, наслаждается, видит и познаёт Бога со всех сторон посредством того света великого, что Бог ей сообщает.
15. (Наслаждение и радость в Боге) Но она не постигает Того, Кто постижим лишь Собою; напротив, отвергнув от себя всё постижимое, она остаётся с непостижимым Богом и наслаждается Им, и вкушает Его наедине, ибо меж ними двумя нет ничего, кроме Бога и её самой.
Всё сказанное дословно переписано из памятной записки и отчёта, который составил о себе брат Алонсо. Если всмотреться внимательно, можно постичь то, что Бог сообщает душе уже в этой жизни, начиная с самых первых её шагов.
_____
¹ Розарий Смерти (Rosario de la Muerte) — особая форма розария, распространённая в эпоху барокко. Эта молитвенная практика была сосредоточена на размышлении о «четырёх последних вещах» (смерти, суде, аде и рае) и о Страстях Христовых как о главном утешении и надежде в час кончины.
2 В оригинале — peregrinar toda la vida. В духовной практике того времени пожизненное паломничество (peregrinatio) было одной из тяжелейших форм покаяния. Оно подразумевало полный отказ от дома и оседлой жизни, добровольную нищету и постоянные скитания. Таким образом, Алонсо предлагает Богу величайшую из мыслимых жертв.
3 В оригинале — arcaduz. Это старинное испанское слово арабского происхождения, означающее ковш или ведро на водоподъёмном колесе (нории). Такие колёса, вращаясь, непрерывно зачерпывали воду из источника и выливали её в оросительный канал.
4 Путь единения (via unitiva) — в католической мистической традиции третья и высшая ступень духовной жизни, следующая за путём очищения (via purgativa) и путём просвещения (via illuminativa). На этой ступени душа, очищенная от грехов и просвещённая божественной истиной, достигает теснейшего, преображающего единения с Богом в любви.
Всё вышесказанное слово в слово переписано из памятной записки и отчёта, который составил о себе брат Алонсо. Если всмотреться внимательно, то можно постичь, как он, начиная с первого шага пути очистительного и до последнего — пути единения и преображения в Боге, — охватил высочайшие предметы божественного познания и любви. Именно те предметы, которые в своих мистических трактатах разбирают св. Дионисий, св. Бернард, аббат Гильберт, св. Бонавентура, Жан Жерсон и другие, более поздние, авторы.
Это ясный и наглядный пример того, о чём мудро рассуждали в мистической школе великой Фиваиды. Иоанн Кассиан передаёт мнение тамошних отцов: в науке духовной всё происходит не так, как в философии и прочих естественных науках. Ибо в последних первенствует умозрительное знание, а уже за ним следует применение на деле; и, следовательно, врач не может стать хорошим практиком, не пройдя прежде школы и не став сильным теоретиком.
В науке же духовной на первом месте стоит действие, то есть упражнение в заповедях и законе Божием, который сводится к искоренению пороков и насаждению добродетелей; и лишь на втором — изучение и созерцание предметов божественных. Причём первое несравненно важнее второго, ибо тот, кто окажется добрым делателем и исполнителем божественного закона (а значит, и более непосредственно приготовит себя к наставничеству Духа Божия), в скором времени, почти или вовсе не посещая школ, постигнет больше в богословии и мистическом учении, нежели искушённейшие в школьных диспутах.
Здесь мы видим простого брата-мирянина, который в немногих словах незатейливого отчёта о своей молитве объемлет высочайшие предметы сего учения — те самые, над которыми с великим прилежанием размышляли утончённейшие его наставники. В том же повествовании можно различить и вернейшие признаки благого духа, какие только доступны в этой жизни; от него же и рождались столь необычайные дары, нежность и милости.
И в самом деле, все его беседы и восхищения, все духовные услады и переживания неизменно сочетались со смирением, самообузданием и отрешённостью от всего временного. Из его слов становится ясно, каким миром и покоем наслаждалась в подобных случаях его душа: то был покой, неотделимый от сыновнего страха и готовности скорее претерпеть адские муки, нежели лишиться божественной благодати.
Когда такое основание положено, дальнейшее повествование о его молитве и любви к Богу может показаться лишь дополнением. И всё же, поскольку на эту тему остались ещё некоторые назидательные сведения, они и будут собраны в настоящей главе.
В одном из письменных исповеданий, сказав, что не желает иной жизни и иного бытия, кроме как бытия и жизни Божией, и что с радостью отдал бы и тысячу жизней, будь они у него, ради своего Возлюбленного, он прибавляет:
«Столь велико было влечение сего человека к Богу, и такую горячую любовь он к Нему ощущал, произнося эти, пусть и краткие, слова, что если бы Бог явил ему милость и отнял у него тогда жизнь, сие стало бы для него величайшим счастьем и радостью в сём мире, — ведь так он и Богу бы угодил в совершенстве, и желанную свободу от греха обрёл бы. Ведь один грех, пусть даже и простительный, страшит его более, нежели все муки жизни земной. Бог вышним светом Своим вразумил его и дал ему ясно познать, что с помощью благодати Его святой можно претерпеть все труды мира, и даже адские муки, Бога так и не оскорбив. А потому бояться следует не трудов, сколь бы велики и тяжки они ни были, но грехов, ибо они суть оскорбление бесконечной благости и Величества Божия».
В другом месте, поучая, что именно важнее всего хранить в памяти и в сердце, он пишет: «Также поручаю тебе эти четыре любви, дабы ты испрашивал их у сладчайшего твоего Иисуса и у сладчайшей твоей Марии. А именно: высочайшую любовь к Богу, сладчайшую любовь к Иисусу, к сладчайшей Марии, Матери Его, и любовь к ближним. Да будет последняя столь велика в тебе, по воле Божией, чтобы ты желал — с помощью благодати Его — претерпеть хоть даже адские муки, лишь бы никто не оскорбил Его и не подвергся осуждению, но чтобы все служили Ему и наслаждались общением с Ним во славе Его».
В его второй тетради сохранились строки, отмеченные на полях указующим перстом, — знак того, что на содержащиеся в них мысли он обращал сугубое внимание.
«Говорил один святой, что если бы Бог заявил ангелам, что воля Его — в том, чтобы они отправились гореть в аду, они тотчас исполнили бы это с величайшей радостью, лишь бы угодить Ему. И ещё: если бы возможно было лицезреть Бога, имея на совести хоть малейший простительный грех, либо же, не имея его, гореть в аду, и если бы выбор сей предоставили их воле, они предпочли бы лишиться славы и гореть в аду без греха, нежели, согрешив и оскорбив Бога, наслаждаться славой на небесах. Душа, достигшая такого расположения не на словах, а на деле, воистину совершенна в любви к Богу и готова на всё, лишь бы не совершить и малейшего проступка».
В ином месте, рассуждая о желании, которое питает душа, дабы угодить своему Возлюбленному, он говорит: «Раб Божий находит столь великую усладу в том, чтобы угождать Ему и радовать Его, что почитает это величайшим плодом любви. Ибо ему открывается, что, стремясь лишь к благоволению Божию, он, сам того не ища, наилучшим образом заботится и о собственном благе. А потому, отрешившись от всего прочего, он не помнит ни о чём, кроме как об угождении Богу. В этом и состоит величайшее счастье и услада всей моей жизни.
И до такой высоты доходит это влечение в душе, что, если бы она оказалась в аду, зная, что такова воля её Возлюбленного, она не ощущала бы мук. Ибо счастье [исполнять Его волю] было бы так велико, что большее погасило и устранило бы меньшее. Отсюда видно, каких высот достигает любовь к Богу в душе даже в земной жизни».
Никакой человеческий разум не в силах постичь этого, как не в силах постичь и того блага и счастья, что испытывает душа, угождая Богу; постичь это дано лишь той душе, что сама это изведала. В ней мера любви — это рвение и забота об угождении тому, кого она так любит; и тою же мерою она изведывает на опыте промысел, который имеет о ней и обо всех делах её Бог.
Столь возвышенно желание угодить Господу, ощущаемое любящею душой, что оно становится чем-то безмерным и сокрушает все прочие виды любви и страха, которые могут ей предстать. Она порывает со своим телом, с самой собой и со всеми людскими связями, отчего её в итоге не страшат ни беды, ни труды, ни муки адские, а владеет ею одно стремление: угодить Богу, Которого она бесконечно любит. И потому говорит она с таким искренним рвением и готовностью: «Господи, если в аду я смогу служить Тебе лучше, чем здесь, и паче Тебе угождать, то по милости Твоей низвергни меня туда, ибо я не желаю ничего, кроме как угождать Тебе и служить Тебе».
Ведь величайшая радость души — угождать своему возлюбленному. И потому она не помышляет ни о награде небесной, ни о страхе адовом, но лишь о том, чтобы угодить Тому, Кого почитает светом очей своих. Достигнув этого состояния, душа скажет: «Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы... ни другая какая тварь не может отлучить меня от любви Божией» (ср. Рим. 8:38-39), которую я чувствую в себе, ибо «совершенная любовь изгоняет страх... боящийся несовершен в любви» (ср. 1 Ин. 4:18).
В ином месте, жаждая божественной любви, он говорит: «Возлюбленный души моей, уязви меня глубокими ранами любви и скорби, дабы я страдал ради любви Твоей. Не оставляй меня и не отвращайся от меня, ибо я и мгновения не могу прожить без Тебя. Пусть преследуют меня все твари и обрушатся на меня все тяготы — всё это будет лишь маслом, подлитым в огонь, дабы душа моя, хоть и страдая, всё более и более пылала любовью к Тебе. Воззри, Боже и Господи мой, ибо нет для меня иной отрады, кроме как угождать Тебе, Которого я люблю до глубины сердца. Дивлюсь, как не умер я доселе от любви и страха, ибо чем сильнее мой трепет, тем глубже уязвляет и жарче воспламеняет меня любовь Твоя! О, Боже мой! О, любовь души моей! Да умру я от любви, ибо Ты знаешь, что я желал бы многократно умереть за любовь Твою и что сердце моё готово с помощью благодати Твоей претерпеть все страдания и труды мира, и даже муки адские, нежели оскорбить Тебя».
Обычная его молитва была такова: «Иисусе, Мария, сладчайшие мои возлюбленные, явите мне сию милость, дабы я умер и страдал ради любви к Вам. Даруйте мне быть всецело вашим и нисколько не своим, достоянием вашим, а не моим, дабы вы поступали со мной по воле вашей. Аминь». Также нашлась и другая, написанная его рукой: «Мария, Иисусе, высшая истина, надежда моя, любовь моя и жизнь моя, я верую в вас, и я уповаю на вас, и я люблю вас, и [желаю лишь] того, чего Вы желаете, и ничего иного. Иисусе, прими сердце моё и даруй мне дух Твой. Аминь».
Однажды, беседуя с Богом с пылом великим, он сказал: «Иисусе, Мария, безмерного смирения сердечного, чистоты душевной и пламенной любви прошу у вас, сладчайшие мои Владыки и Возлюбленные¹. Сотворите со мной то, что вам будет угодно, ибо я должен служить вам просто потому, что Вы есть. Захотите ли дать мне небо — воля ваша, захотите ли ад — также; я же возрадуюсь, дабы во всём исполнилась Ваша святейшая воля».
Сие молитвенное изъявление (acto) смирения и любви он совершил с таким пылом, что Господь тотчас дал ему познать, сколь благоугоден он был Ему и какую великую заслугу стяжал тем подвижник — бо́льшую, нежели многими другими деяниями.
Размышление о благодеяниях Божиих также воспламеняло в нём любовь к Богу. «Где же, о благо моё, — говорит он в одном месте, — та безмерная любовь, что была бы достойна великих даров Твоих и моего долга перед Тобою? О, вечный благодетель мой! Отчего же не умираю я от одной лишь любви и благодарности к Тебе? Сколь много сотворил Ты для меня и как Бог, и как человек! Сколькими благами осыпал Ты душу мою и даже это жалкое тело моё! Когда же я восхвалю Тебя, как все ангелы?
Скажи, Господи, где обрести мне ту безмерную любовь, дабы любить Тебя, как Ты того заслуживаешь и как я должен? Где обрести безмерное благоговение и благодарность, дабы служить Тебе, как я того желаю? О, если бы умереть от любви, утонув в этой пучине безмерных благодеяний! Пусть же оборвутся дни мои, ибо не дорожу я жизнью своею и не ищу в ней иной корысти, кроме Тебя одного, любовь моя, ибо Ты — сердце моё, душа моя, всё моё бытие и вся моя жизнь».
Тут речи его обрывались, слова оставляли его, и много раз даже чувства отказывали ему, и он застывал, изумлённый, отрешённый, словно бы погрузившись в божественную любовь.
Один из свидетелей, давших показания под присягой во время процесса о жизни сего святого брата, — муж, бывший его настоятелем и весьма почитаемый в королевстве Майорка, — на вопрос о возвышенной любви, которую сей раб Божий питал к Богу, отвечал так:
«Мне доподлинно известно, что упомянутый брат Алонсо Родригес питал величайшую любовь к Богу, Господу нашему; я познал это по тому пылу, с которым он говорил со мной на эту тему. В его обыкновении было рассуждать о самообуздании и любви к Богу; он говаривал, что это словно две ноги души, которыми она шествует к совершенству. Когда мы обуздываем себя из любви к Богу, душа делает шаг вперёд; но когда мы молитвенно сосредотачиваемся на любви, она делает шаг куда более значительный на пути к совершенству. Правая нога — это молитвенное изъявление любви, а левая — самоограничение.
Любовь к Богу, переполнявшая его сердце, была так велика, что не только непрестанно изливалась в его речах, но и сами речи эти воспламеняли к благочестию сердце всякого человека, даже самого равнодушного. О себе же скажу, что никакая духовная книга не пробуждала во мне такого благоговения, как беседа с упомянутым братом. И не припомню, чтобы я хоть раз попросил его помолиться обо мне Господу и не ощутил бы в то же мгновение явного духовного утешения, а чаще всего — величайшего и даже чрезмерного. Объяснялось же это его неизменной отзывчивостью: стоило мне обратиться к нему с просьбой, как он тотчас, без промедления, её исполнял. Несколько раз, когда сей брат давал мне отчёт о своей совести, он говорил, что сердце его переполняла столь великая любовь к Богу, что, не укрепляй его Господь, он бы непременно от неё умер».
Таковы слова этого отца. Сам же брат в отчёте о совести за 1609 год говорит: «Господь даровал сему человеку любовь столь великую, что ею стало всё его достояние и вся его жизнь. Он уже не радел о жизни телесной, но пёкся лишь о жизни души, единственною целью коей стало угождение Богу. Всё остальное он почитал за ничто в сравнении с желанием угодить Господу, ибо в Нём одном заключались и жизнь его, и всё его благо, и предел всех желаний».
Благодаря этим упражнениям и молитвенным изъявлениям любви, а также сему дивному единению с Богом, он достиг столь высокой ступени в молитве, что за много лет до кончины, едва лишь он возносил сердце к Богу, как от одного лишь взгляда на Него, ещё прежде всякого слова, тотчас воспламенялся любовью и соединялся со своим Возлюбленным, и часто ему приходилось молить Его оставить его.
Среди способов молитвы, о которых мы упоминали выше, последний, который он приводит и который сам почитает превосходнейшим и великой милостью Божией, — это молитва посредством сердечного желания. Желание это столь тонко, что в одно мгновение поставляет душу наедине с Богом, и столь могущественно, что душа как бы борется с Ним и понуждает Его даровать просимое, к вящей славе Его.
По поводу этого способа молитвы он говорит в одном из последних отчётов о совести, данных им настоятелю: «Случалось так, что, побуждаемый великим влечением и любовью к Иисусу и Пресвятой Матери Его Марии, я по нескольку дней пребывал в их присутствии в некоем роде созерцания, более свойственном ангелам, нежели смертным людям. Я беседовал с Ними о своих делах и о делах других, но не так, как обыкновенно, а так, как то принято на небесах — духовно и умопостигаемо, по-ангельски. Я был всецело поглощён их сладчайшим и драгоценным лицезрением, испрашивая у них милостей и вверяя им болящего отца-ректора, и услышал, как Дева сказала мне: “Я беру его на своё попечение, и тебя также, не тревожься”».
Ректором в ту пору служил о. Мигель Хулиан, прославившийся в Арагонской провинции не столько благородством своего происхождения, сколько высотой духа. Страдая в то время от жестокого приступа подагры, он услышал, что мимо его кельи проносят на руках брата Алонсо, направляясь на хоры. Отец отдал приказ, чтобы на обратном пути его внесли к нему, и попросил вымолить для него у Девы, без первородного греха зачатой, здоровья. Отец сей горячо почитал Непорочное зачатье и знал, что брат Алонсо не уступал ему в ревности о сем почитании, к чему мы ещё в свой черёд вернёмся.
Действие этой молитвы проявилось в том, что на следующее утро отец смог подняться, и с каждым днём здоровье его крепло. Хотя, желая не отставать от общины (в чём он проявлял великую ревность), он и вкушал некоторую пищу, которая в иное время тотчас вызывала у него приступ подагры, на сей раз болезнь не возвращалась к нему в течение всего года. Лишь следующей весной, когда он без всякой нужды решил прибегнуть к кровопусканиям и другим предотвратительным средствам, подагра вернулась, хотя и в более лёгкой форме. Об этом свидетельствует сам отец в записке, которую оставил перед смертью, подписав своим именем; то же под присягой подтверждают врачи и брат-больничник, ухаживавшие за ним.
Это пример исцеления, как и многие другие, вымоленные братом Алонсо, о чём речь пойдёт ниже, лучше всяких слов свидетельствуют о той высочайшей ступени, которой он достиг в молитве. Скажем же теперь несколько слов о духовном сне, который наставники духовной жизни почитают одной из высших степеней сердечной молитвы. И поскольку Бог даровал его сему святому брату, нельзя не сказать о нём хотя бы вкратце.
Много раз случалось с ним, что, когда тело его спало настоящим, подлинным сном, душа пребывала в высочайшей и совершенной молитве, либо продолжая ту, в которой находилась днём, либо вступая в новую.
«Однажды ночью, — говорит он, — когда тело отдыхало, душа пылала пред Богом в совершеннейшей молитве. И, пробыв в таком состоянии около часа, я пробудился и продолжил молитву; а когда снова заснул, она не прерывалась до самого часа подъёма».
В другой раз, прилёгши, он заснул быстрее обычного и тотчас ощутил в себе могучий молитвенный пыл, проникнутый божественной любовью, который не утихал до самого рассвета. Он прибавляет, что наутро после таких снов тело его, вопреки обыкновению, не ощущало ни усталости, ни разбитости, но, напротив, отдохнув, исполнялось удивительной лёгкости, так что он и сам себя не узнавал.
В другой раз Бог снова явил ему тот же дар, о чём он сообщает так: «Велика та молитва, которую можно творить во сне, когда Господь наш благоволит даровать её, ибо в ней душа явственно пребывает наедине со своим Богом. Тело спит и не тяготит её и ни в чём ей не препятствует, а потому они вместе отрешаются от всего на свете в великом безмолвии, обретая глубочайшее единение друг с другом. Ибо душа устремлена лишь к любви Божией и занята только общением с Тем, Коего зрит перед собою. В итоге единственное её занятие и труд — это пламенная любовь».
Так говорит брат Алонсо, утверждая на собственном опыте, что можно молиться и во сне, и что такая молитва безмятежнее той, которая творится наяву. Как это происходит, нет нужды здесь обсуждать; довольно сказать, что у Бога не иссякнут ни милости к слугам Своим, ни способы их явить. А отец Франсиско Суарес2, который в молитве разбирался не хуже, чем в философии и богословии, приводит тому несколько примеров во втором томе своего трактата «О монашестве», где, рассуждая о сне, в котором Соломон просил у Бога премудрости, доказывает, что то была молитва совершенная и богоугодная.
_____
¹ В оригинале рифма: ...Señores, y amores.
2 Франсиско Суарес (исп. Francisco Suárez; 1548–1617) — выдающийся испанский философ и богослов, иезуит. Один из крупнейших представителей второй схоластики (саламанкской школы), автор монументальных «Метафизических рассуждений» (1597) и трактата «О законах» (1612). За свою учёность получил почётное прозвание Doctor Eximius (Исключительный доктор).
Чтобы достичь столь высокой ступени совершенства, брат Алонсо прибегал ко многим средствам. Главными из них были частое приобщение Св. Таин и благоговение перед Священной жертвой мессы, а также заступничество Девы, Владычицы нашей, и святых. Об этом мы и поговорим в двух последующих главах, ибо и то, и другое относится к теме молитвы и любви к Богу, о которой мы только что вели речь.
Он питал величайшее благоговение к мессе. Никакое занятие, никакой недуг не могли помешать ему приходить на неё в точно назначенное время. Когда настоятель приказывал ему идти, по спешности шага и по радостному выражению лица легко угадывалось, куда он направляется. Приступив к алтарю, он весь светился скромным благоговением.
Одна весьма набожная особа, почившая в славе святости, поведала своему духовнику, что, когда брат Алонсо прислуживал на мессе, она видела, как от его лица исходят два луча света, подобные зажжённым факелам, что устремлялись к небу.
Некоторые старались заранее узнать, в какой час он будет прислуживать на мессе, чтобы оказаться в это время в церкви; а те, кто, отслушав одну мессу, замечали, что он выходит прислуживать на следующей, оставались из-за того благоговения, которое вызывало в них это зрелище. Священники, которым он прислуживал, воспламенялись рвением; и если кто-либо хотел в молитве на мессе вверить Богу некое важное дело и желал отслужить её с особым благоговением, то старался залучить в алтарники именно Алонсо.
Бог удостаивал его множества милостей и небесных посещений во время мессы. Чтобы в точности следовать истине, перескажем здесь слово в слово два или три случая из тех, о которых он сам повествует. В восьмом разделе отчёта, который он составил о событиях своей жизни, говорится так:
«Однажды, когда сей человек прислуживал на мессе, совершенно не помышляя ни о чём подобном, ему предстал в явлении Христос, Господь наш. Он стоял на престоле, со стороны Евангелия, в том облике, в каком ходил среди людей, одетый в длинные ризы. Лик Его, прекрасных очертаний, отличался смуглым оттенком, отливающим тёмным золотом, подобно цвету лесного ореха. В лике этом сияло божественное величие. Восхитительны и преестественны были скромность Его взора и безмятежность облика; казалось, Он желал научить сего человека [подражать Ему], дабы тот от Него перенял [эту добродетель]. Ибо в скромности Своего взора Он явил созерцателю великие сокровища Своей души, которые, словно в зеркале, в нём отражались.
Столь великою силой и добродетелью обладало сие явление и лицезрение Христа, что всякий раз, когда брат вспоминал о том посещении, он явственно ощущал, как его самого охватывают скромность и благоговение, и как весь человек преображается, словно становится другим, что бывает после усердной молитвы. Ибо, казалось, Господь бросал в его сердце искру, которая уязвляла душу, перестраивая её и преображая к лучшему. И хотя с того дня прошло более двенадцати лет, воспоминание это не тускнело и действовало с прежней силой; забыть его казалось невозможно. Впрочем, подобные события он всегда переживал со страхом и опасением, памятуя об угрозе прелести».
«Случилось сему человеку, прислуживая на мессе, во время причащения народа подавать причастникам воду, и всякий раз, как священник преподавал Святейшее Таинство, видел человек тот в Гостии прелестнейшего нагого Младенца. Он заметил на Его ножках такие же складочки, что бывают у пухлых детей. И поскольку на той мессе было немало причастников, всякий раз, как священник брал очередную частицу, он видел то же самое, что побуждало его к глубочайшему смирению.
Лет двадцать пять тому назад случилось ему прислуживать на мессе отцу Хуану Агирре, истинному слуге Божию. Однажды, когда отец преподавал причастие, освящённая частица по несчастью упала на пол. А тот, будучи человеком чувствительной совести, воспринял это с великой скорбью и сокрушением. На следующий день он служил мессу в домашней часовне, и сей человек ему прислуживал. И вот, желая утешить священника, который весьма в том нуждался, Бог устроил так, что во время мессы сей человек увидел духом, как Господь наш Иисус Христос внезапно обнял его и поцеловал в щеку. Брат сообщил об этом настоятелю, и тот велел передать всё священнику. Он так и поступил, и утешение, обретённое тем отцом, было столь велико, что не покидало его многие дни, обратив прежнюю скорбь в ни с чем не сравнимую радость».
Отец этот был подвижником выдающейся добродетели, о котором мы ещё поговорим в другом месте, ибо вместе с ним у брата случались и другие примечательные происшествия.
Господь наш являл ему не менее милостей и во время причащения, и сам брат с не меньшим усердием старался как можно чаще приступать к Таинству с великим духовным подъёмом и пылом. Он причащался по вторникам, четвергам и воскресеньям. Приготовление же его, помимо самой его святой жизни, отличалось особым тщанием.
За двадцать четыре часа до причащения, преклонив колена в церкви пред Господом, он испрашивал Его благословения и милостивого дозволения готовиться к принятию Его. С той самой минуты он возгревал в себе пламенное желание принять Его и причащался Ему духовно; и, поставляя себя в Его таинственное присутствие, сохранял сей благоговейный настрой в течение всего дня.
По вечерам он приходил к духовнику на исповедь, да так заблаговременно, что в последние годы, когда его уже освободили от домашних послушаний, ему случалось по часу, а то и по два дожидаться у его двери, смиренно сложив руки, в ожидании, пока отец придёт, — пока, наконец, настоятели, уведомлённые о том, не назначили ему определённый час для исповеди. И духовник его пишет, что, хотя исповедь касалась вещей обычных и повседневных, он совершал её с таким глубоким сокрушением, основательностью и сердечной скорбью, что это вызывало в слушающем ответное чувство.
На следующее утро, простёршись пред Богом в молитве, он поклонялся Ему всем сердцем и душою, смирял себя, сколько мог, погружаясь в бездну своей малости и небытия, дабы лучше постичь безмерность и величие Господа, Которого ему предстояло принять. Он умолял Иисуса и Матерь Его, Пресвятую предстательницу, дабы Они Сами приняли на Себя попечение приуготовить в его сердце достойный чертог, украсив его гобеленами Своих добродетелей и благодатных даров, как того требует несравненное величие небесных гостей. И неотступно приглашал он Деву, нашу Владычицу, прийти вместе с Сыном на пир Святого причащения, уповая принять его в присутствии Их обоих, — Иисуса и Марии, сладчайших своих Владык.
Окончив молитву, которая от начала до конца служила этому приготовлению, брат шёл прислуживать на мессе или слушать её — ту, на которой ему предстояло причаститься. В самом её начале он вновь духовно принимал Иисуса Христа, дабы причащение духовное послужило приготовлением к причащению таинственному. Он снова представлял Господу свою нищету, просил у Него даров Святого Духа, дабы прикрыть свою наготу; брал в заступницы Деву со всем сонмом небесным, и через их посредничество обретал обильное благоговение, творил пламенные изъявления веры и горячей любви, с коими и подходил к алтарю, дабы принять Господа.
Причастившись, он удалялся в самый дальний уголок пресвитерия, где, погрузившись в глубины своего сердца, представлял его себе просторным чертогом. Там на престоле по одну сторону сердца восседал Христос, а по другую — Мария. Он трижды произносил «Слава Отцу», а затем — «Тебе, Бога, хвалим», до слов: Pleni sunt cæli, et terra Majestatis gloriæ tuæ (Полны небеса и земля величия славы Твоей).
В сей миг, призывая все творения земные, и в особенности ангелов и святых, воздать благодарение Господу и воспеть Ему хвалу за принятую милость, он духом своим оказывался в их окружении, поклоняясь и благоговея пред своим Царём, сокрытым в Таинстве. Здесь обыкновенно осенял его поток небесного света и любви, и он ощущал теснейшую связь со сладчайшими своими возлюбленными, Иисусом и Марией, которые тысячекратно его обнимали с такой нежностью, что, дойдя до этого места, Алонсо говорит: «Здесь изнемогает разум, пытаясь постичь; здесь не хватает слов, чтобы поведать о благах, коими наслаждается душа посреди столь великого множества блаженных духов, что служат там, поклоняясь и восхваляя Бога».
Известно, что при сих обстоятельствах Христос и Матерь Его удостоили возлюбленного раба Своего Алонсо многочисленных милостей и посещений небесных. Приведём здесь один или два самых примечательных случая.
В день Успения и славного чествования Матери Божией на небесах, брат, причастившись, не смог спокойно возблагодарить Господа в пресвитерии, как он обыкновенно делал, из-за великого стечения причастников в нашей церкви в то утро. Он удалился в небольшую часовню при ризнице. Место, день, а превыше всего таинственное присутствие Господа, Которого он принял, — всё это послужило к тому, чтобы душе его был дарован дар, подобный тому, что он получил много лет назад в тот же самый день в Сеговии.
Дух его с неимоверной быстротой был восхищен на небо, где державная Дева приняла его в Свои объятия и, в сопровождении св. Ильдефонса¹ и ангела-хранителя, представила его Пресвятой Троице, при ликовании и торжестве всего сонма сил небесных. Там он узрел нечто необычайное, а именно: он знал всех ангелов и святых и ведал имена и особенности каждого из них, словно всю жизнь с ними общался. Он видел всех их вместе столь же совершенно, как если бы взирал на каждого по отдельности; и тем же образом он видел и одного по отдельности, и всех, причём оба эти познания были в высшей степени совершенны. И наконец, в каждом он видел всех прочих вместе, в дивном духовном и божественном единении.
В другой раз, в день Всех Святых в 1612 году, слушая мессу вместе с общиной и готовясь причаститься, он с особым, против обыкновения, пылом совершал приготовление. Он горячо вверил себя всем святым, испрашивая у них для себя и для всех братьев, там присутствовавших, глубокого смирения, благоговения, любви и других добродетелей, необходимых для достойного принятия Господа. Он предстал пред всеми ними вместе и пред каждым в отдельности, моля Его устроить их сердца так, как того желает Его божественное Величество.
Когда настоятель окончил мессу и братья подошли к причастию — а Алонсо среди последних, — Христос, Господь наш, желая после благодарения явить ему, сколь угодна была Ему его молитва, удостоил его особого дара. Он показал ему, как Он воистину пребывает в каждом из братьев, принявших Его. Брат увидел, как Господь в одно и то же мгновение сияет во всех них вместе и в каждом по отдельности. И что самое поразительное — к его величайшему изумлению, дотоле неизведанному, как он пишет, — в каждом из братьев он видел всех остальных в дивном небесном единении, свершаемом силою и присутствием Того Господа, Которого они незадолго до того приняли в себя.
Он пишет, что, уразумев величие сей милости, почувствовал себя пристыженным и смущённым оттого, что Господь наш столь щедро его одаряет, и просил Его вести его не этим путём, но путём Креста и трудов.
В 1608 году он дал отчёт о другой милости, такими словами: «Случилось сему человеку, больному тяжёлой простудой, не дававшей ему покоя, однажды ночью, сам не зная как, внезапно оказаться в церкви, преклонив колена пред Святейшим Таинством, как он обыкновенно делал, готовясь к причастию. По-видимому, то не было сном, но он и впрямь пребывал там духом. Итак, преклонив колена, он оказался восхищен к вершинам молитвы в чистоте ума и в таковом восхищении, объятый богоданным пылом, удостоился посещения Иисуса и Марии и, пребыв с ними наедине, наслаждался их лицезрением. Так продолжалось некоторое время. Дважды или трижды, приходя немного в себя, он примечал, как некий отрок палочкой касается его глаз со словами: “Он в восхищении”.
Подобные события нисколько не трогали его, вызывая одно лишь смущение, ибо все помыслы его были устремлены лишь к любви Иисуса и Марии и к тому, чтобы, если возможно, угождать им до бесконечности».
В дни октавы Тела Христова, Сорокачасового поклонения и в другие праздники, когда в наших церквях обыкновенно выставляют для поклонения Святейшее Таинство, многое, что тогда происходило с Алонсо, служило ясным свидетельством того рвения и величия духа, с коими он предстоял Господу. Он и сам признаётся, что, хотя и дано ему было вкусить сладость этих даров, но он не смог бы их описать по причине их чисто умопостигаемого характера.
Особенно ему врезалось в память то, что произошло на второй день Пятидесятницы в 1606 году. Этот день — престольный праздник конгрегации, состоящей из знати и простого народа и процветающей в нашей Майоркской коллегии. Празднуют его с великой торжественностью, выставляя Святые Дары. Брат Алонсо предстоял Господу со своим обычным благоговением, поклоняясь Ему в великом смирении, совершенно чуждый желания милостей или сверхъестественных даров. Внезапно его озарил великий свет, подобный молнии, но который не исчез тотчас, а остался постоянным. В этом свете он неизреченным образом увидел Господа, сокрытого под евхаристическими видами; а за умудрённым прозрением сим нагрянула любовь, и он воспылал любовью к превозвышенному державному Величеству.
Пламень разгорелся так мощно, что он умирал от любви. В этот миг его, как то свойственно доброму духу, охватил страх, с которым он обыкновенно принимал подобные милости. Почитая себя недостойным величия этого дара, он обратился к Богу и горячо молил Его изгнать из души его всякий род прелести. Дева (которая в той славе и Величестве Сына стояла рядом с Ним как Мать) отвечала: «Что смущает тебя, Алонсо? Почему не веришь Сыну моему?» На это Сын, кротко взглянув на Мать Свою, сказал: «Мне мил этот страх». И в новом свете дал Он познать брату, что страх Божий есть важнейшее средство, дабы угодить Ему.
Затем он услышал, как Сын и Мать ободряют его, говоря: Super aspidem, et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem, et draconem (на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. — Пс. 90:13). Ты будешь властвовать и господствовать над всеми бесами, попирая ногами свирепейших зверей адских. И, указав на ангелов, что там присутствовали, Сын с Матерью прибавили: In manibus portabunt te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum (на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею. — Пс. 90:12). Они будут направлять твои стопы и понесут тебя на руках, дабы ты не преткнулся о камень прегрешения.
Услышав сказанное Ими, ангелы, словно девиз, воспели слова следующего стиха: Quoniam in me speravit, liberabo eum: protegam eum, quoniam cognovit nomen meum («За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое». — Пс. 90:14).
Под эти небесные звуки божественное явление завершилось, оставив благочестивого брата с душою, объятой священным трепетом и любовью, и с обновлённым, ещё более горячим желанием ежедневно поклоняться Святейшему Таинству.
_____
¹ Св. Ильдефонс Толедский (исп. San Ildefonso de Toledo; ок. 607–667) — архиепископ Толедо, один из Отцов Церкви. Память 23 янв.
В первой главе этого сочинения уже говорилось о почитании, которое с детских лет питал к Пресвятой Деве сей верный раб Её; там же описаны были и некоторые из милостей, которые Она явила ему в самом начале его обращения, начав с тех пор обходиться с ним, как с излюбленным сыном. И воистину, брат Алонсо Родригес стал для сей державной Владычицы таким излюбленным сыном; всё повествование о его жизни свидетельствует о том, что Она сопутствовала ему на каждом шагу.
И как сам брат не мыслил себе молитвы или обращения ко Христу, Господу нашему, без того, чтобы одновременно почтить и Матерь Его, так и Она, со своей стороны, редко попускала, чтобы Сын один приходил утешить его. Ведь Алонсо питал к Ней особую нежность и любовь, подобно малому дитяти к матери; и сам признаётся, что в величайших духовных опасностях обыкновенно бежал, словно ребёночек, прятаться в объятиях Девы. Она же отвечала ему несравненной любовью и нередко Самого Сына Своего опережала, посещая и одаривая возлюбленного своего Алонсо.
Среди правил, которые он установил себе, дабы неизменно хранить их на пути духовной жизни, есть одно, в котором говорится так: «Третье упражнение заключается в том, чтобы ты всегда представлял перед собой сладчайшего Иисуса и пречистую и сладчайшую Марию, Матерь Его: по левую сторону сердца твоего — Иисуса, а по правую — Матерь Его, и говорил Им: "Иисусе, Мария, сладчайшие мои Владыки, дайте мне пострадать и умереть любви к Вам", и всегда будешь питать к Ним любовь живую и деятельную».
Так он писал и так поступал. Молитва его была к Иисусу и Марии, и любовь его — к Иисусу и Марии.
Причащаясь сущего и истинного Тела Христова, он старался духовно принять и приютить в себе также Царицу-Матерь. Он говорил, что ощущает Их обоих в груди своей, словно в двух часовенках, из коих Они стерегут его сердце; и в том же образе воображал Их в дарохранительнице в те часы, когда предстоял в церкви Святейшему Таинству. Притом ничего не заповедовал он с таким горячим усердием, как почитание Девы.
Когда я собирался отбыть с Майорки в Испанию в октябре 1616 года и зашёл в субботу вечером проститься с братом (ему оставалось жить не более года, и он уже так ослабел, что не покидал своей кельи), то застал его возлежащим на дощатом помосте в таком отрешении, что смог, прощаясь, преклонить колени и поцеловать ему стопы прежде, чем он это заметил и смог мне помешать. Он весьма смутился. Когда же я сказал ему, что уезжаю, и попросил дать мне некое духовное наставление на память о времени, что мы прожили вместе, он отвечал: «Когда захочешь испросить чего-либо у Бога, проси у Девы с упованием, будь весьма ревностен в её почитании и не сомневайся, что всё у тебя пойдёт хорошо». То же самое он советовал и другим.
С большой охотой он переписывал литании и другие молитвословия в честь Девы, чтобы раздавать их студентам, которые приходили к нему в привратницкую. Последняя известная запись, сделанная его рукой, — отчёт о совести за июль 1616 года, — начинается словами: «Воистину блаженны все почитатели Матери Божией, и весьма блаженны, ибо Она возьмёт их на Своё попечение, доколе не увидят они Её там, на небесах, с Её возлюбленным Сыном ИИСУСОМ, и не обретут вечную и нескончаемую славу».
Первым и главным его служением сей Владычице был розарий. Он начал читать его с самого начала своего обращения с тем искренним чувством, о котором мы говорили в первой главе, и продолжал это делание всю свою жизнь с таким постоянством, что после его смерти на большом и указательном пальцах его правой руки обнаружились мозоли от постоянного перебирания чёток. И если в начале этого благочестивого делания Дева явила ему милость, одарив розами, о чём мы уже говорили, то не меньшими были и дары, которые она ему преподнесла впоследствии.
Когда его одолевало настойчивое искушение уныния, коим бес пытался лишить его мира и духовной безмятежности, в которой он жил, Алонсо прибег к Пресвятой Деве посредством розария. Взявшись за молитвенную брань, он, дабы сильнее привлечь Её внимание, после слов Sancta Maria Mater Dei, прибавлял: «Memento mei. Владычица, вспомни обо мне особо». Однако адский напор не ослабевал, но с каждым мгновением лишь усиливался (по попущению Божию), а в итоге опасность достигла такой степени, что он был вынужден возвысить голос, словно человек, готовый пасть, и воскликнул: «Memento mei! Владычица, узри, я погибаю, не оставь меня!».
У Неё — сердце Матери, и Она заботливо печётся о благе каждого, особенно же — о тех, кто Её почитает. Тотчас явилась Мария сокрушённому брату; и благостный лик Её, осиянный светом, рассеял мрак в сердце Её благочестивого сына, водворив в нём мир и безмятежность, ещё более глубокие, чем прежде.
Однажды воскресным вечером, когда брат пребывал в своей келье — каморке в старой части коллегии, что над привратницкой и рядом с хорами, — он принялся читать розарий с большей нежностью и благоговением, нежели обычно, и Бог этим приготовил его к милости, которую желал ему явить. Ему явились Христос, Господь наш, и Его Преблагословенная Матерь. Сын, явившись справа, переместился к левой стороне и вселился в сердце блаженного брата, дабы навеки обрести в нём обитель. Дева же несла в руках Своих другое, новое сердце Алонсо и, приложив его иноку к правой стороне груди, также водворила оное в нём, напротив Сына Своего.
Так воцарились Сын и Матерь в сердце и душе Алонсо, и обитель Их в нём стала столь незыблема, а присутствие — столь ощутимо, что, хотя само это небесное посещение и случилось за много лет до 1604 года, когда он впервые письменно о нём поведал, до конца своих дней, по его собственному признанию, он неотступно ощущал в груди своей Их обоих — одного по одну сторону, а другого по другую, что служило к великой пользе и тонкому утешению его души.
Видение это было чисто умопостигаемым, каковыми и бывают видения высшего порядка. А залогом того, что оно исходило от благого духа, могут служить слова, которые он прибавляет к рассказу об этом случае. Они таковы: «И никогда ни от этого, ни от сказанного выше не испытывал я в сердце своём превозношения, но живу в постоянном страхе и трепете, боясь, как бы не впасть в прелесть. И если бы Бог предоставил мне выбор, я почёл бы за великое утешение не идти этим путём, ибо велики сокрытые в нём опасности, — разве что он послужил бы к вящей славе Его Величества и ко благу души моей. А потому от этих видений я уклоняюсь, подобно человеку, который, борясь с пороком, бежит от соблазна, лишая его всякой силы; я отстраняюсь от них так, словно они происходят не со мною, а с кем-то иным, в далёких Индиях. Святость заключается в любви к Богу и к ближнему, и в глубоком смирении, терпении, послушании, покорности воле Божией и в подражании Христу, Господу нашему. В этом нет опасности, а в том другом — есть».
Все эти милости явила Дева брату Алонсо посредством его благочестивого обычая молиться на розарии.
При этом особое благоговение питал он к Её Непорочному Зачатию, ибо сверхъестественный свет наделил его глубоким пониманием этой тайны. Однажды, когда он возносил благодарение, ему внезапно явилась Дева; с признательностью отозвавшись о его усердии, Она одобрила те молитвенные подвиги, что он ежедневно совершал в память о Её Пречистом Зачатии. Одним из них был Малый Оффиций в честь этой тайны — тот, что встречается в некоторых старинных часословах и содержит семь гимнов, соответствующих семи каноническим часам, каждый со своей молитвой и инвитаторием. В конце Оффиция брат добавлял гимн Te Deum Laudamus, который святой Бонавентура приспособил для восхваления Девы, и литанию Ей с некоторыми особыми молитвами, которые все будут приведены в конце этого сочинения в том самом виде, в каком брат их читал.
Эти молитвенные упражнения Царица Ангелов одобрила и повелела слуге Своему Алонсо записать их, передать другим и своим примером воодушевить их к этому деланию. А поскольку он, по смирению своему, медлил, опасаясь, как бы не скрывалось в том бесовской прелести или самообмана, Дева вновь повелела ему то же самое и развеяла всякое опасение. С тех пор он убеждал и братьев обители, и студентов-мирян, с которыми общался, ежедневно читать этот Оффиций, а дабы облегчить им труд, снабжал их собственноручными списками.
После кончины святого брата, когда это откровение получило огласку, Оффиций сей напечатали во многих частях Европы. Это тот самый чин, который за два года до его блаженной кончины одобрил Его Святейшество Павел V (по настоянию преподобнейшего отца фрай Антонио де Трехо¹, тогдашнего генерального викария ордена серафического отца святого Франциска, а впоследствии — достойнейшего епископа Картахены), уделив сто дней индульгенции тем, кто будет благоговейно его читать.
Брат Алонсо обыкновенно говорил с особым чувством, что Христу и Его Матери весьма отрадно видеть, как люди торжественно отмечают этот праздник, и что велики духовные блага и милости, которые он приносит душам. А потому, при всяком удобном случае, он увещевал справлять его с великой торжественностью.
Однажды, во время часа отдохновения, когда он пребывал в глубоком безмолвии, несколько в стороне от прочих, некоторые отцы завели разговор на эту тему, которая тогда горячо обсуждалась по всей Испании, а по особым причинам — и на Майорке. Услышав, о чём говорят отцы, святой старец подошёл к ним и, став напротив, с пылающим лицом, произнёс в полный голос несколько слов в поддержку всенародного благочестия. И прибавил, что если бы настоятели дали ему позволение, он вышел бы на улицы проповедовать, что Дева была зачата без пятна первородного греха, и что одна из причин, по которой Бог послал в мир в эти времена орден Общества Иисуса, — это учить, проповедовать и защищать сию чудесную тайну.
Присутствовал при этом и один весьма благочестивый отец, который по обету постился в канун праздника Непорочного Зачатия на хлебе и воде и чудесным образом исцелился от недуга. Он, прервав брата, спросил его, откуда ему то известно. Тот отвечал со всей уверенностью: «Знаю это доподлинно, ибо о том мне было поведано свыше».
Несколько месяцев спустя, когда брат весьма занемог и опасались, что он вскоре умрёт, тот же самый отец велел одному из насельников обители, который близко общался с Алонсо, спросить его, помнит ли он о том, что произошло на том часе отдохновения. Тот отвечал, что помнит, и что всё, что он тогда утверждал, — сущая правда, и он снова в том удостоверяется.
Не менее благоговейно почитал он и тайну всеславного Взятия на небеса сей державной Владычицы. Он готовился к этому празднику с особым тщанием, постами и покаянными подвигами. И хотя во всё то время, пока ему позволяло здоровье и настоятели давали на то разрешение, брат почитал для себя нерушимым законом поститься по субботам и в кануны праздников Девы, сопровождая это иными покаянными подвигами, но к Успению он готовился с особым усердием. А потому и Господь наш в этот день являл ему особые милости.
В главе второй описана одна из них, коей он удостоился в нашей церкви в Сеговии, ещё до вступления в Общество; другой же случай, о котором говорилось в главе девятнадцатой, произошёл в часовенке при ризнице нашей Майоркской коллегии. Сохранилась память и о третьем событии, имевшем место в той самой каморке в старой части обители, о которой я упоминал выше и которая ещё стояла в 1610 году, когда я прибыл в ту коллегию.
Брат повествует об этой милости такими словами: «Увидел сей человек, как в миг исхода душа Матери Божией с великим торжеством и ликованием возносилась ангелами на небеса. И когда достигли они небесных пределов, врата их настежь распахнулись, и ангельский сонм внёс внутрь драгоценное сокровище; человек же духом своим неотступно следовал за ними, не разлучаясь ни с ангелами, ни с великой Владычицей. И это был первый праздник, который устроили Матери Божией — от земли до небес.
Второй же начался после того как небеса отверзлись и Она вошла в сопровождении ангелов, а там Её уже ожидало бесчисленное множество других, дабы принять Её с таким же величественным почтением как свою Царицу и Владычицу. То была несказанная встреча, невероятное празднество, ликование, свойственное лишь небожителям! Кому дано поведать о том, кто осмелится описать? Ибо сии тайны скорее вкушаются и постигаются духом в восхищении, когда Бог открывает их душе, нежели излагаются словом, ибо мы телесны, а они духовны.
Третий же праздник, и самый великолепный, настал, когда, по вступлении в славу, предстала Она пред Пресвятой Троицей. В тот час ликование всего сонма небесного достигло такой высоты, что единым гласом воспели они хвалу — не по-человечески, но духовно, на ангельский лад. Здесь изнемогает всякий человеческий разум, пытаясь постичь, как это происходило».
И далее он прибавляет, что, хотя сонмы ангелов наполняли безмерные чертоги небесные, он духовно слышал и наслаждался их общим празднеством и их согласной музыкой, словно все они слились воедино. И единым взором он охватывал их всех вместе и каждого в отдельности, и казалось, будто душа его пребывает одновременно с каждым из них и со всеми вместе; всё это он созерцал в единый миг. Это было постижение столь высокое и божественное, что никакой язык человеческий не в силах его передать. Так говорит брат и признаётся, что уразумел: в тот миг душа его была вознесена на небеса, хотя и не знал он, в теле ли, или вне тела (ср. 2 Кор. 12:2), — и то же недоумение осталось у него и в другом подобном случае.
Так, от размышления и созерцания высочайших таинств, добродетелей и даров Девы, а также от тех милостей и услад, что он от Неё обретал, и зародились в душе сего слуги Её дух сыновства и великое упование. Они-то и побуждали его во всех трудах: в недугах телесных, в мучениях от бесов и в искушениях душевных — прибегать к заступничеству и покровительству Девы, как к родной Матери. Ибо, как я уже упоминал, он имел за обыкновение в мгновение опасности с простотой и нежностью дитяти бросаться в объятия сей державной Владычицы и, проливая живые слёзы, исполненный страха и недоверия к себе, вновь и вновь поверять Ей свою беду. Она же принимала его с материнской любовью и чуткостью, избавляла от тяготы, ему досаждающей, и осыпала тысячами милостей и даров.
Однажды его жестоко терзала мысль, внушённая бесом, что со временем он ослабеет на своём пути и падёт духовно, и падение это будет тем болезненнее, чем более славится он своим рвением. Прибегнув, как упоминалось, к Деве, он узрел Её духом; лик Её был исполнен столь нежной любви, что он от стыда не осмеливался поднять очей, дабы взглянуть на Неё. Она же ободрила его и в числе прочего сказала: «Алонсо, сын мой, где я, там нечего бояться».
В другой раз, во время жестокой простуды, злобные духи, воспользовавшись его телесным недугом, дабы вернее нанести удар, ополчились на него с другим, тягчайшим искушением — унынием. И когда увидели они, что дух его почти сломлен и смятен, то, сгрудившись, с новой силой принялись терзать его и с издевкой вопрошали: «Где же теперь его Мария?». Ну а Она тотчас показала им, сколь близка к своему Алонсо, и явилась ему во всей своей ласковой благости, одним Своим присутствием изгнав врагов рода человеческого, избавив болящего от телесной хвори и исполнив его душу небесной отрады.
Прислуживая на мессе, брат, как уже говорилось, не мог предстать Сыну, не почтив одновременно и присутствия Матери; а потому и от Неё получал в это время особые милости. Однажды Она сказала ему: «Не хочешь ли, чтобы и Я любила тебя, сын мой Алонсо, раз уж ты так любишь Меня?». В другой раз, в присутствии Иисуса Христа: «О, сын мой Алонсо, какой же безмерной любовью Я тебя люблю!». В иных же случаях, когда он прибегал к Ней как к заступнице, дабы испросить некую милость у Её преблагословенного Сына, Она отвечала: «Ради жизни твоей, сын мой Алонсо, я всё исполню». Ещё одним из его благочестивых обычаев в почитании сей Владычицы был тот, что любую свою просьбу к Богу он приносил чрез Её заступничество, а потому и не уходил никогда, не получив просимого.
Завершим же рассказ о дарах и милостях Девы одним столь знаменательным случаем, что его по праву можно было бы поместить в число первых. На острове Майорка, не далее чем в миле от города, есть небольшой холм, на вершине которого Иаков II, король Майорки, воздвиг крепость, по тем временам неприступную, — прекрасной кладки и столь прочного строения, что, хотя ей уже более трёхсот лет, она и сегодня кажется новой. Виды оттуда открываются прекраснейшие, а потому и зовётся замок Бельвер2.
Комендантом этого замка от имени короля, государя нашего, служил майоркинский кавалер по имени Педро де Пас, весьма знатный и состоятельный, занимавший также почётную должность прокуратора королевской казны на тех островах и облечённый властью, сопоставимой с вице-королевской. У него было четыре малолетние дочери, а именно: донья Исабель, впоследствии графиня де Савелья, и донья Пракседис, виконтесса де Рокаберти в Каталонии; Маргарита, составившая знатную партию на Майорке, и Каталина, умершая в девичестве. Он овдовел, и поскольку важные дела призывали его ко двору, то решил поместить дочерей в свой замок, дабы они воспитывались под присмотром его сестры, Хуаны Пас, особы преклонных лет и зрелого суждения, известной своей благочестивой сдержанностью и девственной чистотой, святость которой подтвердилась нетлением её тела и одежд, обнаруженным через шесть лет после её кончины, когда останки её переносили в великолепную яшмовую гробницу, что брат её повелел устроить для неё в одной из часовен церкви Св. Франциска на Майорке, где она и покоится ныне.
Эта сеньора исповедовалась у отцов Общества и под их руководством воспитывала в той крепости четырёх своих племянниц. Отцы часто поднимались туда, чтобы исповедовать их, служить для них мессу и причащать их. Случалось, что их сопровождал и брат Алонсо. И вот, идя однажды в сопровождении одного отца, весьма известного в тех краях, по имени Матиас де Боррасса, в жаркое время года, брат, страдавший от боли в ногах и обычной своей немощи, при подъёме на холм, который довольно крут, почувствовал себя вконец изнурённым. Пот градом катился по его лицу, но он, поглощённый мыслями о Боге и готовый с радостью принять не только это испытание, но и все труды мира, почти не замечал бежавшего по лицу пота. Он несколько отстал от отца, который также поднимался, читая молитвы, как вдруг к нему, источая благоухание и сладость, приблизилась Царица Ангелов.
Подобно тому как Она, по преданию, нежной милостью своей ободрила на труд святого брата-мирянина из Клерво², так и теперь Царица Небесная отёрла и очистила его лик платом, который держала в руках Своих. Брат, не менее смущённый, чем обрадованный этой милостью, легко одолел оставшуюся часть подъёма и, войдя в замок, уединился в уголке залы. Там, пока отец был занят своим служением, он пребывал неподвижно, словно поглощённый размышлением о полученном благодеянии.
Событие это произошло за много лет до его кончины. А в 1621 году, когда я с миссией прибыл в каталонское поместье графов де Пералада, мне довелось беседовать об этом случае с сеньорой виконтессой де Рокаберти.
Она поведала мне, что, будучи ещё девочкой, много слышала о святости брата Алонсо Родригеса и потому с особым вниманием наблюдала за ним. Она засвидетельствовала, что ни разу не видела, чтобы он поднял глаза и посмотрел на неё или на её сестёр, которые все тогда были детьми. И когда он долгими часами пребывал в замке, пока отцы занимались своими обязанностями, он обыкновенно стоял, прислонившись к каменной скамье, в столь глубоком созерцании, что домашние голуби безбоязненно садились на него, а он того не замечал и не отгонял их. Таким было его дивное самообладание, так велика была его внутренняя и внешняя собранность.
_____
¹ Антонио де Трехо (исп. Antonio de Trejo y Paniagua; 1564–1636) — испанский богослов, монах-францисканец. Служил генеральным викарием своего ордена, позднее был епископом Картахены и архиепископом Палермо.
2 Замок Бельвер (кат. Castell de Bellver — «замок с прекрасным видом») — готический замок XIV века, расположенный на холме в 3 км от центра Пальмы-де-Майорки. Служил резиденцией королей Майорки, позднее использовался как военная тюрьма.
3 Аллюзия на известный эпизод из жития св. Бернарда Клервоского, в котором повествуется, как Дева Мария чудесным образом утолила его жажду.
Почитание святых образов — благочестивый обычай, заповеданный святыми отцами и соборами, хотя и гонимый еретиками. Брат Алонсо питал к нему величайшее благоговение и извлекал из него особую пользу для души, как то можно будет заключить из нескольких случаев, которые я здесь приведу, оставив прочие, дабы не удлинять повествование.
Над главной дверью верхнего перехода в нашей Майоркской коллегии висел благочестивый образ Спаса с надписью по краю: Nam Deus est, quod imago docet; sed non Deus ipsa: Respice eam; sed mente cole, quod cernis in ipsa¹. Брат Алонсо по своему послушанию привратника много раз на дню входил и выходил через эту дверь, и всякий раз с особым благоговением совершал поклон святому образу. От него, как гласила молва среди его современников, блаженный брат получал многие озарения и небесные милости.
Среди прочего случилось однажды так, что образ заговорил с ним внятным голосом, разъяснил ему надпись, его обрамлявшую, и научил, как ему следует поклоняться: не останавливаясь на самом образе, но восходя мыслью, и ещё более — сердцем, к поклонению и почитанию Господа, Который в этом образе явлен. Этот урок так запечатлелся в душе нашего брата, что с тех пор при виде любого образа он тотчас возносил сердце к Богу; и, проникшись живым чувством божественного присутствия, мгновенно теряя из виду сам образ, оказывался в высочайшем созерцании Того, Кто на нём изображён.
Это станет понятнее из того, что рассказал однажды в моём присутствии один из его настоятелей. Брат Алонсо пришёл посоветоваться с ним по поводу своей мнительности: ему казалось, что он не почитает образы должным образом, ибо его мысль и сердце, не останавливаясь на них, тотчас устремлялись к почитанию на небесах Той Личности, что явлена на образе. Бес же смущал его, внушая, будто это и значит не обращать на образы внимания. Выслушав брата, духовник разъяснил ему, с какой целью Святая Церковь предлагает верным [почитать] святые иконы, и, благословив его и впредь не оставлять сего пути, совершенно рассеял его мнительность. Сам же отец, как он после не раз признавался, извлёк из этой беседы великую пользу и назидание для собственной души.
Особую нежность и благоговение питал он к образам «Ecce Homo»2 и Христа Распятого. В одной из его книг по этому поводу отмечено следующее упражнение:
«Проходя мимо образа Распятого Христа, помысли о том, что Господь претерпел за тебя и за весь мир, и возведи очи сердца твоего к небу. И познаешь, что Тот Господь, Которому в столь великой славе и Величестве поклоняются там ангелы, есть Тот Самый, Кто претерпел всё то, что являет сей образ, и много более — за тебя, ради твоей любви и спасения. Этим ты пробудишь сердце своё и скажешь: "Господи, чьё сердце не истает от любви к столь благому Владыке? Как могут люди жить в забвении, когда Ты, Создатель наш, столько сотворил и претерпел за них? Как же не служить Тебе всей душою и всем помышлением?"».
И далее он прибавляет: «Отсюда видно, сколь полезны святые образы, ибо они являют людям то, что Бог сотворил для них, дабы они воспламенились любовью к Нему, прониклись великой благодарностью и воодушевились ревностью о служении Ему. Но это должно происходить не на словах лишь только, а со всей искренностью — из глубины сердца, в духе и истине (ср. Ин. 4:24)».
Идя однажды со священником навестить больного, он увидел у входа в покой, где тот лежал, образ «Ecce Homo» весьма искусной работы. Он тотчас принялся совершать упомянутое упражнение, и рвение, которое сообщил ему Бог, оказалось столь велико, что он впал в восхищение, стоя на коленях перед картиной. Однако произошло это так незаметно, что лишь священник, выйдя после исповеди больного, заметил что-то необычное. Позвав брата раз и другой и видя, что тот не откликается, он понял, что происходит, и, дабы в доме ничего не заподозрили, сделал вид, будто ему нужно ещё о чём-то поговорить с больным, и пробыл с ним до тех пор, пока брат не пришёл в себя. Тогда, не подав и вида, что ему известно о случившемся, он вернулся с ним в коллегию и доложил обо всём настоятелю.
Выставлять напоказ подобные случаи — дело диавольское, и явной опасности подвергают себя те, кто не скрывает их, даже если Бог и ведёт их этим путём. Брат Алонсо, неизменно смиренный и сдержанный, редко, как известно, впадал в восхищение в обители или за её стенами там, где его могли бы увидеть, или в такое время, когда это помешало бы его послушаниям и общинным упражнениям.
Случилось однажды, что, стоя на коленях у одра умирающего и вознося молитвы об исходе его души, он на несколько часов погрузился в столь глубокое отрешение, что лишился чувств, и это не укрылось от взоров некоторых из присутствовавших. Подойдя к нему, они решили, что он умер, о чём и сказали священнику. Тот же, догадавшись, в чём дело, постарался отвлечь их и увести разговор в сторону, так что случай этот не получил огласки.
Пред Святейшим Таинством, до и после причастия, на хорах церкви, в своей келье и в других уединённых местах для него обычным делом было пребывать в глубоком созерцании, всецело погружаясь в Бога, но и тогда он не терял власти над собой, так что, едва лишь звон колокольчика или иное послушание призывали его к внешнему общению, он тотчас приходил в себя. Это дало повод отцу Матео Маримону, его духовнику, заявить в своих рукописях, что Бог даровал ему власть над экстазами и восхищениями (как другим — дар слёз), дабы он пользовался ими, как и когда пожелает.
В последний год жизни он держал у постели небольшой образ Девы. И весьма часто случалось, что стоило ему лишь устремить на него взор, как он тотчас возносился духом на небо и оказывался в присутствии Девы в чистейшем умопостигаемом видении, без всякого участия внешних или внутренних чувств. В те мгновения он не только не ощущал терзавших его телесных мук, но и удостаивался вкусить от того блага, что служило ему залогом грядущего блаженства, уготованного в вечности в великом избытке.
Возвращаясь же к теме образов «Ecce Homo» и Христа у столпа, [приведём ещё одно свидетельство]. Бернардо Марин, давний трудник нашей коллегии, муж великой правдивости и известной добродетели, который, дабы лучше служить Богу, удалился от мира и провёл жизнь свою в услужении отцам, удостоверяет, что однажды утром, находясь в притворе привратницкой, рядом с исповедальней, где его нелегко было заметить привратнику Алонсо, он видел, как тот долгое время с горячим чувством беседовал с образом Христа у столпа, что находился в том же притворе. И столь велик был пыл его в том беседовании, что он отразился на его лице, которое сияло дивной красотой, а из глаз его исходили два луча света, ясные, как пламя двух свечей. Лучи те то вспыхивали ярче, то стихали, скользя по образу, соразмерно пылкости, проявлявшейся в словах брата и воздыханиях его.
Ко всем святым и обитателям небесного Иерусалима он также питал глубокое благоговение. В особенности же он избрал себе двадцать четыре заступника, которым с великим тщанием вверял себя поочерёдно в течение двадцати четырёх суточных часов. Среди них были те, кого он с детских лет нежно почитал: славный патриарх св. Франциск, ибо в этом почитании воспитали его родители и потому, что его, как и нашего Алонсо, Бог призвал в Свою школу из купеческого сословия; а вторым — преданнейший служитель Девы, св. Ильдефонс, ибо его именем он был наречён в крещении. От обоих он получал милости поистине сверхприродные, ведь они в сопровождении Блаженной Приснодевы Марии, Владычицы нашей, ещё при жизни представили его Отцу Предвечному, как о том свидетельствуют вторая и девятнадцатая главы этой истории. С равным благоговением почитал он и святых ангелов, в общении с коими непрестанно возносил хвалу Богу, а ангелу-хранителю своему молился дважды в день с присущим себе радением.
После того как его приняли в Общество, Бог насадил в его душе благоговение пред св. Игнатием, отцом нашим. Алонсо с великой усладой читал его житие и с тем же чувством говорил о его деяниях и добродетелях. Несколько лет подряд ему поручали проповедовать в трапезной в дни октавы праздника в честь святого, и дивно было видеть, как, рассуждая о самообуздании, послушании и любви святого, он сам воспламенялся и воспламенял сердца слушателей желанием ему подражать. Подражание это он непрестанно имел перед глазами, как о том сам без обиняков признаётся в своей памятной записке, где, сказав, что в течение дня следует всегда предстоять Иисусу и Марии, прибавляет: «Также надлежит тебе помнить, что рядом с этими державными Владыками неотступно пребывают и блаженный отец Игнатий, и сонм небесный; они взирают на то, как ты живёшь, и тем самым увещевают тебя во всём угождать Богу и Деве Марии, Матери Его».
И в другом месте, продолжая упражнение, которое мы приводили в семнадцатой главе, он говорит: «Вместе с Иисусом и Марией ты должен созерцать и блаженного отца Игнатия, и великое множество ангелов, что их сопровождают, дабы им подражать. И порой подобает совершать это не только представляя их пред собой, но и внутри себя».
Так говорит брат, и в этом, без сомнения, и заключается истинное почитание святых: всегда предстоять им, непрестанно их любить и запечатлевать в душе своей их добродетели.
_____
¹ Ибо Бог есть то, на что указывает образ; но сам образ — не Бог. Взирай на него, но умом почитай Того, Кого видишь в нём (лат.).
2 Ecce Homo (лат. «Се, Человек») — слова Понтия Пилата об Иисусе Христе (Ин. 19:5). В иконографии — изображение увенчанного тернием и истерзанного Христа.
От молитвенных правил, от богообщения, от любви к Богу и святым Его, о чём мы говорили в предыдущих главах, рождается любовь к ближнему и желание, чтобы все люди мира вечно наслаждались во славе высшим благом в общении с блаженными духами. Наш досточтимый брат Алонсо Родригес стяжал сию добродетель в такой полноте, что нельзя не подивиться той гармонии и созвучию, что обрели в его душе две эти дивные любви — к Богу и к ближнему.
Среди его бумаг нашлось одно упражнение в святой ревности, которое он совершал в начале своего пути, и он описывает его такими словами:
«Второе упражнение заключается в том, чтобы, предстоя Богу, по левую руку представлять себе всех людей мира, глубоко сострадая им, как самому себе, из-за великой опасности, в которой все мы живём, — опасности оскорбить Бога и погибнуть. Возлюби их до такой степени, чтобы желать претерпеть все муки адские с помощью благодати Божией, лишь бы все служили Ему и никто не был осуждён.
По правую же руку представь великую ревность о славе Божией, движимый пламенной, двоякой любовью — к Богу и к ближним твоим, — и да наберёт она такой силы, чтобы ты был распят на кресте этих двух любовей. А между ними да пребудет в сердце твоём бесконечное желание спасения мира, и для того неустанно испрашивай у Бога тройного дара: ревности о славе Его, великой любви и сострадания к ближним и спасения для всего мира, — и всё во славу Божию».
Благодаря этому и другим упражнениям, которые он совершал, Господь наш явил ему милость, даровав столь великую ревность о славе Своей и о спасении душ, что он с великим пылом предлагал себя на муки адские с помощью благодати Божией, лишь бы люди не оскорбляли Его. Он посвящал большую часть своих молитвенных правил и покаянных подвигов именно этому, и уповал, что будет услышан. Размышляя об этих желаниях, он признал их истинными и глубокими; ему открылось, что, если бы Бог и впрямь даровал ему такую участь, он принял бы адские муки с радостью и веселием, не чувствуя ни малейшего отвращения.
Так он сам говорит в одной из своих исповедей, или отчётов о совести, словами, которые ясно дают нам понять, сколь преуспел сей святой брат-мирянин в ревности о душах, весьма свойственной мужам апостольским.
«Сия двойственная любовь великая, — говорит он, — к Богу и к ближнему, так крепко терзает сего человека, что он претерпевает великое мученичество любви, рождённое из ревности о славе и чести Божией и из сострадания к спасению душ. Ибо для души, горящей любовью к Богу и ближнему, нет большей муки, чем видеть, как многие гибнут и навсегда отправляются в ад, лишаясь возможности вечно наслаждаться Богом. А потому много раз, днём и ночью, прося у Господа спасения для всего мира, он говорит Ему так: "Да претерплю я, Боже мой, все муки адские с помощью благодати Твоей, лишь бы Тебя, Господи, не оскорбляли, и ни одна душа не подверглась осуждению, но чтобы все мы созерцали славу Твою и служили Тебе с безмерной любовью и благодарностью".
И когда он размышлял об этом пламенном порыве — о готовности занять место любого, осуждённого на адские муки, и страдать с Божьей благодатью, покуда будет на то воля Его, — ему открылась в глубине сердца истина: он принял бы эти муки не только без отвращения, но с радостью и веселием».
Господь наш вознаградил сию столь пламенную любовь и ревность о спасении душ одной из редчайших в сем роде милостей, о каких только доводилось слышать. Приведём же рассказ о ней собственными словами брата, для вящего удостоверения в истинности сего случая и к утешению и удовольствию читателей. Не сомневаюсь, что они почерпнут из сего события особое воодушевление и желание посвятить себя, — если иным послужить не дано, — оплакиванию грехов мира и попечению о спасении душ в молитвах, воздыханиях и слезах.
Ибо из дальнейшего повествования читатель увидит, сколь великое сокровище есть совершенная любовь и сколь безмерна щедрость Божия. Ведь Господь вознаграждает благие порывы души как деяния, и сердечные воздыхания простого брата-мирянина так угодны Ему, что Он дарует за них залог вечной славы, равный награде, уготованной мужам апостольским, коим вверено обращение мира.
Один из настоятелей досточтимого брата, муж великой учёности и духовной жизни, под присягой свидетельствовал о следующем. Однажды пришёл к нему Алонсо спросить, может ли человек находиться в одно и то же время в разных местах. Получив утвердительный ответ, святой брат прослезился от утешения и устно поведал ему о том, что случилось с ним незадолго до того, а после, по приказу настоятеля, изложил это письменно. Вот что он пишет:
«Столь пламенной ревностью о спасении душ горел сей человек, что ему случалось духом пребывать со всеми людьми, какие только есть в мире, в одно и то же время, — весь во всех и весь в каждом. И, обращаясь духом к каждому в отдельности, он в то же самое время говорил со всеми о краткости жизни, о муках адских, о славе райской, о безмерной благости Божией и о том, сколь великой любви и поклонения от всех Он достоин. И старался он избавить их от заблуждений, дабы все поклонились Богу и спаслись.
Столь велико сострадание и томление, которые испытывает сей человек от жажды блага для душ и спасения их, что, если бы Бог не отвлекал тогда его ум иными добрыми помыслами, эта мука сострадания возросла бы до такой степени, что её достало бы, чтобы лишить его жизни. Ибо Бог сообщил ему некоторое познание о том, сколь бесконечно Он достоин поклонения и сколь многим все мы Ему обязаны, а потому он от всего сердца желает, чтобы весь мир поклонялся Ему истинно.
И поскольку Господь дал ему заодно ощутить и ужас адских мук, он испытывает великое, смертное сострадание, желая, чтобы все спаслись и никто не подвергся осуждению. Сверх того, по милости Божией он имеет некоторое представление о [божественной] славе и познание её, а потому горячо желает, чтобы все созерцали её, даже если бы ему самому пришлось за это претерпевать адские муки всё то время, пока будет угодно Богу, — но, сохраняя любовь к Нему и укрепляясь Его благодатью. И он почитает это за особую милость и собственное благо, лишь бы не оскорбляли Бога, Господа нашего, и не подвергся осуждению ни один человек, искупленный кровью Иисуса Христа.
Он горел желанием говорить об этом и убеждать в этом всех людей мира, увещевать их поклоняться Богу, избавлять их от заблуждений, дабы они избегли осуждения и поклонялись Ему истинно. И вот, когда он пребывал в этом великом порыве к спасению всех и к деятельному труду ради того, Господь ответил ему, явив, что за эти его благие и пламенные желания ему будет дана награда, словно бы он и впрямь совершил это и обратил в истинную веру и благочестие всех людей мира, наставив их на истинный и верный путь блаженства».
Два обстоятельства в этом повествовании особенно примечательны и позволяют составить должное понятие о любви и сострадании к ближним, что пламенели в груди досточтимого брата.
Первое: как Бог, дабы в некоей мере удовлетворить его желания, сверхъестественным и божественным образом соединил его со всеми людьми на земле, дабы он мог увещевать их презреть любовь к миру и вступить на истинный путь вечного спасения.
Второе же: как Он, со щедростью, равной Его могуществу, явил ему, что эти желания будут вознаграждены той же наградою и мздою, какая была бы им уготована, если бы он и впрямь их исполнил, ибо не по его вине они не свершились.
О св. Павле говорит св. Иоанн Златоуст, что тот готов был претерпеть муки адские, лишь бы иудеи обратились, — выводя это из того, что апостол пишет к Римлянам, в главе 9: Optabam ego ipse anathema esse a Christo pro fratribus meis, qui sunt cognati mei secundum carnem («ибо я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». — Рим. 9:3). И в другом месте Златоуст прибавляет, что столь искренни были эти его порывы и проистекали из столь великих желаний и томлений о спасении того народа, что мука, которую причиняло ему зрелище братьев его, отлучённых от лона истинной веры, была для него бо́льшим мученичеством, нежели то, что причинили бы ему сами муки адские: Gravius afficiebatur, quam hi, qui in gehenna cruciantur («Он страдал тяжелее, чем те, кто мучатся в геенне» — лат.). И в этом Златоуст с полным основанием находит величайшее совершенство и высочайшую степень любви и милосердия к ближнему, какими обладал св. Павел.
В этом и подражал ему наш пламеннейший и исполненный горячей любви брат Алонсо, непрестанно нося в сердце своём, словно тесный венец, две пламенеющие любви: к Богу и к ближнему -- и будучи распят томлением о спасении мира. А потому никто не должен дивиться, что Бог обещает вознаградить эти его желания и двойную любовь наградою, подобной той, что Он даровал Апостолу, ибо и ему Он даровал её за ту любовь и сострадание, которыми сопровождались великие и героические деяния, совершённые им при распространении веры и основании Святой Церкви.
Ибо, когда устремления истинны и основательны, они не остаются бесплодны, но переходят в дело, насколько то позволено тому, кто их питает. Потому-то брат Алонсо и содействовал делом проповедникам и делателям в винограднике Господнем, насколько мог, сообразно своему положению [в Церкви и обществе], — главным образом, молитвами и слезами, не менее, впрочем, действенными и важными для стяжания евангельского плода, чем сами проповеди, наставления и другие духовные служения. И так случалось порой, что воздыханиями и стенаниями святого привратника удавалось достичь того, чего не могли добиться ни искусно составленные проповеди, ни умиротворяющие беседы знаменитейших проповедников.
Однажды, молясь о двух отцах, которые проповедовали в своих приходах во время Великого поста, он увидел, как Дева, Владычица наша, берёт их под Свою защиту и покровительство, возлагая одну руку на одного, а другую — на другого. В другой раз, когда он усердно молился о тех же отцах, Господь наш явил ему, сколь угодны Ему их труды и какое назидание они оба подают на своих местах. Один из них обладал выдающимся дарованием, и плодов от него ожидали соответствующих. Когда брат испросил о том божественную Благость, получил ответ, что если сей отец желает пожинать от своей проповеди плоды, подобные тем, что собирали святые древности, то пусть сопроводит своё учение и дарование героическими добродетелями, в особенности же — глубоким смирением.
Это чувство пребывало с ним в молитве многие дни, а потому, с одобрения настоятеля, он решился объявить тому отцу о приговоре, который вынесли его проповедям на небесах, указав ему на некоторые недостатки, которые необходимо исправить для того, чтобы проповеди его приносили больше пользы слушателям. Учёный проповедник выслушал смиренного брата-мирянина, принял небесное вразумление, устыдился пред Богом, предался стяжанию смирения и других основательных добродетелей, и заметили, что по мере того, как он возрастал в добродетели, возрастало и действие его проповедей на народ, и плоды, которые они приносили.
Особенно примечательно это было в дни, последовавшие сразу за тем вразумлением. Когда отец проповедовал, а брат вверял его Иисусу и Марии, оба они, по их признанию, стяжали особое благодетельство Божие, и среди слушателей наблюдались замечательные проявления духовного роста. После этого тот отец стал весьма почитать нашего брата Алонсо.
В следующий Великий пост, когда его одолела простуда, перешедшая в сильный кашель и лишившая его возможности проповедовать, брат стал молиться о нём и услышал, как Дева говорит ему: «Алонсо, я беру его на своё попечение и помогу ему, как и обещала». Исход дела подтвердил правоту Её слов, ибо в самом разгаре своих проповеднических трудов он оказался совершенно здоров.
Несколько лет спустя священник тот, находясь вдали от Майорки, страдал от приступов головокружения, которые делали его неспособным к исполнению проповеднических обязанностей. Как только брат Алонсо проведал о том, он начал молиться о нём Богу и ощутил в молитве необычайную радость, хотя и не знал, чему её приписать, пока из писем не стало известно, что тот отец обрёл здоровье. Однако с таким рвением принялся он трудиться на благо и пользу душ, что через несколько лет жизнь его прервалась, и он, смеем надеяться, достиг небес, дабы насладиться наградой за свои труды и узреть Деву, нашу Владычицу, слугою Которой он себя именовал, нося в знак того железные вериги, которые и нашли на нём после кончины.
То же рвение и пламенное усердие, с которыми брат Алонсо помогал проповедникам, дабы они стяжали желанный плод в душах, подтверждается и другим, ещё более необычным случаем.
Один из главных городов королевства Майорка пылал в огне усобиц и вражды. Множество людей гибло с обеих сторон; никто днём не решался без опаски возделывать своё поле или виноградник, а ночью не чувствовал себя в безопасности и в собственном доме. Двери укрепляли, выставляли дозоры, словно на вражеской границе. Слуги правосудия не отваживались и шагу ступить без надёжной охраны из всадников и аркебузиров.
Вице-король и Королевская аудиенсия обратились к ректору нашей коллегии, прося направить в тот город нескольких отцов с миссией, дабы те попытались умиротворить враждующих. Тот взялся за дело, уповая на молитвы Алонсо. Изложив суть дела, он велел ему принять оное близко к сердцу. Два отца отправились в путь, а брат остался молить о помощи Деву, к Которой всегда прибегал в подобных обстоятельствах. Через несколько дней он получил ответ, что мир будет заключён ко всеобщему благу.
Отцы прибыли на место, и хотя тот из них, кому предстояло проповедовать, обычно не обладал тем красноречием, какового требовала задача, в этот раз Бог даровал ему силу слова в преизбытке, дабы покорить сердца. После нескольких проповедей одна сеньора, у которой убили мужа, зятя и сына, подписала публичный акт о прощении; её примеру последовали и многие другие. Люди уже не помышляли ни о чём, кроме как об оплакивании своих грехов.
Весть о столь добром начале дошла до вице-короля, и он попросил ректора лично отправиться на помощь отцам. В сопровождении его поехал и капитан местного ополчения, знатный кавалер. Они привезли с собой охранную грамоту от Королевской аудиенсии, дабы те, чьи руки были запятнаны кровью междоусобицы (vandidos), могли прийти послушать проповеди и побеседовать с отцами. Те воспользовались случаем, услышали слово Божие и исповедали свои грехи. Все причастились, а после в той же церкви собрался круг из сотни человек, наиболее пострадавших с обеих враждующих сторон. Ректор говорил с ними о мире, капитан взял слово, нотариус зачитал акт о прощении, и они обнялись друг с другом. Наиболее пострадавшая сторона устроила для всех торжественное угощение, и в городе на многие годы воцарился мир.
Дело это, воистину, от Всевышнего, и свершилось оно по заступничеству Его Пресвятой Матери, внявшей ревностным молитвам кроткого и миролюбивого Алонсо. Среди прочих обстоятельств было и одно, удостоверяющее, что это событие носило совершенно сверхъестественный характер. Ибо когда один добрый старик бродил по горам в поисках двух своих сыновей-изгоев, дабы склонить их к миру, и, не найдя их, уже отчаялся и готов был повернуть назад, из-за кустов вышел миловидный отрок и спросил его: «Отче, что ищешь?». «Ищу, — отвечал старик, опасаясь, как бы тот не был соглядатаем от противников, — осла, что забрёл в эти горы». «Не осла ты ищешь, — сказал отрок, — а сыновей своих. Видишь тот холм? Они там, я их только что там оставил. Поверни направо, и ты их найдёшь». И, сказав это, исчез. Старик нашёл своих сыновей, рассказал им о случившемся, вернулся с ними в город, и они также присоединились к мирному договору.
Другой признак совершенной любви к ближнему есть сострадание к его тяготам и бедам, как телесным, так и духовным, и желание облегчить их. В этом брат Алонсо также оставил нам множество примеров.
Однажды бедная женщина мучилась тяжкими родами. Позвали священника, чтобы её исповедать, а в спутники ему дали нашего брата. Живейшую скорбь вызвало в нём зрелище того, как в доме уже дожидался хирург, готовый, как только женщина испустит дух, тотчас рассечь её, дабы спасти дитя, чтобы оно успело принять купель святого крещения. Брат сострадал и умирающей телесно матери, и дитяти, коему грозила погибель духовная. Он тотчас начал молить Бога о них.
Вернувшись в обитель, он преклонил колена пред Святейшим Таинством, и там, уязвлённый в самое сердце состраданием, в героическом порыве принёс Господу нашему в жертву за ту женщину все добрые дела всей своей жизни, с радостью лишаясь столь великого сокровища, лишь бы помочь им в нужде. Господь наш благоволил услышать его и даровать просимое: с той самой минуты Он ниспослал женщине столь совершенное здоровье, что три или четыре дня спустя, когда священник с тем же спутником пришёл в её дом, они застали её у порога за работой. Она же призналась, что Бог исцелил её чудесным образом, за что брат воздал Ему должное благодарение, а ещё более — когда узнал, что вскоре она благополучно разрешилась от бремени.
Другая особа, весьма достойная, оказалась в великой скорби и опасности из-за некоего искушения и духовной тяготы. Она поведала о том брату Алонсо, со слезами прося его испросить у Бога помощи. Он внушил ей благую надежду и, когда пришёл на молитву, дабы говорить о том с божественным Величеством, столь воспламенился любовью и состраданием к той душе, что просил Господа нашего перенести на него ту тягость, которую он с радостью готов был нести все дни своей жизни, лишь бы та особа избежала опасности. И получил он ответ, что та, за кого он просит, избежит опасности, в которой пребывает, но сие дорого обойдётся ему самому, ибо он за неё поручился.
Так и случилось: тотчас его постигла жесточайшая боль в желудке, какой он никогда прежде не испытывал. Она мучила его несколько дней, а после возвращалась ещё несколько раз, хотя и с меньшей силой, пока наконец (вероятно, когда он до конца искупил долг другого) не оставила его вовсе.
Когда в 1613 году королевство Майорка постиг великий голод, а в преддверии следующего, четырнадцатого, года ожидали ещё большего, настоятели повелели брату Алонсо взять на себя попечение молить Бога об избавлении от этой напасти. И дабы подвигнуть его к тому с бо́льшим усердием, они описали ему бедственное положение края: люди уже умирали от голода, а запасов пшеницы на острове не хватило бы и на месяц пропитания, и все сословия совершали крестные ходы и публичные покаяния, дабы умилостивить Господа нашего.
Это весьма тронуло его, и столь многочисленны были его воздыхания и стенания к Богу, и столь велико сокрушение сердца, с которым он пребывал в те дни, что не находил он себе покоя, пока однажды Господь наш не утешил его словами: «Алонсо, не скорби, ибо в необходимом у них не будет недостатка, хотя и не обойдётся без тягостей».
Вскоре это обещание дивным образом исполнилось: Бог позаботился о королевстве, ибо из чужих краёв подвезли достаточно пшеницы, причём так своевременно, что, когда заканчивались запасы из одного места, прибывал корабль из другого с провизией на пятнадцать или двадцать дней, а когда и они подходили к концу, являлся следующий, так что никогда не пришлось ощутить той крайней нужды, что стояла у них перед глазами.
И хотя на острове едва собрали то количество зерна, что было посеяно, да и то уродилось столь худым, что не годилось для выпечки хлеба, Богу было угодно, чтобы, вновь вверенные земле и благостно орошённые с небес, летом 1614 года семена принесли столь обильный урожай, что по случаю этого чуда начались благодарственные крестные ходы и всенародные празднества. Обилие же это брало своё начало в сострадании нашего брата Алонсо, и слёзы его стали как бы дождём, что оплодотворил ту землю. Вот сколь важно для королевств иметь своего ходатая пред Богом.
Ревности о славе Божией и спасении душ, что пламенела в груди досточтимого брата Алонсо, было мало помогать ближним в их духовных и телесных нуждах одними лишь молитвами, слезами и воздыханиями. Она изливалась вовне лучами скромности и внешней собранности, кротостью нрава и беседами, исполненными горячей любви к Господу нашему, которые он вёл с теми, кто приходил с ним пообщаться. Этими беседами он воспламенял их и производил в них примечательные перемены.
Можно с уверенностью сказать, что за все те годы, что он служил привратником, ни один человек не вступил в Общество в Майоркской коллегии, не поведав ему прежде о своих устремлениях или не загоревшись ими в беседе с ним и при виде его примера. Он говорил о явлениях иной жизни с такой основательностью и глубоким чувством, что немногими словами покорял самое ожесточённое сердце. Так, посредством бесед и духовных наставлений, которые отец наш святой Игнатий в Уставе заповедует братьям-коадъюторам, он произвёл значительные улучшения и перемены во многих душах, которые, движимые тем, что видели и слышали от брата Алонсо, оставляли мир и удалялись в надёжную гавань монашеской жизни.
Приведём здесь три или четыре примера, касающихся тех, кто уже почил и чья блаженная кончина позволяет нам говорить о них, удостоверяя, сколь добрым было начало их монашеской жизни, которому они научились у нашего привратника.
Доктор Бартоломе Вальперга вернулся из Италии на родину, в город Майорку, дабы уладить домашние дела и затем отправиться ко двору хлопотать о более высоких должностях, соответствующих его юридическим познаниям. Он привёз с собой множество бумаг, свидетельствовавших об услугах, оказанных им королю, государю нашему, в Неаполе, а также письма и рекомендации от тамошнего вице-короля и других сановников. С такими бумагами, да при его немалых дарованиях и талантах, он был преисполнен самых радужных надежд и прочил себе одно из высших мест на том острове.
Прежде чем отправиться в Италию, будучи ещё студентом, изучавшим латынь и свободные искусства в школах нашей Майоркской коллегии, он запросто общался с братом Алонсо. Тот, узнав теперь о его возвращении и о притязаниях, с которыми он приехал, движимый загадочным внутренним побуждением, искал случая поговорить с ним. Доктор и сам добивался этой встречи и, как другу, поведал брату о своих путешествиях, честолюбивых расчётах и покровителях, прося его молить Господа нашего о добром успехе.
Рассудительный брат терпеливо выслушал его речь, а когда тот закончил, взял слово и начал говорить о краткости жизни, о строгости отчёта, который предстоит дать, об опасностях его положения. Он показал ему, что те надежды, которые рисовало его воображение, — лишь золотые горы и воздушные замки, и с тонким искусством постарался страхом Божиим смирить гордый дух соискателя, воспаривший на крыльях тщетных упований.
Беседа их была довольно долгой, и вышел после неё доктор совсем не тем, каким пришёл. В одно мгновение переменившись в помыслах и желаниях, он решил удалиться от мира, приняв лучший образ жизни. Он принёс генеральную исповедь, привёл в порядок домашние дела и удалился в уединение, приняв облачение картузианца в монастыре Иисуса Назарянина, что стоит в весьма живописном месте на том же острове Майорка. В нём он прожил многие годы, подавая превосходный пример, и дослужился до приора той же обители. Впоследствии орден направил его ко двору по важным делам, где он и окончил свою жизнь в славе святости. Перед отъездом он много беседовал со своим старым наставником, братом Алонсо, и, словно предчувствуя, что более не вернётся в те края, оставил ректору нашей коллегии письменное свидетельство, подписанное собственною рукой, в котором рассказал о том, что произошло с ним по молитвам брата, и о том, какого высокого мнения он о его благочестии.
Из той же школы нашего привратника Господь взял для Своей Церкви в Новом Свете и отца Херонимо де Моранта, сына благородных родителей из города Майорки. Ещё в детстве небеса предварили его святыми дарами кротости и благонравия. Наш брат Алонсо питал к нему сердечную любовь и несколько лет был его духовным наставником, пока тот, по его увещеваниям и примеру, не решился вступить в Общество. В новициате, в учении и при служении его священническом всегда явственно сказывалось, сколь благим млеком духовным он напитался в начале своего пути.
По его прошению настоятели отправили его в Индии. Перед отъездом ему велели навестить мать, которая всё ещё жила на Майорке, и по этому случаю он вернулся в тот город и в ту коллегию, где снова общался с братом Алонсо и получил от него множество советов и наставлений для своей миссии. Укреплённый ими, а также заручившись обещанием его молитв, он отправился в путь с таким воодушевлением, что все трудности казались ему ничтожными; упование же на заступничество брата оказалось столь велико, что величайшим утешением в странствиях ему служил написанный с натуры портрет Алонсо, который он тайком заказал. Портрет этот он показывал в коллегиях нашим братьям, сопровождая рассказами, что наполняли провинции, через которые проезжал, благоуханием добродетелей и чудес этого святого.
Прибыв на место назначения — в Новую Испанию, — он, как говорится в одном донесении о его мученической кончине, отправленном нашему отцу-генералу, так проявил себя, что испанцы не знали для него иного имени, кроме как «Святой». Он посвятил себя миссии среди индейцев-тепегуанов, которых разыскивал в горах и на вершинах, где они жили, и собирал их в поселения, сам обучая их возделывать землю, делать саманные кирпичи и строить дома. Долгое время он жил в поле под навесом из грубой ткани, без всякой иной защиты. Там у него был алтарь, на котором он служил мессу, а у подножия его он отдыхал, бросив на землю воловью шкуру, чтобы немного поспать. Пищей ему служила жареная кукуруза, а величайшим лакомством — варёная, с водой без соли. Жалование, которое Его Величество назначает миссионерам, он раздавал индейцам как милостыню. Лишь после долгих уговоров удалось убедить его принять немного сухарей, дабы поддерживать жизнь в тех суровых краях.
Однажды, когда настоятель отправился навестить его, он нашёл его более чем в тридцати лигах от его прихода, на равнине среди высоких гор и хребтов, в своём шатре из грубой ткани; ряса его была изорвана в клочья, борода и волосы всклокочены, как у древних отшельников. Он ожидал нескольких индейцев, которые попросили его о крещении и отправились собирать своих, дабы основать там селение. Единственным его желанием было мученичество, которое ему уже предсказывали те, кто знал его дух.
Он принял его во время дьявольского мятежа упомянутых индейцев-тепегуанов, которые лишили его жизни, размозжив ему голову палками, в субботу, 19 ноября 1616 года, за одиннадцать месяцев и несколько дней до блаженной кончины брата Алонсо. Тело его осталось лежать на том самом месте, где его убили (то была дорога вдали от селений), в течение трёх месяцев. По прошествии этого срока его нашли испанцы, которые по приказу вице-короля Новой Испании отправились наказать и усмирить мятежников. Тело его было цело и не тронуто тлением, нагое (ибо убийцы сняли с него одежду), опоясанное по нагой плоти волосяной верёвкой. Рядом с ним лежала проповедь на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, которую он должен был произнести в селении Сан-Игнасио-дель-Сапе, куда они направлялись вместе с другим отцом, по имени Хуан Фонте, его давним спутником, также из Арагонской провинции, когда их обоих предали мученической смерти.
Проповедь также была цела, а рядом с останками двоих святых сидел пёсик, который не отходил от них все те три месяца, хотя в то время шли сильные дожди и снега, а местность та изобиловала дикими зверями. Генерал испанцев, дон Гаспар де Альбеар, кавалер ордена Сантьяго и губернатор Новой Бискайи, найдя святые мощи, преклонил колена и с благоговением почтил их, а затем повелел перенести их в ближайшую обитель Общества.
Бог принял жертву этих блаженных отцов и служителей Своих in odorem suavitatis¹; а потому и благоволил, чтобы тела их остались нетленными. Я рассказал обо всём этом вкратце, ибо история эта в немалой степени свидетельствует о достоинстве учения и святости брата Алонсо, — ведь тот, кого Бог избрал для венца мученического, был сперва его сердечным учеником, а после — проповедником и глашатаем его добродетелей, ещё при жизни почитавшим его портрет.
Сальвадор Кустурер, юноша был юношей благородного происхождения, светлого ума и приятного нрава, отчего наставники и товарищи горячо желали видеть его в числе иноческой братии. Но поскольку даровать истинное призвание — во власти одного лишь Того, Кто сказал: Non vos me elegistis, sed ego elegi vos («Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». — Ин. 15:16), отцы много раз просили брата Алонсо испросить о том Бога. После многих настояний он ответил, что отцам самим подобает взять решение на себя, а он им поможет. Блаженный брат взялся за дело с усердием и несколько дней просил о том Господа нашего, и, видимо, получил благоприятный ответ, ибо сказал, чтобы к нему привели юношу, так как он хочет с ним поговорить, «дабы, — прибавил он, — Господь довершил в нём Своё дело».
Он сказал ему несколько слов об обязанности, которая лежит на всех нас, — служить нашему Создателю всеми нашими силами, — и слова его так распалили сердце юноши божественной любовью, что он тотчас с огромным воодушевлением попросил у отца-провинциала (который случайно находился тогда с визитом в той коллегии) принять его в Общество, и был принят. Он образцово прошёл новициат и курс наук. В конце же обучения Господь наш призвал его к Себе с явственными признаками того, что уготовал ему славу. Брат Алонсо называл его: Filius Orationis (Сын молитвы).
Нельзя умолчать и о призвании в Общество отца Рафаэля Ольера, ибо, прожив в нём многие годы ко всеобщему назиданию и потрудившись на ниве проповеди с кафедры и амвона, он, уже будучи профессом четырёх обетов, окончил свой путь как добрый взбранный воин, совершая славную миссию на острове Менорка, где его почитали при жизни и по смерти как мужа апостольского.
Говоря в своей памятной записке о том, что произошло при призвании этого священника, брат Алонсо пишет так: «Когда отец Ольер, в ту пору ещё учащийся в нашей обители, ощутил призвание в Общество, он пришёл советоваться об этом с сим человеком, и, думаю, ни с кем иным, причём несколько колебался в своём призвании. Видя же его нерешительность, сей человек принял его дело близко к сердцу и решил сам просить о нём Господа нашего. В молитве он всецело предал отца Ольера в руки Божественного Величества, искренне моля Его устроить всё так, как будет к вящей славе Его. И столь полным было его доверие Богу, и столь велико радение о просимом, что в молитве ему открылось, как Господь Сам принимает это дело на Своё попечение.
Вскоре после этого юноша утвердился в своём решении и был принят в Общество. После вступления бес снова искушал его касательно призвания; и сей человек, будучи первым, с кем тот говорил о своём намерении вступить в Общество, вынужден был побеседовать с ним, дабы укрепить его в надежде с помощью благодати Божией победить искушение. Встреча пошла на пользу, и отец Ольер утвердился в своём благом намерении. Вскоре после этого (как я полагаю) он снова подвергся искушению, но не пал, ибо Господь, изначально взявший его под Своё покровительство, не оставлял его и впредь. Ибо тех, кого Бог нарекает Своими, никто не исторгнет из рук Его (ср. Ин. 10:29), и так, с помощью благодати Божией, он пребывает в своём призвании и поныне. Блажен тот, кого хранит Господь».
Отец Диего Саура, уроженец острова Менорка, где почил отец Рафаэль Ольер, и его духовный ученик, который незадолго до этого предал душу свою Богу в городе Маниле на Филиппинских островах, также был из тех, кому брат Алонсо помог вступить на стезю иноческой жизни. Об этом и о других особых случаях, которые произошли с ним при общении с братом, отец повествует в письме, написанном в Мехико 26 февраля 1621 года. Он пишет так:
«При жизни святого брата я весьма неотступно просил его (когда встречал, а когда нет — просил передать просьбу), чтобы он молился обо мне Богу. Побуждало меня к тому великое желание в точности исполнить волю Божию. Однажды, когда я послал к нему с этой просьбой привратника, святой велел передать мне в ответ такие слова: "Скажи этому студенту, чтобы был спокоен, ибо я помню о нём и не забуду; и если он желает исполнить волю Божию, пусть вступает в монашество".
Позже, когда я навестил его в келье, где он лежал весьма больной, он сказал мне, что Бог призывает меня в Общество, и что примут меня очень скоро. И из слов его я заключил, что это произойдёт через несколько месяцев, в точно назначенный срок, — так и случилось. В другой раз, навещая его, я просил, чтобы он и в этой жизни, и в иной, когда будет наслаждаться лицезрением Бога, молился обо мне. Он трижды раз за разом заверил меня, что исполнит мою просьбу. И хотя я всегда ощущаю его заступничество и верю в истинность его слов о том, что в иноческом образе я исполню волю Божию, но с особой силой ощутил я его помощь после его кончины. Ибо в течение пятнадцати или двадцати дней, а то и более, одно лишь воспоминание о нём так воспламеняло моё сердце, что все эти дни я пребывал, охваченный необычайно горячим чувством, словно денно и нощно находился в непрестанной молитве, и ни на миг не утихал в груди моей тот огонь любви. Я уразумел источник сего дара и твёрдо уверовал, что святой брат Алонсо пребывает на небесах, даже если бы я и не слышал, что Бог творит через него чудеса».
После смерти того же отца нашли ещё и другие бумаги, написанные его рукой, — это оказался его духовный дневник, — и там он многократно упоминает брата Алонсо Родригеса, повествуя о том рвении и плодах, что рождала в его душе сладостная память о брате, и о той милости, что он обретал по его заступничеству. Приведу здесь один отрывок, где он говорит о советах, которые тот ему, ещё мирянину, дал перед вступлением в Общество.
«В другой раз, — пишет он, — я пришёл навестить его с товарищем, который должен был вступать в орден вместе со мной, и он сказал нам: "Завещаю вам с величайшим благоговением чтить Пресвятую Деву, и сугубо — тайну Её Непорочного Зачатия. Ежедневно читайте в память о сей тайне двенадцать "Радуйся, Мария" и двенадцать "Радуйся, Царице". Молите Её предстательствовать за вас перед Своим Пресвятым Сыном, дабы Он, ради Её совершенной чистоты от всякого греха, как первородного, так и личного, и вас сохранил от падений и соделал чистыми и непорочными, словно ангелов земных, дабы по кончине вашей вы удостоились лицезреть Её и наслаждаться общением с Ней и с Её преблагословенным Сыном на небесах. При любых затруднениях тотчас обращайтесь к Деве, как малое дитя, которое, едва его обидят, бежит к своей матери: 'Мама, мама!'". И эти последние слова он произнёс с такой искренней нежностью, скрестив на груди руки, что я был глубоко тронут».
Душа отца Диего Сауры, воистину, принадлежала к числу чистейших, какие только были в то время в Обществе, ибо он связал себя обетом не только соблюдать все его Правила, но и во всяком деле избирать путь наивысшего совершенства. Обет этот он написал кровью, которую извлёк, сделав разрез на своей груди, а после составил пространный перечень всех добродетелей и совершеннейших их проявлений. И обязался он соблюдать всё это, как было написано, с помощью благодати Божией и под руководством святого послушания. И так как с юных лет он отличался великой склонностью к добродетели и усердием в подвигах благочестия и покаяния, то совесть его во всю жизнь оставалась спокойна, не зная смущения ни от сего обета, ни от какого-либо иного поступка. И даже будучи студентом-мирянином (я знавал его тогда и несколько дней был его наставником по риторике), он отличался такой скромностью и нескрываемым благочестием, что это было заметно всем. Он внутренне непрестанно предстоял Господу нашему, и сей благодатный дар впоследствии достиг в нём, уже в Обществе, высочайшей степени. И сколь сильно враг чистоты преследовал его, столь же щедро благодетельствовал ему Бог со святыми Своими, оделяя его милостями и сверхъестественными дарами.
Из нашей Арагонской провинции он отправился в Индии, в провинцию Филиппинскую, с пламенным желанием мученичества. Бог же, взамен него, послал ему многие недуги и болезни, в особенности последнюю, которая была долгой и тяжкой и вызвана служением индейцам, которому он с великим рвением посвятил те немногие годы, что Бог отпустил ему на жизнь. Подробное донесение о ней было отправлено нашему отцу-генералу и разослано по провинциям Испании и Индий, для которых это и пишется, а потому я не буду более распространяться на эту тему.
_____
¹ In odorem suavitatis (лат.) — «в благоухание приятное». Библейское выражение (напр., Лев. 1:9; Еф. 5:2), означающее жертву, угодную Богу.
2 В испанском языке XVII века все заморские владения в Америке и Азии именовались общим термином «Индии» (Las Indias). Соответственно, коренных жителей этих территорий, будь то в Мексике или на Филиппинах, называли indios, то есть «индейцы». В переводе сохранён этот исторический термин, использованный автором жития.
Дар пророчества и дар чудотворения, хотя и не служат сами по себе доказательством святости, но, будучи сопряжены с героическими добродетелями, удостоверяют её с такой силой, что не оставляют места для сомнений. А потому во всех житиях святых им уделяется особое внимание; не потому, что в них заключается то главное, что достойно подражания (а ведь именно в подражании и состоит искомый плод), но дабы явить величие добродетели и подвигнуть к ещё большему желанию ей подражать.
В том, что уже было поведано, и братья-коадъюторы, и отцы, и вообще все иноки любой ступени, как в Обществе, так и за его пределами, найдут в досточтимом брате Алонсо Родригесе обильный пример для подражания, ибо он был одним из тех совершенных мужей, что достигли святости путём повседневного соблюдения устава и правил своего ордена, — а это и есть род святости, наиболее доступный для подражания. Теперь же, прежде чем перейти к его последним годам и кончине, мы в дополнение к тому, о чём уже упоминалось в ходе нашего повествования, поведаем о некоторых его пророчествах и о чудесах, которые он сотворил при жизни.
Дон Франсиско Пачеко, судья Королевской аудиенсии Майорки, а впоследствии регент аудиенсии Кальяри на Сардинии, едва не лишился своей должности из-за ложных доносов. Он поведал о своей беде брату Алонсо и, сомневаясь, стоит ли ему лично ехать ко двору, чтобы объясниться (ибо он опасался некоторых сановников), просил его усердно помолиться о нём Господу нашему и после сказать, как ему надлежит поступить. К этой просьбе присоединился и приказ настоятеля, а потому брат, проведя целую ночь в долгой молитве, на следующий день, встретившись с доном Франсиско, решительно сказал ему: «Отправляйтесь, ваша милость, ко двору без промедления, ибо вы уже не встретите там никого, кто бы помешал вашему делу, которое, я вас уверяю, увенчается большим успехом. Я же не перестану молиться о вашей милости до самого вашего возвращения».
Судья изумился, услышав, что в Мадриде у него не окажется противников, ибо доподлинно знал, что они у него есть, и весьма влиятельные. Тем не менее, он так доверился брату, что в ту же ночь отплыл в сопровождении лишь одного слуги. И едва он сошёл на берег в королевстве Валенсия, как узнал о смерти одного важного сановника, который более всех досаждал ему и которого одного он и мог опасаться. Он счёл это залогом исполнения пророчества и потому поспешил ко двору, где дела его пошли так успешно, что, как он сам рассказывал после, каждый шаг в его предприятиях казался ему чудом по той лёгкости, с которой всё удавалось. В итоге он получил подтверждение своей должности, да ещё и с улучшениями, оставив у господ из Совета самое благоприятное впечатление о своих достоинствах, благодаря чему Его Величество вскоре назначил его визитатором Менорки, а затем и регентом Сардинии, что является должностью весьма почётной и ответственной.
Весь этот благополучный исход и даже сохранение самой жизни, он приписывал молитвенному заступничеству брата Алонсо. Ибо, собираясь сесть на бригантину в порту Валенсии, чтобы вернуться назад, он ощутил тайный порыв, который понудил его забрать свои вещи и вернуться в город, отказавшись от плавания на том судне. Судно же то, не дойдя до острова Майорка, погибло со всеми, кто на нём находился.
У доньи Леонор Армаданс-и-Берард, знатной сеньоры и благодетельницы Общества, сын, внук и племянник находились при Римском дворе, где хлопотали о своих делах. Сын её был каноником Майоркского собора, а после получил должность ризничего, которая в той церкви почитается первым саном после епископского. С этим назначением он весьма довольный возвращался на родину. Угодно было Богу, чтобы уже на виду у Менорки корабль, на котором он плыл, весьма притом большой, дал течь и пошёл ко дну со всеми, кто на нём находился.
Это несчастье вызвало скорбь, какую только можно вообразить, во всей стране, и в особенности — в сердце матери. В нашей коллегии также царила великая печаль, как из-за общего бедствия, так и в особенности из-за скорби нашей благодетельницы. Поручили брату Алонсо Родригесу испросить у Бога утешения для этой сеньоры. Он исполнил это, и было ему открыто, что два бенефиция покойного разделят между внуком и племянником, и что они благополучно прибудут на Майорку, и что в них скорбящая мать обретёт двух сыновей взамен одного, которого потеряла.
Брат Алонсо поведал об этом настоятелю, а тот велел ему, дабы утешить мать, передать ей это откровение. Он так и поступил, и именно сие свершил Господь наш, устроив так, что должность ризничего досталась дону Альваро Берарду, а каноникат — доктору Хуанесу Льоскосу, один из которых был внуком, а другой — племянником упомянутой Леонор Берард. Так она получила утешение и помощь, которых желали ей наши отцы.
Другая знатная сеньора также имела обычай поверять святому брату заботы своей души и совести. И вот её брат-клирик в те дни отплыл в Валенсию, а сеньора та пребывала в великой скорби, и страх, как бы он не попал в плен, так терзал её, что она не сомкнула глаз всю ночь. Наутро она тотчас отправилась в коллегию Общества и поведала о своей скорби и печали брату Алонсо. Он же утешил её, сказав, чтобы она возблагодарила Бога и успокоилась, ибо брат её в тот самый час уже находится в Валенсии, на свободе в полном довольстве, ибо Господь наш избавил его судно от корсаров, которые почти всю ночь за ним гнались.
Слова эти весьма её утешили, и через две недели она получила письмо от брата, в котором тот в точности описывал всё, что раб Божий сообщил о его путешествии и прибытии в Валенсию. Но женщина не удовольствовалась этим и, уступая естественному желанию увидеть брата, снова стала просить брата Алонсо, чтобы тот умолил Бога вернуть её брата-клирика уже в сане доктора, как она того желала. На её навязчивые просьбы он не отвечал. Наконец, видя, что она не отстанет, блаженный брат молвил: «Сеньора, брат ваш более не вернётся на Майорку. Примиритесь с волей Божией и утешьтесь ею».
Несколько месяцев спустя из Валенсии пришла весть о его смерти, и тогда ей открылось, что Господь предвозвестил Алонсо как спасение её брата, так и его кончину.
Два отца Общества несли миссионерское служение в городе Синеу, что в королевстве Майорка, и усердно трудились, дабы примирить враждующие стороны, которые терзали тот город. Труд их не приносил плодов, а потому они уведомили о том настоятеля коллегии, прося его помочь им жертвами и молитвами, в особенности же — молитвами брата. Настоятель поручил это дело всем, и все исполняли его с великим пылом; брат же принял его так близко к сердцу, что целый день не переставал просить Господа нашего, по заступничеству Девы, Матери Его, об угашении тамошней розни.
Когда он пребывал в молитве, Дева сказала ему: «Всё устроится, сын мой Алонсо, ради любви твоей ко Мне». Она явила ему, что дело уже улажено, а стороны примирены, и что прямо в сей миг уже выехал гонец с письмами от отцов, в которых они извещали о полном успехе. Брат отправился к настоятелю и на клочке бумаги подал ему записанные слова, которые сказала ему Владычица наша, и известие о том, что гонец уже в пути.
Отец с нетерпением ожидал его, а поскольку тот задерживался долее, чем требовало расстояние, уже начал было сомневаться в пророчестве. Но вскоре он избавился от сомнений, ибо, когда гонец прибыл, стало известно, что он выехал в тот самый час, о котором сказал брат, а в промедлении был виноват он сам, ибо сделал крюк.
Один инок из наших, живший в Майоркской коллегии, отличался слабым здоровьем, так что из-за постоянных недугов от него не было почти никакого проку. Однажды его навестил брат Алонсо и, по особому наитию свыше (вопреки тому, что он обыкновенно советовал в таких случаях болящим, а именно — не тревожиться о себе и всецело предаться в руки Бога, Господа нашего, Который позаботится о них через настоятеля), сказал этому иноку, чтобы тот написал провинциалу, представив ему своё слабое здоровье, дабы его перевели в другое место. Инок отнекивался, говоря, что письмо не возымеет действия. «Возымеет, — отвечал досточтимый брат, — как только настоятель его получит, он тотчас отдаст приказ, чтобы вы уехали; а уехав, вы поправитесь, дабы в здравии прослужить Обществу многие годы. Но знайте, что прежде того претерпите великие тяготы».
Случилось нечто дивное! Едва провинциал получил письмо, как отдал приказ, чтобы тот инок отправился на материк. Приказ был исполнен, он обрёл здоровье, но тут на него возвели некие клеветы и ложные доносы, его исключили из Общества, и пять лет он пробыл вне его. В конце концов его невиновность была доказана, его снова приняли, и он прожил и протрудился в Обществе многие годы в добром здравии и ко всеобщему назиданию, утверждая, что всегда почитал сие за явное исполнение пророчества.
Поскольку даром пророчества именуется не только предвозвещение грядущих событий, но и видение в свете пророческом явлений отсутствующих, как если бы они были здесь, приведу два особых случая, которые произошли с ним и другим иноком-священником нашего Общества, по имени Хуан Агирре. О нём уже упоминалось в главе девятнадцатой, где брат Алонсо повествует, как, прислуживая ему на мессе, увидел, что Христос, Господь наш, удостоил его нежнейших объятий. И о нём же шла речь в главе седьмой, где рассказывалось об отце, который на духовной беседе вопрошал, можно ли всегда пребывать в присутствии Господа нашего, и о том, что ответил ему на это брат Алонсо. Он много лет провёл в Майоркской коллегии вместе с досточтимым братом и с полным доверием поверял ему свои духовные тайны.
Впоследствии святое послушание направило его в Каталонию, и он прибыл в порт Сольер, что в трёх лигах от Города, дабы сесть на корабль. Это тот самый порт, откуда, по преданию, отчалил зерцало иноков и светоч того княжества, святой Раймунд де Пеньяфорт из Ордена Проповедников, когда, наперекор князю, мало склонному к его советам, он пустился в плавание на собственном своём плаще и за шесть часов пересёк шестьдесят миль моря, пока не достиг берегов Барселоны¹.
Итак, когда отец уже находился в порту, а благочестивый брат — в коллегии, молясь за него Богу, Дева открыла ему, что если отец отправится в путь на том корабле, то попадёт в руки мавров. Услышав эту весть, брат исполнился жалости и, чувствуя, как растёт в нём упование на милость державной Царицы, сказал Ей с дерзновением, подобным Моисееву: «Нет, Владычица, с позволения Твоего, сему не бывать! Ибо у Тебя не недостанет власти исправить это, и я не отступлю от Тебя, пока Ты не приведёшь отца в мою келью свободным».
Благосклоннейшая Дева порадовалась святой решимости Своего слуги и обещала утешить его. И так случилось, что дела внезапно приняли иной оборот: ректор коллегии отправил к отцу нарочного с приказом вернуться. Тот повиновался. Бригантина же, на которой он должен был плыть, отчалила, и её захватили несколько алжирских корсаров, что рыскали у того побережья. И, как стало известно позже, пленение свершилось в тот самый час, когда отец, свободный и невредимый, входил в ворота коллегии, к великому утешению брата Алонсо.
Кто усомнится, что он желал бы помешать и отплытию судна, дабы с ним не случилось такого несчастья и дабы предотвратить пленение многих людей, что на нём находились? Но пророкам не дозволено использовать дары Божии, кроме как в точности для того, на что их божественное Величество даёт им позволение, под страхом быть растерзанными львами при первом же шаге в сторону от предначертанного пути².
Другой случай касается иной — духовной — опасности, ещё более грозной, чем предыдущая. В таковой упомянутый отец очутился, пребывая в коллегии в Гандии, что в королевстве Валенсия. Одолеваемый жестокой чёрной меланхолией, он впал в некое подобие безумия, отчего ему грозила смерть в беспамятстве и вне Таинств, даже с признаками отчаяния в собственном спасении, — и эта беда, приключившаяся со столь достойным человеком, вызывала во всех особое сострадание.
И вот, в то самое время, брат Алонсо на Майорке, прогуливаясь в глубоком созерцании по уединённому и сумрачному переходу в старой части обители, где тогда находилась его келья, услышал в воздухе ясный голос, сказавший: «Молись о друге твоём, отце Агирре, ибо он в великой опасности».
Брат тотчас простёрся ниц пред Богом и начал взывать об отвращении оной напасти. Он прибег к Деве Марии, которая уже однажды спасла его в подобной беде, и в течение нескольких дней приносил за отца Агирре в жертву все свои покаянные подвиги, причащения и прочие деяния, и более ему ничего в то время открыто не было.
Несколько месяцев спустя отец Херонимо Рока, провинциал Арагона, прибыл с визитом в Майоркскую коллегию. Когда же, по обычаю и Уставу Общества, он потребовал у брата Алонсо отчёта о совести, и тот дошёл до рассказа об услышанном гласе, отец-провинциал поведал ему, что сам в то время находился в Гандии. Он подтвердил, что опасность, угрожавшая отцу Агирре, была духовной, как мы то и описали, и что именно в те дни, когда, по словам брата, он слышал голос, тот отец исцелился и обрёл здоровье, дабы служить, как он и служил после многие годы, Богу в Обществе.
Милости эти, явленные досточтимому брату, были поистине необычайны, но и сам отец не был их недостоин, ибо светлая память о его превосходной добродетели доныне живёт в той провинции. Он много трудился, наставляя простой народ, и, обходя с миссией селения, учил их закону христианскому. Совесть его была столь чиста и внимательна, что однажды, когда он в одиночестве шёл в загородный дом нашей коллегии в Барселоне, а мальчик, нёсший в корзинке его еду, несколько отстал, ему пришло на ум, что тот может сбежать с едой. Почитая это суждение опрометчивым, он до конца пути не смел обернуться, чтобы посмотреть, идёт ли мальчик за ним или нет. Тот же, воспользовавшись случаем, легко скрылся, и добрый отец в тот день остался без еды.
В той же коллегии был один раб-турок, столь упорный в своём законе, что не было никакой возможности склонить его к принятию христианства. Однажды ночью, как он сам после рассказывал, ему явился Христос, Господь наш, окружённый светом, и сказал, что на следующий день придёт отец Хуан Агирре наставлять его в вере, и чтобы он далее не противился и тотчас стал христианином. Раб усомнился, как такое может быть, ибо отец находился в другой коллегии, в двух днях пути оттуда. Но когда на следующий день увидел, как тот входит в обитель, уразумел, что такова воля Божия, и, пройдя оглашение, крестился, и был после весьма добрым христианином, как и подобает тому, кто имел столь благое начало.
Всё это — явные свидетельства того, сколь угоден был Господу нашему сей добрый отец и друг брата Алонсо.
Продолжим же рассказ о его пророчествах.
В 1598 году отец Педро Йусте, провинциал Общества Иисуса в землях Арагонской короны, посетил Майоркскую коллегию. По окончании визита он с другими спутниками отплыл в Испанию. Вскоре после их выхода из порта в море видели несколько мавританских галеотов, ведущих на буксире какой-то корабль. Все предположили, что это и есть судно провинциала, которое только что покинуло гавань. Нашлись и те, кто утверждал это как несомненный факт. Весть разнеслась по городу, и в коллегии водворились плач и скорбь; один лишь брат Алонсо, как заметили, казался веселее прочих.
Настоятель сказал ему: «Что такое, брат? Все мы скорбим от столь горестных вестей, и лишь ты один весел? Разве случившееся — дело маловажное?» «Нисколько, — отвечал Алонсо. — Отец-провинциал уже в Барселонской коллегии со всеми своими спутниками, в добром здравии. У них было поистине ангельское плавание, и сама Дева, Владычица наша, правила их кормилом».
Вскоре из писем открылась истинность этого пророчества. Отцы, не ведая о словах брата, писали, что плавание их было поистине ангельским, за что они и возносили бесконечные благодарения Господу нашему.
С этим плаванием связано одно примечательное обстоятельство, о котором я не могу умолчать, ибо оно назидательно. Среди моряков был один страшный богохульник. Отец-провинциал много раз увещевал его, указывая на его грех, но тщетно. Расплачиваясь за проезд и прощаясь с капитаном, человеком весьма достойным, он сказал ему: «Сделайте милость, не берите более на ваше судно такого-то, ибо он великий богохульник. И знайте, если не поверите мне, попадёте в руки корсаров и окажетесь в жалком положении рабов». Других доводов не потребовалось: капитан тотчас выгнал того человека со своего судна. Богохульник сел на другой корабль. Оба судна вышли в обратный путь на Майорку почти одновременно; то, на котором плыл богохульник, было захвачено маврами, другое же благополучно достигло порта. Вот сколь важно смотреть, в чьём обществе мы путешествуем, особенно в опасных странствиях.
Менее счастливый конец, нежели у вышеописанного, имело в 1608 году плавание десяти иноков нашего Общества. Выйдя из Майоркской коллегии и сев на большой корабль, называемый «Белина», с расчётом пристать к берегу в городе Аликанте, что в королевстве Валенсия, они были захвачены у берегов Алжира, что на Берберском побережье, и отведены в глубь страны Симоном Дансой, знаменитым корсаром тех времён. Потеря эта, из-за знатности пленников (среди которых был и побочный сын одного из грандов Испании) и из-за величины самого судна, наделала много шума в тех королевствах, с горечью была воспринята на Майорке и оплакана в нашей коллегии.
Много рассуждали о том, что сказал по поводу этого плавания брат Алонсо. И именно поэтому я не премину рассказать об этом, дабы ложное не смешалось с истинным и дабы из этого случая было извлечено то поучение, которое Бог предназначил для нашей пользы.
Настоятель, повелевший посадить стольких иноков на упомянутое судно, поступил так вопреки мнению своих советников и всем доводам человеческого благоразумия, уповая лишь на то, что брат Алонсо по его приказу вверил это дело Богу и получил в ответ, что если отцы сядут на тот корабль, то плавание их будет «золотым». Ответ (как показал исход дела) оказался двусмысленным и имел иной смысл, нежели тот, что вложили в него благочестивый подчинённый и набожный настоятель.
«Когда отцы выходили из порта, — говорит брат в своём отчёте, — я провожал их и видел, как корабль их благополучно плывёт, пока не обогнул остров Ивису, и там он исчез из виду, и более я его не видел». Это и заставило его поверить, что они уже достигли порта на побережье королевства Валенсия, что находится недалеко от тех мест. Но вышло не так; именно там их и встретил Симон Данса, и сражался с ними, пока не взял корабль на абордаж.
Общеизвестно, что пророчество (как и прочие сверхъестественные дары) имеет свои степени, одни более совершенные, чем другие, и не всегда сообщается в самой совершенной степени. А следовательно, не противоречит тому, чтобы пророк был истинным, но не всегда постигал всё то, что Бог имеет в виду в изречениях и ответах, которые ему даёт, или в видениях, которые ему являет. Так решает святой Фома Аквинский в «Сумме теологии» (II-II, вопр. 173, ст. 4): Etiam veri Prophetæ non omnia cognoscunt, quæ in eorum visis, aut verbis, aut etiam factis Spiritus Sanctus intendit («Даже истинные пророки не всё познают, что Дух Святой имеет в виду в их видениях, или словах, или даже деяниях»).
Господь наш в этом случае сокрыл от Своего слуги смысл тех слов («если сядут на корабль, плавание их будет золотым»), а равно и участь судна, ради целей, Ему одному ведомых. Плод, который те иноки принесли в Алжире, был весьма велик: священники — проповедью и исповедью пленников, а братья — примером и стойкостью, с которой они противостояли посягательствам своих хозяев на их веру и целомудрие. Так, их стараниями многие падшие обратились, а другие, готовые пасть, убереглись, о чём и сообщается в донесениях, напечатанных в то время.
А потому можно предположить, что Бог, желая наказать тех, кто имел долю в том корабле, его потерей, попустил, чтобы на него сели эти иноки, ради духовного плода, который они должны были пожать в итоге того пленения: обращения ближних и приобретения заслуг и духовных сокровищ для себя, кои стяжали страданиями и трудами в плену. И в этом смысле и исполнилось то, что плавание будет «золотым». То есть, из того золота, которое Сам Господь советует нам покупать, дабы обогатить души (ср. Откр. 3:18). Если только не истолковать это как более чем десять тысяч эскудо обычного золота, в которые обошлась их свобода, или же как то множество золота, которое, по слухам, вёз на том корабле один из заморских вице-королей.
Этот случай также учит нас, что Господу нашему неугодно, когда настоятели, движимые неразумным благочестием, доверяют пророчествам и откровениям, якобы полученным от святых, и при этом пренебрегают правилами благоразумия и мнениями своих советников, мужей также благочестивых и учёных. Ибо, когда некоему делу надлежит свершиться, и Бог, дабы способствовать его исполнению, открывает то рабу Своему, то Он же, Владыка сердец, непременно позаботится и о том, чтобы сердца советников склонились к согласию, даже если поначалу они и придерживались иного мнения, как то, известно, случалось и прежде. Пример тому мы и находим в наших историях, в житии отца Кристобаля Родригеса.
Вернёмся же к нашему повествованию. Когда на Майорке из верных источников стало известно, что корабль и все, кто на нём находился, захвачены в плен в Алжире, добрый брат Алонсо, опечаленный этим событием, и ещё более тем, что поводом к посадке отцов на судно послужили его слова, обратился с любовной жалобой к Господу нашему и получил ответ, что причины для жалоб у него нет, ибо плавание, как ему и было сказано, оказалось «золотым».
Тогда он принялся молить об избавлении пленников и с величайшим усердием просил Бога и Деву, Владычицу нашу, о тех иноках, ибо в одном из писем, написанных им, он говорит, что молился о них более ста раз на дню. Плодом этих молитв стало то, что Господь наш хранил всех десятерых в то время, что они провели в Алжире в кандалах и цепях, посреди тысячи опасностей, весьма близких к погибели телесной и душевной, — и сохранил их целыми и невредимыми.
Первыми на быстроходном французском судне отплыли восемь из них. Попутный ветер так живо гнал их по морю, что вскоре они уже узнали вдали Майорку и, оставив её вечером по правому борту, полагали на следующий день на рассвете оказаться в Альфакесе, порту на каталонском побережье. Но вышло не так: на заре они снова оказались у берегов всё той же Майорки. Среди наших отцов бытовало мнение, будто это брат Алонсо, прозрев духом, что они минуют обитель, не утешив её своим посещением, удержал их силой своей молитвы. Истинность этого подтвердилась и словами самого брата, сказанными в минуту их встречи. Когда отцы сошли на берег и в обители их приняли с распростёртыми объятиями, Алонсо подошёл к одному из них (от которого я это и узнал) и, упреждая его рассказ, с улыбкой произнёс: «Так что же, проплывали мимо, не желая нас утешить? Нет, нам суждено было увидеть вас здесь».
Два других инока, что оставались в Алжире, хотя и подвергались великим опасностям, в конце концов также обрели свободу и благополучно прибыли в провинцию, дабы возрадоваться в Господе с прочими своими товарищами по плену. И я почитаю несомненным, что в этом событии, как и во всём прочем, велика была доля заступничества брата Алонсо, а также верую, что, попустив по тайным судам Своим то пленение, Господь наш, для утешения Своего верного слуги, увенчал его славным завершением.
Не был он обделён ещё одной, чрезвычайно важной особенностью пророческого духа, который Бог ему даровал, — способностью прозревать то, что происходит в чужом сердце. Один студент, обладавший добрыми качествами, пришёл в привратницкую коллегии с намерением просить о принятии в Общество. Не открывая до поры до времени своего намерения ни брату, ни кому-либо иному, он попросил позвать настоятеля. Отец несколько промедлил, а в это время к студенту подошёл наш привратник и сказал: «Какой благой удел, сударь, вы избираете, в отличие от братьев ваших! Сколь вернее посвятить себя служению Богу в иночестве, нежели, подобно иным вашим товарищам, следовать в миру своим влечениям и суетным помыслам! Мужайтесь, ибо с Божией помощью всё устроится наилучшим образом».
Студент изумился и, признав правоту его слов, горячо просил брата молить о нём Господа нашего. Намерение его увенчалось успехом, он был принят в Общество, а после вступления говорил, что после многих внутренних борений главным побуждением, подвигнувшим его к принятию решения, послужило воспоминание о том, как в возрасте семи или восьми лет, когда он однажды выходил из нашей привратницкой со своим дядей и старшим братом, брат Алонсо отвёл его в сторону и сказал: «Ты, дитя, станешь иноком Общества и наследуешь в нём трудам твоего доброго дяди, отца Креспина», — пророчество, которое впоследствии в точности исполнилось.
Явился однажды клирик-картезианец, что подвизался в монастыре в трёх лигах от города Майорки, с поручением от одного весьма благочестивого отца, по имени дон Висенте Мас, к брату Алонсо. Он подошёл к привратницкой, и, прежде чем успел объявить о себе, брат, прозрев духом цель его прихода, сам обратился к клирику с вопросом: «Как поживает отец дон Висенте?». Клирик изумился и сказал: «Откуда ваше преподобие знает, что я пришёл из картезианского монастыря и что был у отца?». В ответ на это брат лишь смущённо промолчал и, переменив предмет разговора, принялся восхвалять отца дона Висенте Маса. Сей благочестивый отец (о чём мы ещё скажем в последней главе этой книги) с того самого дня, как удостоился нескольких бесед с братом Алонсо, весьма к нему привязался и повсюду славил его святость.
Напоследок приведу одно пророчество, которое по важности и значимости своей заслуживало бы первого места, но я приберёг его до сего момента, дабы читатель, видя, как исполнились другие, мог без опасения оказать и этому то доверие, которого оно заслуживает. Около 1607 года, когда наш досточтимый брат Алонсо Родригес находился на одной из прибрежных высот Майорки, в небольшом отдалении от города, — в месте, которое за свежесть и прелесть свою именуется «Салаверде»3, — куда он вышел по приказу настоятеля для отдохновения со спутником, Господь наш пожелал даровать ему иное видение, ещё более отрадное, чем то, что открывалось его телесным очам.
Внезапно, хотя прежде ему и на ум не приходило ничего подобного, брату представилась грандиозная Армада из всевозможных судов, прекрасно оснащённых артиллерией и воинами. Числом их было так много, что они покрывали всё побережье. Они стояли в боевом порядке. Воины же казались не земными существами, а небожителями. Предводителем, что вёл авангард, был Иисус, а в арьергарде — Мария. И хотя всё то небесное воинство сияло дивным великолепием и излучало отвагу, но над всеми возвышались Иисус, первый, что вёл их, и Мария, последняя, что, защищая, замыкала эту Армаду.
Видение продолжалось долгое время. Впоследствии, давая отчёт о нём настоятелю, брат Алонсо поведал о данном ему свыше ясном откровении: с великой помощью небесной, явленной в той Армаде, в грядущие времена Католический король Испании лично выйдет с огромным флотом против африканских мавров и, одержав в той битве славную победу, приведёт всю Африку к своему повиновению. И тогда жители тех обширных провинций, возгнушавшись сектой своего лжепророка, без труда примут веру Христову.
Так сказал тогда сей раб Божий, и после, в течение десяти лет, что он ещё прожил, пророчество это всегда оставалось запечатлённым в его сердце, и в тех случаях, когда его о том спрашивали, он вновь в нём удостоверялся. Когда непобедимейший государь дон Хуан Австрийский должен был выйти с Армадой Священной лиги против турок, Его Святейшество Пий V прислал ему, среди прочих святынь, два пророчества нашего славного испанца, святого Исидора, в которых описывались битва и победа, и святой понтифик истолковал их применительно к особе того доблестного принца. Те пророчества обрели своё счастливое исполнение4; да исполнит божественное Величество вскоре и второе обетование, дабы распространилась Святая Католическая Вера, а Испанская корона приросла владениями.
______
¹ Раймунд де Пеньяфорт (ок. 1175–1275) — каталонский святой, доминиканец, выдающийся канонист. История о том, как он пересёк море на своём плаще, спасаясь от гнева короля Арагона Иакова I, является одним из самых известных эпизодов его жития.
² Прямая аллюзия на историю человека Божия из Иудеи, который ослушался прямого повеления Господа и был за это умерщвлён львом (3 Цар. 13).
3 Salaverde (исп.) — буквально «зелёная зала» или «зелёный чертог».
4 Речь идёт о знаменитой битве при Лепанто (7 октября 1571 г.), в которой флот Священной лиги под командованием дона Хуана Австрийского одержал сокрушительную победу над флотом Османской империи.
Хотя в шестой главе и в других местах этой Истории уже приводились некоторые из чудес, которые Господь наш сотворил в разных случаях через сего раба Своего, всё же, дабы яснее явить, сколь славен был этот дар святости и чудотворения, сообщённый ему Богом, мы прибавим здесь и другие [дивные деяния], которые он также сотворил при жизни. О тех же, что произошли при его смерти, погребении и что поныне совершаются у его гробницы, будет составлена отдельная глава.
Итак, первым из этих чудес да будет одно, которое заключает в себе и многие другие. У Матео Маса, жителя города Майорки, долгое время болел отец. Поскольку тот имел обыкновение часто приступать к Таинствам, его то и дело навещал и исповедовал один из отцов Общества, его родственник. Жил он за коллегией, а потому в спутники священнику обыкновенно назначали старца Алонсо. Тот, пока священник исполнял своё служение, обыкновенно садился на стул, нарочно для того поставленный в стороне, в таком месте, откуда он мог легко видеть священника и быть им видим, как того и требует Устав.
То, что стул этот был нарочно для него поставлен, и то, как часто сидел на нём брат Алонсо, побудило благочестивых хозяев дома проникнуться к этому стулу особым почтением. А потому, когда невестка больного, будучи беременна и весьма тревожась о родах (ибо предыдущие прошли очень опасно), подумала, что если во время схваток сядет на этот стул, то благополучно разрешится от бремени, — так оно и случилось. Ибо едва она села на стул, как с необычайной лёгкостью и без всякого затруднения произвела на свет дитя.
Изумление и радость побудили её рассказать об этом во время многочисленных визитов, которые обыкновенно наносят роженицам. Случай этот разнёсся по городу, и, поскольку опасность при родах — дело обычное, многие стали прибегать к этому средству. Утвердилось мнение, что, садясь на этот стул, женщины благополучно разрешаются от бремени, что, собственно, и подтверждается случаем, произошедшим с одной сеньорой. Её терзали сильные боли, но, поскольку повитуха ещё не пришла, она, хотя и имела стул в доме, не осмеливалась на него сесть, будучи уверена, что, едва сядет, тотчас родит. Муж её, который с подобающей в таких случаях заботливостью находился при ней, получив известие, что повитуха уже входит в дом, сказал ей об этом, дабы она воспользовалась тем средством. Женщина села на стул, и роды прошли столь стремительно, что, как ни спешила повитуха, она не успела исполнить своих обязанностей в полной мере.
Другая женщина рожала семь раз, и все семь родов проходили у неё столь тяжко, что, помимо немалой опасности для её собственной жизни, все младенцы погибали, а некоторые — даже без крещения. Готовясь к восьмым родам и зная о свойстве упомянутого стула, она решила прибегнуть к нему. Горячо вверила себя Господу нашему по заступничеству святого, и всё пошло так благополучно, что она без труда и почти не почувствовав боли (как она сама после говорила) родила здорового и крепкого сына — к неописуемой своей радости.
Подобных случаев было множество, и потому сие почитают за одно непрестанное чудо, которое Господь наш начал творить ещё задолго до кончины святого брата по его заступничеству.
Рассказывают и о другом чуде, которое также непрестанно совершалось в течение трёх лет перед кончиной сего раба Божия. Одежды Коллегии стирали некие добрые женщины, мать и две её дочери-девицы. И вот они заметили, что от груды белья исходит нежное благоухание, которое дивно услаждало. Они стали доискиваться причины и, перебирая одну вещь за другой, обнаружили, что благоухание исходит лишь от одной рубашки и ночного чепца. Отделив их от прочих, они разузнали, что вещи эти принадлежат рабу Божию Алонсо. Было это за три года до его кончины, и всё это время по одному лишь благоуханию они отличали одежды досточтимого брата от всех прочих.
Хуан Вивот, знатный кавалер, был так тяжело ранен из пистолета, что при первом же осмотре врачи и хирурги объявили его безнадёжным. Приняв последнее помазание, он постарался по-христиански приготовиться к последнему часу, но, будучи наслышан о святости брата Алонсо и видя себя в столь отчаянном положении, испросил у настоятелей прислать его в сопровождении одного из отцов, однако так, чтобы брат не догадался об истинной причине визита. Тот пришёл, побеседовал с ним недолго о Господе нашем и подал ему благую надежду на выздоровление. Прощаясь, кавалер просил, чтобы тот осенил крестным знамением его раны. Скромность святого не позволила ему этого сделать. Тогда больной попросил его хотя бы приложить руку, и поскольку отец велел Алонсо это сделать, он не смог отказать. Больной взял его за руку, приложил её к ранам и, проводя ею по ним, почувствовал, как ему становится лучше, причём так стремительно, что в то же мгновение он нашёл в себе силы пошевелить рукой, чего до тех пор не мог. Через несколько дней кавалер совершенно выздоровел ко всеобщему изумлению и к великой пользе для собственной души, ибо, признав милость, которую Бог явил ему через Своего раба, он с тех пор всегда питал к нему великое благоговение и по его советам вёл жизнь в высшей степени образцовую.
Бартоломе Фриас, двухлетний младенец, был при смерти от горячки; родители его прибегали ко многим средствам и приносили обеты и молитвы разным святым, но улучшения не наступало. Мать его, зная о святости и дивных делах брата Алонсо и уповая на то, что, поскольку муж её служит хирургом в Коллегии, она найдёт в нём заступника, отправилась в привратницкую и со слезами поведала досточтимому брату о состоянии своего сына, которого держала при этом на руках. Он отвечал ей общими словами утешения и, посоветовав уповать на Господа нашего, так и отпустил её. Но заботливая мать, не довольствуясь этим, снова принялась сетовать на свою беду и ссылаться на заслуги своего мужа. Удручённый её неотступностью, святой (ибо порой и Бог, и они сами желают, чтобы мы были неотступны) спросил женщину, есть ли у неё ещё дети. Она отвечала, что нет, и что из этого он может заключить, сколь дорога ей жизнь этого дитяти. «Что ж, утешьтесь, сестра, — сказал святой привратник, — не умрёт от этой болезни ваш сын, но очень скоро будет здоров». Это он сказал, осеняя ребёнка знамением Святого Креста, и Бог исполнил слово его, ибо жар тотчас оставил младенца, а исцеление было столь явным, что мать по дороге домой с радостью возвещала всем встречным о чуде, свидетельствуя, что сын её совершенно здоров. Он был ещё жив в то время, когда начали собирать материалы для этой истории о святом, и заявлял, что обязан ему здоровьем и жизнью.
Каталина Симонет-и-де-Сан-Мартин, знатная сеньора и благодетельница Общества (которая, как я слышал, впоследствии основала нам вторую коллегию на Майорке), занемогла злокачественной горячкой. Недуг этот, от которого только что скончался её отец, она, по-видимому, переняла от него, ухаживая за ним как верная дочь. Отцы нашей обители, горячо желая ей выздоровления, прибегли, по обычаю своему в подобных случаях, к помощи брата Алонсо. Настоятель повелел ему усердно молить Бога о болящей. Он так и поступил и получил в ответ, что больная исцелится столь скоро, что на пятый день уже сможет встать с постели.
Ректор, однако, этим не удовольствовался и, желая большей уверенности, придумал, чтобы брат сам навестил больную. А дабы обязать его молиться о ней, он повелел ему отнести ей мощи нашего святого отца Игнатия и прочесть над ней молитву. Алонсо отправился к ней, и едва лишь он приложил мощи и, вместе со всеми присутствующими, окончил краткую молитву, как к болящей тотчас вернулось совершенное здравие, и, по её собственным словам, она почувствовала себя даже лучше, чем до недуга.
Она хотела тотчас подняться, но родные не позволили, а настояли, чтобы она приняла некое снадобье, которое, по словам врачей, было укрепляющим и не могло повредить, хотя в нём и не было нужды. Она уступила, но поплатилась за это (о чём сама после с улыбкой рассказывала) тем, что, хотя горячка и не вернулась и она смогла встать на пятый день, её ещё некоторое время донимали разные хвори — в наказание за то, что она не воспользовалась тотчас чудесно обретённым здоровьем. И хотя в этом чуде явлено было и заступничество св. Игнатия через его мощи, ясно видно, сколь велика была в том и заслуга нашего брата Алонсо.
Отец Хуан Торренс, инок великой святости и учёности, о котором уже упоминалось в этой истории, под присягой свидетельствует, что получил две особые милости от Господа нашего по заступничеству досточтимого брата Алонсо.
Первая милость была такова. Несколько лет отец Торренс страдал от немощи, не позволявшей ему в полной мере участвовать в жизни общины, о чём он глубоко сокрушался, особенно в годы своего настоятельства. По молитвам же брата он получил от Господа нашего здравие, избавившее его от нужды в послаблениях и особых условиях.
Вторая же милость — внезапное и очевидно чудесное исцеление, которое произошло так. За несколько дней до Великого поста, когда упомянутому отцу предстояло проповедовать, его охватила жестокая горячка с сильной головной болью. По опыту своих недугов он счёл болезнь тяжёлой и предвидел, что она продлится долго, а потому уже искали, кем заменить его на кафедре.
В то же самое время брат Алонсо и сам лежал больной в своей келье. Заметив, что брат-больничник чем-то озабочен и что отец Торренс его не навещает, он спросил о нём. Тот рассказал о случившемся и добавил, что болезнь началась так остро, что отцу хотели пустить кровь в тот же час, хотя была уже ночь, и лишь после долгих прений решили отложить это до утра. Брат Алонсо весьма почитал этого отца и нежно его любил, ибо тот многие годы был его настоятелем и духовным руководителем. А потому, услышав от больничника об опасности, в которой тот пребывал, он начал усердно молиться о нём Господу нашему.
И случилось нечто примечательное: в тот самый час, когда брат приступил к молитве, на отца сошёл мирный сон, который продлился довольно долго. А пробудившись, он ощутил, что недуг совершенно оставил его: не было ни малейшего следа ни горячки, ни головной боли, ни иных недомоганий. Утром пришёл врач и, увидев столь разительную перемену, изумился. Однако, следуя мирским правилам своего искусства, он не разрешал отцу вставать, пока не убедится в его полном выздоровлении. Но тот, помня о сверхъестественной силе, вернувшей ему здоровье, пренебрёг этими предосторожностями: поднялся, отслужил мессу, проповедовал в Мясопуст и Великий пост и исполнял прочие служения, чувствуя себя, как никогда прежде, крепким и здоровым. Вера его была вознаграждена куда щедрее, нежели вера той сеньоры, о которой мы упоминали в предыдущем рассказе о чуде.
Хайме Бастард, пресвитер-бенефициарий Майоркского собора, тяжко страдал от удушья и горячки. Будучи почитателем брата Алонсо и убедившись в тщетности многих средств, к которым прибегал, он попросил своего брата, Франсиско Бастарда, также бенефициария, а впоследствии инока Общества Иисуса, раздобыть для него какую-нибудь вещь, принадлежавшую святому, ибо уповал с её помощью обрести здоровье. Благодаря знакомству и общению, которое оба брата имели в коллегии, им удалось получить ночной чепец, который брат Алонсо носил несколько раз.
Больной с великим благоговением надел его около девяти часов вечера, обещая, если исцелится, отслужить в нашей церкви благодарственную мессу. Он проспал всю ночь так спокойно, что мать и братья, заметив, что он не кашляет и не производит никакого иного звука, тогда как прежде беспокоил весь дом, испугались, как бы он уже не испустил дух. На рассвете они подошли к его постели, и от шума больной, до того мирно почивавший, пробудился. Он сказал им, что уже здоров по заступничеству брата Алонсо Родригеса, попросил одеться и в то же утро, а также в два последующих, дошёл пешком от своего дома до обители Общества, чтобы отслужить мессу, хотя доподлинно известно, что и до той болезни он едва мог преодолеть этот путь, столь он был долог. Дон Хайме остался весьма благодарен Богу и святому за полученную милость.
Сестра Каталина Фиоль, монахиня монастыря Св. Варфоломея в Инке, свидетельствует о чудесном исцелении одной уже безнадёжной и лишившейся дара речи девочки: стоило ей приложить к больной биретту, полученную от досточтимого брата Алонсо, как та тотчас пришла в себя, а вскоре и совершенно выздоровела.
А Хуана Фонт-и-де-Моранта, вдова, благодетельница коллегии, говорит, что поясом святого брата, который она добыла с большим трудом, избавилась от жесточайших болей в почках и спине, мучивших её многие годы. И что посредством того же пояса исцелились и другие больные, к которым она его прикладывала. Подобным же образом и через другие вещи, бывшие в обиходе у святого брата, Господь наш являл дивные знамения Своей силы, а потому люди всякого звания с великим усердием и стремились обрести сии предметы ещё при жизни подвижника.
Через него Господь наш явил нуждающимся ещё и многие другие дивные милости, которые я опускаю, дабы избежать многословия. Приведу лишь некоторые плоды его молитвы, которые, хотя брат и не называл их чудесами, благочестие позволяет нам почитать за таковые, а потому я и перескажу их здесь его же собственными словами.
Завершая рассказ о своей молитве, [брат Алонсо] говорит: «Поскольку речь зашла о молитве сего человека, скажем несколько слов и о некоторых милостях, которые он стяжал по благодати Божией тою же молитвою.
Случилось ему однажды сопровождать отца, которого позвали исповедовать больного, и застать того в таком помрачении, что он говорил неподобные, злые слова, и не было никакой возможности его исповедовать, ибо он никого к себе не подпускал и не внимал никаким увещеваниям. Отец немного отошёл, и сей человек прибег к Богу, дабы Он уврачевал ту нужду, — то же, [полагаю], делал и отец. И угодно было Богу, чтобы вскоре больной дивным образом переменился и, став кроток, как агнец, исповедался, хотя прежде и слышать о том не хотел и не поддавался никаким уговорам.
В другой раз пришёл к нему некий раб Божий поведать о великой скорби, и душевной, и телесной, которая весьма его терзала, хотя был то человек сильный духом. Он просил помолиться о нём Богу, и человек сей, утешив его, взялся за дело, и хоть пришлось тяжко, в молитве трижды получил ответ, что проситель тот уже здоров и что скорбь эта его более не коснётся. И действительно, через несколько дней раб Божий пришёл поговорить с сим человеком, весьма радостный и довольный теми благами, что Бог сотворил в его душе и теле. И я верю, что к великой славе Божией послужит та великая перемена и решимость, с которой он теперь заботится о своей душе и о душах других.
Ещё довелось сему человеку, оказавшись в доме одной весьма больной сеньоры, застать её в истой крайности, чуть не при смерти. Когда же присутствующих попросили помолиться о ней Богу, сей человек, который также там находился, присоединился. Пребывая в молитве, он просил Бога устроить всё так, как то наипаче послужит Его чести и славе, а душе той — ко спасению. И был ему дан ясный ответ, и глас сказал ему такие слова: «Решай сам, что Мне сделать, ибо Я исполню всё, чего ты ни пожелаешь. Но знай: никогда не будет она лучше подготовлена, чем теперь». Услышав это, сей человек снова вверил её Богу и всецело предал её в Его руки, дабы Его Величество поступил с ней по Своей воле, ибо воля Его и есть наше подлинное счастье, наша услада и наша радость. И так она и скончалась, предав душу свою Тому, Кто её сотворил».
Так в этом простом рассказе брат свидетельствует о редчайшей милости, коей удостоил его Господь, соделав как бы владыкой Своей воли. Сеньору эту, при кончине которой произошёл сей случай, звали Маргарита де Пуч, супруга Херонимо Пуч-Дорфилы и дочь Фелипе де Пуча, одного из знатнейших кавалеров Майорки, мужа весьма образцовой жизни и благодетеля Общества.
Гильен Моранта, благословеннейший брат двух наших священников (один из которых — мученик, о ком мы говорили в главе девятнадцатой, а другой — пламенный служитель и труженик среди парагвайских индейцев), сын Пракседис Кальдентес-и-де-Моранта, племянницы отца Херонимо Надаля, генерального комиссара и одного из столпов-основателей Общества, тяжко занемог и был уже при последнем издыхании. А потому в один из дней, а именно во второй день Пятидесятницы, настоятель повелел брату с великим настоянием молить Бога о его здравии. И хотя в начале молитвы ему было открыто, что тот вскоре умрёт, брат, дабы исполнить послушание, не переставал воздевать руки к Богу. Господь же сказал ему: «Алонсо, не упорствуй более в этом, ибо сегодня болящему надлежит умереть, ибо это послужит ко благу души его».
Так и случилось: вскоре после этого добрый кавалер предал дух свой, а при кончине его, как и было предвозвещено брату Алонсо, явились верные признаки того, что душа его спасена. И хотя в этот раз Господь и не даровал ему просимого, и не вложил решения в его руки, как в прошлый раз, милость, явленная ему Богом, была от этого не менее замечательна и послужила верным указанием на то, сколь много значили его молитвы пред божественным Величеством.
Вслед за этим случаем, когда просьба осталась без исполнения, можно привести следующий. Ана Моранта-и-Дурета, почтенная дама, которой Общество также было обязано любовью и добродеяниями, имела сына по имени Педро Моранта, и заболел он оспой. Болезнь эта была столь люта, что в тот год унесла много жизней, и едва ли был дом, в который она вошла и не наполнила его плачем и скорбью. Семь дней мальчик не открывал глаз и не принимал пищи, и врачи уже отчаялись в его выздоровлении.
Ректор коллегии навестил скорбящую мать, и та попросила у него какую-нибудь вещь, принадлежавшую сему рабу Божию, который был ещё жив. И хотя он много раз ей отказывал, она проявила такую настойчивость, что, казалось, уже знала: здоровье сына зависит от этого средства. Её упорство сломило твёрдость отца-ректора, и он послал к ней одного из отцов с ночным чепцом досточтимого брата Алонсо, наказав хранить тайну и действовать быстро. Мать, подбежав к сыну, сказала: «Сын мой, вот я принесла тебе исцеление». Она приложила к нему чепец, и милость Небес тотчас явилась, ибо мальчик в то же мгновение поднялся и сел на постели, говоря: «Брат Алонсо, брат Алонсо!». Затем он попросил одежду, сказав, что здоров, — так оно и было, что вскоре пришедший подтвердил врач, который нашёл на нём лишь пять или шесть оспин.
Доктор Бартоломе Кольядо, брат отца Франсиско Кольядо из нашего Общества, возвращался из Каталонии на свою родину, Майорку, на небольшом, хотя и вооружённом, судне. В пути они завидели турецкий пиратский фрегат, который, казалось, шёл прямо на них. Вражеское судно подошло так близко, что они уже различали плеск вёсел и турецкую речь. Понимая, что они обнаружены и гибель неминуема, — ибо как немногие могли защититься от стольких, так и их малое судно не могло противостоять кораблю куда большему и прекрасно вооружённому, — они, лишённые всякой посюсторонней помощи и видя столь близкую опасность, прибегли к молитве, прося Бога о помощи по заступничеству Его святых.
Доктор Кольядо, вспомнив о брате Алонсо Родригесе, который был ещё жив, умолял Господа нашего, дабы Он, ради заслуг Своего раба, избавил их от явной угрозы для жизни и свободы. В тот же миг он ощутил в сердце великое упование и уверенность — залог той милости, которую ему предстояло вскоре обрести. И сердце его не обмануло, ибо на них внезапно опустился столь густой туман, что, укрывшись в нём, их судно смогло пройти незамеченным мимо турок и благополучно достичь Майорки.
О другом случае, который можно счесть чудом ещё более явным, чем все предыдущие, и тем более драгоценным, что оно было даровано в награду за подвиг самообуздания, повествует в том же отчёте сам брат. Он говорит, что, находясь летом в одной из мастерских Коллегии, он получил от одного немощного инока просьбу достать из колодца кувшин с водой, который тот поставил туда для охлаждения. Брат, будучи в ту пору весьма занят своим делом и видя, что тот инок не настолько немощен, чтобы не исполнить самому то, о чём он просит, ощутил внутреннее негодование. Однако, тотчас опомнившись, с великой поспешностью оставил свою работу и пошёл доставать кувшин.
Тот был плохо привязан, по небрежности того, кто его опускал. Когда же Алонсо, с тем рвением, что рождается от самообуздания и желания утешить больного, потянул за верёвку, она развязалась. Но кувшин, вместо того чтобы упасть, чудесным образом последовал за верёвкой по воздуху, пока брат не смог взять его в руки, — притом что колодцы в тех краях весьма глубоки, как и этот, который служил для охлаждения. Об этом случае он никому не говорил, пока его не обязали дать письменный отчёт обо всех событиях его жизни. И тогда в своём повествовании он приписывает это великой нужде больного, которая, по его словам, была столь остра, что Бог благоволил уврачевать её чудом.
Последний случай, о котором пойдёт речь, — один из самых примечательных. Он произошёл в числе первых и свидетельствует о власти, которую сей святой брат имел над стихиями.
В 1587 году, в ночь на 8 декабря, в праздник Непорочного Зачатия Девы, на острове Майорка разразилась буря, одна из самых ужасных, какие только случались в тех морях. То был, по всей видимости, ураган, подобный тем, что мы иногда видим в этих краях, в Индиях¹. Ветры и вихри ревели с такой яростью, что вырывали с корнем деревья и опрокидывали знаменитые каменные кресты, что обыкновенно стоят у въездов в города; в этот раз их лишились самые видные места Майорки.
Порыв ветра, смешанный, по-видимому, с ударом молнии, ворвался через огромное световое окно, что над главным входом в кафедральный собор, с такой силой, что, пробив витражи вместе с рамами, в которые они были вставлены, вылетел через другое окно, что на противоположном конце храма. Обрушились многие здания, и в их числе — стена в нашей коллегии, которая, упав на соседние дома, погребла под собой одних и покалечила других.
В это время иноки находились в церкви. Встревоженные общей опасностью, гулом колоколов и криками народа, они взывали к Богу об избавлении. Но, услышав треск рушащейся стены и почувствовав, что разрушение коснулось и их обители, они выбежали вон, почти не разбирая, куда бежать в ночной тьме. Ректор, более всех озабоченный, видя разрушения и слыша жалобные вопли соседей, встретил брата Алонсо, который также спешил на помощь, и с болью сказал ему: «Что вы здесь делаете, брат? Идите на хоры и просите Господа нашего, чтобы Он укротил эту бурю».
Тот повиновался. Другой же брат, оказавшийся рядом, последовал за ним, дабы увидеть, что произойдёт. Он-то и рассказывает, что стоило лишь верному брату послушно простереться ниц пред Господом на хорах, как буря утихла. Не успели и три «Радуйся, Мария» прочесть, как ветер унялся, и небо начало проясняться, ко всеобщему изумлению, хотя лишь немногие знали причину столь внезапной перемены. Благодаря этому удалось откопать живыми нескольких человек, оказавшихся под завалами, и устранить многие разрушения по всему городу.
Случилось это за тридцать лет до кончины брата Алонсо, и сей случай — ясное свидетельство того, какой силой уже тогда обладали его молитвы пред Богом. В нём же мы обретаем и неопровержимое доказательство святости его жизни, на протяжении многих лет неослабной в совершенстве и щедро одарённой милостями Господа нашего.
_____
¹ Как уже упоминалось, в XVII веке испанцы называли все свои заморские владения в Америке и Азии общим термином «Индии» (Las Indias). Автор, писавший это житие в Маниле, называет так Филиппины.
Более тридцати лет досточтимый брат Алонсо нёс послушание привратника Майоркской коллегии, а именно, приблизительно до 1603 или 1604 года. За это долгое время он явил большинство примеров добродетели и совершил множество чудес и героических деяний, свидетельствующих о святости, о коих мы выше поведали.
Из повествования о последних годах его старости мы намеренно исключили лишь те события, которые, будучи помещены в ином месте, нарушили бы порядок изложения его добродетелей и сверхъестественных даров. Когда ему минуло семьдесят два года, здоровье его истощилось от непрестанной борьбы плоти и духа, силы ослабли, а тело изнемогло под бременем постоянного самоограничения. Настоятели, видя, что он уже не в силах выносить тяжёлых трудов и не может много ходить, сперва освободили его от подъёма по лестницам и других тяжких обязанностей его послушания. В конце концов, им пришлось и вовсе отстранить его от дел, поручив ему другие, полегче.
Иногда ему поручали сопровождать отцов, отлучавшихся по священническим обязанностям в окрестностях коллегии. Так продолжалось до 1610 года, ибо в оставшиеся семь лет он уже и на это не годился. В дни, когда было много посетителей, он порой помогал в привратницкой, следя за дверью, пока главный привратник отлучался. В остальное время он нёс иные послушания в обители, занимаясь лёгкими работами по поручениям настоятелей и никогда не уклоняясь ни от какого дела, которым его хотели занять. И никогда не искал он предлога ни в преклонных летах, ни в молитвенных подвигах, чтобы уклониться от внешних послушаний, подобающих его положению. Напротив, если настоятели в какой-то день забывали дать ему поручение, он сам шёл искать их; и, узнав, что предстоит некая тяжёлая работа, предлагал свои, какие бы ни были, силы для её исполнения.
Он едва держал в руках метлу, но непременно выходил подметать вместе с остальными; едва стоял на ногах, но в свой черёд мыл посуду на кухне, и не было способа избавить его от этого. То же касалось и прочих смиренных и внешних послушаний.
Внутренние же и духовные его подвиги в эти последние годы были, как и следовало ожидать от мужа, столь искушённого в благочестии и святости, ещё более высоки. С особым благоговением относился он к Святой жертве мессы. Не имея уже сил выходить в церковь, он прислуживал на всех мессах, что свершались в часовне обители; если не мог стоять на коленях ровно, то прислонялся к стене или, в крайнем случае, к стулу. Когда же недуги не позволяли и этого, он проводил бо́льшую часть утра на хорах, слушая все мессы, что там служили, — и так до последних двух лет своей жизни, когда Господь наш, закаляя терпение раба своего, лишил его и этого утешения.
Молитва его была столь высока, что, стоило ему лишь погрузиться в себя, как, прежде всякого слова, от одного лишь взгляда, который душа бросала на своего Жениха, она так проникалась любовью, что порой, не вмещая сердцем обилия божественных утешений, Алонсо вынужденно молил Господа удалиться, однако в течение дня он пребывал в столь глубоком единении с Богом, находясь в Его святом присутствии, что, даже если бы и захотел, не смог бы от Него отлучиться.
Одно время он был весьма изнурён недугами, и хотя за ним ухаживали со всей подобающей заботой, лучше ему не становилось. Настоятелю показалось, что это происходит оттого, что он постоянно держит свои душевные силы в напряжённом устремлении к Богу, не давая им ни минуты передышки, о чём свидетельствовал и его лик, подобный лику человека, погружённого в созерцание и отрешённого от всего земного. Поэтому настоятель сказал блаженному брату, чтобы тот на несколько дней «ослабил тетиву лука»¹, постаравшись «оставить Бога ради Бога»² и не погружаться так глубоко в Его присутствие, пока не вернётся к нему здоровье и обычные силы, и тогда он снова сможет продолжить свои упражнения.
Как верный послушник, он постарался, хотя это и казалось ему горьким питьём, тотчас исполнить то, что ему повелели. Он делал со своей стороны всё возможное, чтобы отвлечь мысль на иные, безразличные вещи, но тщетно трудился. Он бежал и удалялся, но когда думал, что уже весьма далёк, тогда-то и ощущал ещё более глубокое единение с Богом. Ибо желать, чтобы любящий забыл того, кого любит, всё равно что желать, чтобы камень не стремился к земле, а огонь не рвался в свою сферу.
Многие дни продолжалось это борение Алонсо, пытавшегося бежать от Бога, и Бога, его настигавшего, пока настоятель, видя, что тот более устаёт, пытаясь не думать [о Боге], чем когда думал о Нём, не сказал ему, чтобы он более не упорствовал в этом, но позволил духу, который его вёл, плавно нести его, — что, без сомнения, в подобных случаях и есть самый верный совет.
В другой раз, когда он лежал больной в постели, настоятели запретили ему его обычные молитвенные правила, дозволив лишь чтение розария. Он же почитал за молитвенное правило и само близкое общение с Богом; а поскольку ему сказали, что не дозволяют никакого иного правила, кроме розария, он добрую часть ночи боролся с самим собой, дабы отвратить свою мысль от Бога. И видя, что это ему никак не удаётся, обратился за помощью к Господу нашему, поведав Ему о своём горячем желании повиноваться и о невозможности, с другой стороны, это исполнить. «Ибо если Ты, Господи, — говорил он, — не хочешь оставить меня, то тщетно я буду трудиться, пытаясь оставить Тебя».
Пребывая в этих молитвенных беседах, он погрузился в весьма сладостный сон, который продолжался три часа кряду, — явление для него необычайное, ибо такого с ним не случалось уже многие годы. Но то был сон, подобный сну Невесты, ибо, когда тело спало, сердце его бодрствовало (ср. Песн. 5:2), и всё то время он пребывал в умственной молитве, тем более возвышенной, чем менее душа была стеснена [телом], как мы о том говорили в главе семнадцатой.
С возрастом недуги обыкновенно одолевают человека с новой силой. И поскольку брат Алонсо, из-за великого подвига внутреннего самообуздания, всегда отличался слабым здоровьем, в последние годы лишился его почти совсем. Несчастного терзали столь многие боли, что он чувствовал себя совершенно сокрушённым; всё тело его ломило, и, казалось, не было в нём косточки, которая бы не страдала. И постель, что служит для отдохновения, стала для него изощрённой пыткой; он даже не мог лежать, но лишь сидел на ней, прислонившись к подушке, и в таком положении находил хоть немного покоя.
Усилились отёки и язвы на ногах, которые были его обычным недугом. Всякая перемена погоды вызывала у него тяжкие приступы, в особенности же — изнурительные простуды, которые жестоко его терзали. Терпение и стойкость, с которыми он переносил эти недуги, достойны восхищения: никогда не слышали от него жалоб ни на врача, ни на лекарства, ни на брата-больничника. Если его спрашивали, как он, то даже в минуту страшнейших болей он обыкновенно отвечал с великой кротостью: «Всё будет хорошо, во славу Божию».
Ему было весьма тягостно, когда о нём заботились с особым вниманием. И когда ему велели садиться в трапезной среди немощных и хворых, он испытал от этого такую скорбь, что исполнение приказа пришлось отложить до его выздоровления от тяжкой болезни, которая постигла его в то же время. Господь наш научил его не уповать на человеческие средства, избавив его однажды внезапно от острейшей боли в тот самый миг, когда ему должны были приложить отвар из разных трав. Поскольку дело было в полночь, приготовление отвара потребовало немалых трудов, на которые пошли лишь потому, что сам брат, мучимый болью, дал понять, что желает этого средства. И он говорит, что, когда недуг оставил его, Бог научил его не желать и не искать средств земных, но лишь небесных.
Тогда же он, по собственному его признанию, научился и терпению в скорбях: брат-больничник, заметив, как в болезненные мгновения у него вырываются невольные вздохи и стоны, кротко их пресекал. Вняв этому безмолвному уроку, Алонсо сомкнул уста и с тех пор более не жаловался (ср. Ис. 53:7), ни в той, ни в какой-либо другой болезни.
С тех пор, едва занемогши, он тотчас вверял себя в руки Божии, уповая, что Его божественное Величество, как истинный Целитель нашего здравия, через врачей и больничных братьев подаст ему всё необходимое. Сам же он не просил ни лекарств, ни утешений, ни иных вещей мира сего; напротив, бежал от всякого облегчения и с великой радостью принимал горькие лекарства и тягостные уврачевания.
Он говорил, что саможаление во время болезней и недугов одолевает многих иноков, которых не могло одолеть во времена их полного здравия. И что для предотвращения этого вредного чувства весьма важны два правила, которым научил его опыт.
Первое: не придавать значения малым недомоганиям и обычным хворям, ибо лучше забыть о них, предоставив их исцеление естеству и доброму распорядку с помощью Божией, нежели пытаться лечить их с помощью лекарей и лекарств. Ибо от этого недуг либо укореняется ещё глубже, либо, по меньшей мере, инок привыкает к расслабленности и духовной теплохладности, которые проистекают от тех особых условий и послаблений, что сопутствуют немощным, находящимся на лечении.
Второе же правило: при чрезвычайных происшествиях и недомоганиях не звать тотчас, в первый же день, врача и братьев-больничников, когда болезнь не вполне ясна. Ибо случается, что саможаление представляет недуг более тяжким, чем он есть на самом деле. И прежде чем принимать решение, хорошо бы с усердием помолиться о вразумлении Богу и разузнать, от истинной ли нужды вопиет естество, или же потребность во врачах и лекарствах лишь мнимая.
О своих недугах и о том, как он их претерпевал, блаженный брат сам свидетельствует в одном из своих отчётов о совести, где пишет так:
«Боюсь, — говорит он, — просить о чём-либо, опасаясь саможаления. Страшусь и того, как бы не преувеличить нынешней своей немощи, и того, как бы после, из-за моих же слов, не удостоиться какого-либо послабления. Ведь настоятель распоряжается согласно тому, что ему докладывают, а я могу обмануть его, обманув сперва самого себя саможалением. И так я на опыте узнал, что не следует просить о чём-либо, едва лишь то придёт на ум, но лучше вверить свою нужду Богу и подождать, если возможно, два или три дня, пока страсть не утихнет, и тогда увидеть, не саможаление ли меня обманывало. Ибо, удержавшись от прошения, человек не только радуется затем своему терпению, но и обретает в награду телесное здравие, а заодно и великую заслугу пред Богом.
Что же до обмороков, телесных мук и приступов удушья, что терзают меня, то я уже многие годы таю их, доколе страдания не лишают меня сил и я едва могу двинуться. Но спустя несколько часов эта немощь, сковывающая члены, проходит. Прочие же недуги длятся, и я уповаю, что ими Господь будет посещать меня и утешать Своей милостью, пока я не умру, ибо в мире нет для них лекарства, так как они — милость Божия. Другие же, маловажные, болезни, когда я скрывал их, проходили через несколько лет, ибо я не обращал внимания на себя, а Бог — на них. Ибо, положись я на лекарства и советы врачей, быть может, и не знал бы того здравия, коим обладаю ныне.
Так и следует поступать обыкновенно, за исключением тех случаев, когда болезни тяжки и явны, как-то: горячки, колики и другие подобные, — ощутив столь острое недомогание, надлежит сообщать, как предписывает Устав, дабы исполнить святое послушание. Но и во время таких болезней я не прекращаю самообуздания, лишая себя всего, что служит для возбуждения аппетита — сластями, лакомствами, — разве что без этого не получается заставить себя съесть то, что необходимо для поддержания жизни. За столом я должен оставлять всё, что мне подают сверх общего, а из общего — вкушать то, что подобает пред Господом, в Чьём присутствии я должен есть.
Зачастую с болезнями и недомоганиями (особенно если они продолжительны) через послабления и утешения в иноческую жизнь исподтишка проникают великие беды. И если мы, немощные и хворые, не будем за этим следить, то вскоре окажемся в неволе чувств и рабстве у своих влечений, которые от полива утешений пускают новые ростки, подобно деревьям, подрезанным и политым весной. Плоть — весьма хитрый и жестокий враг, и сколько она теряет сил в трудах и болях, столько же, и много более, старается наверстать в послаблениях во время самой болезни и выздоровления. А потому надлежит всегда бодрствовать и не пренебрегать умерщвлением плоти» (ср. Мф. 26:41).
За столь великое усердие в подвиге самообуздания и в других добродетелях, которые ревностный брат проявлял во время недугов, Господь наш тотчас вознаграждал его особыми милостями и посещениями.
Однажды он лежал, сражённый тяжкой болезнью, хотя и не настолько опасной, чтобы обязательно присматривать за ним ночью. И вот, когда Алонсо остался один, а в келье горел светильник, увидел он, как в дверь вошли Иисус и Мария в таком сиянии, что пламя светильника показалось тенью. Они приблизились к его ложу и, устремив на болящего свои благостнейшие взоры, одним лишь взглядом отняли у него телесные боли и исполнили душу его такого утешения, что добрый брат разразился хвалами и нежными словами к сладчайшим своим Владыкам. И возгласы его были так громки, что их услышал некий инок, находившийся в другой, довольно отдалённой, келье. Тотчас он поднялся, опасаясь, как бы с братом чего не случилось, но едва переступил порог кельи, как видение исчезло к великому огорчению болящего, которого брат застал сидящим на своей постели. В тот же миг боли снова нахлынули на него, и пришедшему навестить его отцу открылось широкое поприще для дел милосердия.
В другой раз, когда его также терзали жестокие боли (а вместе с тем он пылал стремлением страдать ещё и ещё), внезапно, без всякого помысла или желания с его стороны, предстал ему Иисус Христос, Бог и Господь наш, и открылись ему, словно драгоценный «пучок мирры» (ср. Песн. 1:12), все труды и мучения, которые Он претерпел в Своём святейшем теле и душе за людей. Он показал ему их одно за другим, и в особенности то, как Он претерпел их за самого брата, увещевая его при этом словами дивной силы и призывая радоваться в страданиях.
Посещение это длилось недолго, и всё же утешения и ликования души были столь велики, что он многие дни не мог их забыть. Он также свидетельствует, что Сам Христос оживлял в его памяти как само видение, так и принесённые им обеты служить Ему и много страдать ради любви Его. Ибо, по учению Апостола, по мере скорбей и болей, претерпеваемых за Христа, снисходят дары Его и утешения (ср. 2 Кор. 1:50), что мы и видим на примере нашего святого.
_____
¹ «Ослабить тетиву лука» — старинная монашеская поговорка, восходящая к апофтегмам египетских отцов-пустынников. В «Собеседованиях» преп. Иоанна Кассиана (Собеседование 24, гл. 21) приводится рассказ о том, как св. ап. Иоанн Богослов, в ответ на упрёк охотника в том, что он позволяет себе развлечения, объяснил ему на примере лука, что постоянное напряжение губительно как для оружия, так и для души.
² «Оставить Бога ради Бога» — классический парадокс, встречающийся в трудах многих христианских мистиков, в частности, у Майстера Экхарта. Смысл его в том, чтобы отказаться от собственных, ограниченных представлений о Боге, от эгоистического желания «обладать» Им или Его утешениями, чтобы обрести Самого Бога, каков Он есть, в Его непостижимой сущности.
Тяготы — это богатейший рудник душевной пользы, добродетелей и заслуг, коими приумножается сокровище благодати и стяжаются вечные награды и венцы. А потому принимать их из руки Божией есть величайшая милость, которую Он оказывает в этой жизни ближайшим Своим избранникам. И поскольку время спешить с приумножением сокровищ наступает тогда, когда человек приближается к смерти, потому-то на исходе земного пути, в преклонные лета, Господь и подаёт Своим слугам обильные поводы к страданию ради любви к Нему.
Эту истину брат наш Алонсо Родригес подтверждал примером Христа. «Несомненно, — говорил он, — Отец Предвечный должен был даровать Своему Единородному Сыну, ставшему человеком, драгоценности наивысшей цены. И потому в жизни Он дал Ему труды, пот и лишения, а в час смерти — муки, боли и Крест, дабы претерпеть их из любви к Отцу. А потому и нет для души в этой жизни сокровища драгоценнее, ни приготовления к смертному часу лучше, ни залога вечности вернее, чем страдания, с любовью принятые ради своего Создателя».
Так говорил досточтимый брат; и если слова суть отражение того, что происходит в сердце, то легко угадать, как высоко ценил он Крест. Будучи, по своему обыкновению, весьма молчалив, он, если речь случаем заходила о страданиях за Христа, уже не знал удержу.
Помнится, менее чем за два года до его блаженной кончины, когда он лежал в постели, весьма больной, так что едва мог говорить, я вошёл однажды ночью навестить его и долгое время смотрел, как он страдает, не произнося ни слова, дабы не утомлять его. Так же поступали и прочие, навещавшие его в те дни. Когда я собрался уходить, то, скорее с намерением проститься, нежели затеять долгую беседу, спросил его, как он переносит те тяготы, что посылает ему Бог. И добавил, что все мы весьма сострадаем, видя его мучения.
Едва он услышал слова «тяготы» и «страдает», как тут же поднял голову и, оперевшись на подушку, начал разговор на эту тему, словно был здоров. Он перешёл к тяготам св. Павла и с жаром говорил о неотступности того искушения, или тягости, из-за которого апостол сказал: Ter Dominum rogavi, ut discederet a me («Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня» — 2 Кор. 12:8). Он изъяснил великое учение, что заключено в ответе, который дал ему Бог: Sufficit tibi gratia mea («Довольно для тебя благодати Моей» — 2 Кор. 12:9), говоря, что в этих словах нам даётся уразуметь, сколь великая милость — благодать страдания ради любви к Нему, ибо именно это Он и даровал Апостолу, а не то, о чём тот просил.
Около четверти часа он с великим жаром и красноречием говорил об этом и о многом другом, чего память моя уже не сохранила. Я же, будучи в тот час его единственным слушателем, дивился и смущался, зная, что, как я уже упоминал, недуг иссушил его уста до такой степени, что он едва мог говорить. Но, по правде говоря, для речей о страдании у брата Алонсо всегда находились слова, сколь бы сильно ни сушила его лихорадка, ибо в нём царил иной, высший жар — жар любви божественной, который и делал его мужественным в тяготах и красноречивым в речах о них.
В другой раз, когда мы во время часа отдохновения сидели вместе с Алонсо, пришёл настоятель и, рассуждая о вещах духовных, сказал: «Как прекрасно, братья, всегда помышлять о Боге, говорить о Боге и действовать ради Бога! Не правда ли, брат Алонсо?» — «Истинная правда, — отвечал брат, — всё это хорошо, но лучше всего — страдать ради Бога».
Так завязалась между настоятелем и братом беседа, послужившая нам великим утешением. Из этого и других подобных случаев, о которых можно было бы поведать, ясно видно, как высоко ценил он тяготы.
Недостаточно лишь умозрительно ценить тяготы, когда они не касаются напрямую твоей жизни. Посмотрим же, как брат справлялся с ними, когда их посылал ему Господь наш. Он сам говорит об этом, повествуя в третьем лице, сими словами:
«Помнится мне один человек, который долгое время упражнялся в самоотречении и победе над собой следующим образом. Когда его постигала какая-либо тягота, или гонение, или нечто, противное его воле, или же его укоряли и презирали; и когда на него находило какое-либо сильное искушение, досада или беспокойство, — будь то от чужой руки, от собственной плоти или от диавола, — он, едва лишь его постигала тягость, старался претворить желчь беспокойства и печали в мёд таким образом: он предстоял своему Богу и единым изъявлением любви обнимал и Его, и саму тяготу, и долгое время старался преуспеть в этом. Это весьма горько, но и весьма ценно.
Многие годы это казалось ему безвкусным, как горькое лекарство. После же он пришёл к тому, что возлюбил тяготы. Каждый раз он намеренно удалялся в свой уголок, где вёл брань духовную.
Так душа сия достигла великого и высокого созерцания. И, вкусив плод его, она в этом упражнении — намеренной борьбе с тяготами в своём уголке — обрела великую пользу, ибо так человек приходит к тому, что начинает любить гонителя своего, и чем сильнее гонение, тем сильнее любовь.
Это ценнее, нежели творить чудеса, ибо в чудесах человек — лишь орудие, здесь же он трудится сам. Это весьма нелегко, но подобно тому, как человек, страдающий от боли в зубе, всё не решается его вырвать, однако, решившись претерпеть недолгую муку и исторгнуть его, обретает великий покой».
В своей первой тетради святой брат подробнее излагает этот важный пункт, приводя упражнение, научающее принимать тяготы из руки Божией, то самое, которое он и сам практиковал. Он пишет так:
«Да предстанет душа пред Богом своим, и да положит тяготу, великую или малую, что в данный момент её гнетёт, между собою и Им, и да обратится к Нему с любящим сердцем со словами: 'Господи мой, я благодарю, хвалю и благословляю Тебя за милость, столь великую, что Ты являешь мне, даруя сию тяготу, которую я ныне несу, и уповаю претерпеть её ради любви к Тебе'.
Надобно взирать на то, что именно Бог посылает тяготу, а не тварь, не бес и не человек, и что Он дарует её душе на великое благо. И потому пусть она скажет Ему: 'Я буду любить Тебя, Господи мой, всё больше и больше за эту милость, которую Ты являешь мне, давая мне пострадать ради любви к Тебе'. И, взирая на своего Бога, да выкажет она в Его присутствии со всей силою радость в сердце, и любовь, и благодарение Богу за то, что страждет ради любви Господней в той тяготе, которую в сей миг несёт. В этом исполняется воля Божия и упражняются любовь, терпение и мужество, покуда горечь тяготы не претворится в сладость, и душа не почтёт за великую милость Божию то, что Он дал ей нечто, в чём она может подражать Его Единородному Сыну, распятому ради любви к ней, ибо любовь оплачивается любовью.
И так, с течением времени, благодаря этому упражнению она с помощью благодати Господней столь возлюбит страдания, что будет всегда желать ещё больших тягот ради любви к Богу, и будет просить их и ожидать с нетерпением, ради великого плода, который от них получает. И если тяготы эти придут к ней через каких-либо людей, она, вознося сердце к Богу, скажет Ему: 'Господи, гонителей и мучителей моих я возлюблю ещё сильнее, ибо они оказывают мне величайшее благодеяние, даруя случай пострадать ради Тебя, столь много за меня претерпевшего. Они — не злодеи, но друзья и великие благодетели мои, и как таковых я буду любить их, молиться за них и творить им добро в меру сил'.
К этому упражнению душа должна готовиться прежде, чем придут тяготы и невзгоды, упражняясь в нём, согласно изречению: Iacula praevisa minus feriunt (Стрелы предвиденные ранят слабее). Ибо воин подготовленный уже наполовину одолел врага. В этом упражнение и состоит, чтобы, отвергшись себя, следовать за Христом Распятым и подражать Ему».
Доселе — слова брата Алонсо, который посредством этого упражнения достиг высочайшей степени совершенства, какая только возможна в сей способности, заключающейся в том, чтобы принимать тяготы, как дары, а дары — как мучения, в чём он сам признаётся в одном из своих отчётов о совести. «Этому человеку, — пишет он, — невзгоды служат к преуспеянию и радости, ибо побуждают его прибегать к Богу, в Котором он обретает врачевание; дары же и доброе обхождение для него — мучение».
Сверхприродная особенность совершенных мужей — находить соты в пасти мёртвого льва (ср. Суд. 14:8–9); чудесным искусством духовной алхимии извлекать золото из меди; спасительным составом небесного териака¹ претворять яд в лекарство. Безвкусное становится для них лакомым, горькое — сладким, и этим путём они достигают такого состояния, что ничто уже не может причинить им боль, кроме отсутствия боли и мук ради Бога.
Желая, таким образом, обогатить Своего раба Алонсо этим драгоценнейшим сокровищем тягот и довершить венец, который ему предстояло стяжать на небесах, Его Божественное Величество попустил, чтобы в эти последние годы не только усугубились его болезни и недуги, но и чтобы бесы стали нападать на него и досаждать ему различными способами.
Сперва они попытались лишить его жизни, сбросив с лестницы. Однажды, безмятежно поднимаясь по лестнице коллегии, он почувствовал, как на него налетел вихрь зловонного воздуха, источавшего адский смрад. От невыносимого этого смрада он едва не лишился чувств, и его охватил страх, что его задушат с быстротою накинутой на горло петли. В величайшей опасности он воззвал к своему Господу и тотчас узрел плод своей молитвы, ибо некая тайная сила подхватила его со спины и вынесла из удушающего облака.
В другой раз, поднимаясь по той же лестнице, он упал с неё, и падение его было столь опасным, что те, кто увидел его лежащим, сочли его мёртвым. Он рухнул навзничь, что казалось невозможным, ибо ходил он сильно сгорбившись и должен был упасть лицом вперёд, но перелетел, не коснувшись ступеней, до первой площадки, словно подхваченный воздухом. К этому добавилось и то, что после столь опасного падения у него остались лишь две небольшие раны на голове, которые, несмотря на тщательный уход, оставались свежими и не заживали двенадцать дней, пока на следующее утро, когда цирюльник хотел их обработать, не обнаружил, что они совершенно зажили. По его мнению, без чуда это было бы невозможно.
В те дни Господь наш одарил брата Алонсо жесточайшими болями, и, при всей его обычной сдержанности, они были таковы, что, когда я, тогда ещё брат-студент, дежуря при нём в ту ночь, спросил его, как он себя чувствует и как провёл ночь, он отвечал мне: «Я претерпел боли, подобные адским». А одному почтенному отцу он признался, что в течение всей той болезни диавол терзал его искушениями более сильными, чем за всю его жизнь, дабы, пока тело его страдало от болей, душа страдала от страхов, и ни одна часть его существа не знала бы ни покоя, ни отдохновения.
Все эти испытания послужили как бы подготовкой к последней, решительной битве, которую дали сему рабу Божию князья тьмы. Господь предостерёг его, готовя к ней; однажды, когда Алонсо прислуживал на мессе, Он сказал ему: «Готовься, Алонсо, много пострадать, ибо в час смерти твоей Я утешу тебя». Доблестный воин Христов нимало не смутился этой вестью, но, ободрённый небесным предостережением, с великим мужеством ожидал грядущего сражения.
И вот бесы воздвигли против него жестокую брань, подобную той, о которой мы говорили в двенадцатой главе. Они являлись ему в обличье ужасных чудовищ; иногда наваливались на него, давя своей тяжестью, подобной горе; в другой раз сковывали ему руки, ноги и прочие члены тела до онемения, отчего они становились словно деревянные; а порой враги так сильно ранили его железными орудиями, что, по словам брата, от подошвы стопы до макушки головы на нём не оставалось здорового места. В этих случаях он прибегал к Богу, призывал на помощь Иисуса и Марию, и Они обыкновенно являлись ему в конце сражения, своим присутствием прогоняли злых духов, утешали его, исцеляли его раны, укрепляли его кости, так что не оставалось ни следа, ни знака от пережитого.
Эти схватки продолжались несколько лет в его преклонном возрасте. А когда срок, отпущенный адским слугам, подходил к концу, они решили предпринять последнее усилие, подвергнув брата многим из тех мучений, которыми терзали святых мучеников. Так, однажды ночью они ворвались в его келью со скорпионами, гребнями, железными когтями, раскалёнными пластинами и другими орудиями пыток. Они окружили блаженного брата и, жестоко схватив, распростёрли на его же постели. Там они нанесли ему множество ударов, терзали его плоть гребнями и железными когтями, прикладывали раскалённые пластины. И, наконец, начали жечь его пронизывающим огнём, отчего он, по его признанию, утратил присутствие духа и, почти сломленный яростью пламени, уже не мог его выносить.
Господу нашему было угодно, чтобы это мученичество продлилось недолго: Он явился ему, исцелил и утешил его со Своей обычной благостью. После этого брат много смирялся и смущался пред Господом нашим за то, что, столько раз полагая страдать всё больше и больше ради любви к Нему, так скоро обессилел пред испытанием.
Об этих мучениях, которым демоны подвергали Алонсо в старости, пишет его духовник, отец Матео Маримон, в своих рукописях. А в отдельном письме, которое он мне на эту тему составил, утверждает, что почерпнул свои сведения из записки, начертанной рукою самого Алонсо, и подтвердил свидетельством некоторых отцов, бывших его настоятелями и духовными наставниками. Я же сообщил об этом одному иноку, которого почитаю за святого и с которым святой брат много общался в последние годы своей жизни. В ответ на просьбу о совете, тот сказал мне, что, беседуя с Алонсо на эту тему, он подтвердил ему истинность всего, что мы только что изложили. И, желая выяснить, были ли эти мучения телесными и видимыми, посредством настоящих и действительных орудий, или же только воображаемыми, через яркие образы и представления о них, он задавал ему различные вопросы и пришёл к выводу, что имело место и то, и другое.
Святая аббатиса Хильдегарда, чью жизнь приводит Сурий² в сентябрьском томе, говорит о себе, что бесы по попущению Божию мучили её, как св. Лаврентия и других мучеников. В житиях св. Гутлака и блаженной девы Колетты, которые приводит тот же автор, и в житиях других, более поздних святых, можно найти и другие подобные случаи. Так что нет ничего нового в том, что Господь наш подвергает Своих слуг всем этим испытаниям, дабы дать им возможность заслужить [награду], а нам — повод для восхищения и подражания в той части, что касается нас.
_____
¹ Териак (от греч. θηριακή, лат. theriaca) — в античной и средневековой медицине знаменитое сложносоставное противоядие, считавшееся универсальным лекарством от всех ядов и многих болезней.
² Лаврентий Сурий (лат. Laurentius Surius, нем. Lorenz Sauer, 1522–1578) — немецкий монах-картезианец, агиограф и историк. Его главный труд — монументальный сборник житий святых De probatis Sanctorum Historiis («О достоверных историях святых»), изданный в Кёльне в шести томах (1570–1575). Этот сборник, организованный по месяцам церковного календаря, стал одним из важнейших и наиболее авторитетных агиографических источников для католического мира в эпоху Контрреформации.
За рассказом о тяготах уместно будет поведать о дарах и милостях; и хотя в этой истории уже описано их великое множество, Господь наш столь щедро украсил ими раба Своего, что многое ещё осталось нерассказанным. Из этого множества мы приведём здесь лишь самые примечательные примеры, относящиеся к последним годам жизни святого, или же те, которым доселе не нашлось подобающего места в нашем повествовании.
Поведаем же для начала о том, что случилось с ним в августе 1610 года, за семь лет до его кончины. В те дни он с особым усердием подвизался в искусстве полного самоотречения, горячо моля Господа, дабы Тот всецело им обладал и распоряжался его судьбою по Своему соизволению, ниспосылая как утешения, так и скорби — всё, что будет Ему угодно. Единственным его желанием, единственным помыслом стало отрешение от себя, дабы безраздельно принадлежать Богу. И Господь, как бы тронутый этим пламенным порывом, изволил в то время принять раба Своего в Своё вечное и безраздельное обладание.
Однажды в упомянутом месяце, когда он после полудня находился в церкви, ожидая, пока соберётся вся коллегия для духовного собеседования, которое должен был провести провинциал, Алонсо столь глубоко погрузился в богообщение, что совершенно забыл о вышних дарах и милостях. И тут очами души он узрел, как с небес по воздуху снизошла ослепительная молния, и почувствовал, как сердце его пронзил луч, знаменующий божественную волю, и она овладела им. С той поры воля сия так запечатлелась в нём, что он уже не мог помышлять ни о чём ином, кроме как об исполнении благоволения Господня. В итоге ему уже казалось, будто не он действует, но Бог в нём (ср. Гал. 2:20); что Бог взирает его очами, слышит его ушами, говорит его устами, орудует его руками; словом, что Бог стал душою, а Алонсо — телом.
Видение это было духовным, из тех, что, как я уже упоминал, относят к первому разряду. Тем не менее, оно вызвало в нём столь заметную внешнюю перемену, что мы, находившиеся там, не могли её не заметить, и, как мне кажется, он едва не вскрикнул вслух. С той поры он пребыл как бы обо́женным (endiosado), запечатлённый печатью божественной воли, не имея ни иного желания, ни иной воли, кроме воли Божией, что и есть высочайшая точка пути единения, каковую превозносит сам брат в своей второй тетради сими словами:
«Дабы всецело принадлежать Богу, надлежит совершить в сердце множество внутренних усилий самоотречения, предавая Ему душу без остатка. Ибо так, с помощью Его благодати, достигается та высшая ступень, на коей воля человеческая при любых обстоятельствах уже не желает ничего, кроме того, чего хочет Бог, — а сие и есть величайшее уподобление Ему, возможное для смертного. О нём святой Бернард говорит (места бр. Алонсо не указывает): "То и есть высшее совершенство, когда дух наш столь соединён с Богом, что не только желает того, чего желает Бог, но и не может желать иного. Ибо желать того, чего желает Бог, — значит быть подобным Ему; а не быть в силах желать иного, кроме того, что желает Он, — не то же ли это, что и быть в некоем роде тем же, что и Он? Ибо в Боге бытие и хотение — одно"».
Таковы слова досточтимого брата Алонсо, описывающего вершину совершенства, на которую возвёл его Бог в эти последние годы его старости.
В другой раз, когда, снова возгоревшись желанием всецело предаться воле Господа и сообразоваться желаниям Его, блаженный брат вкусил той услады, которую Он изволил Ему даровать, и испытал восхищение духа с великой быстротой и силой. Ему показалось, что с незримой лёгкостью он миновал большую часть небес, причём, пройдя через второе, очутился в некой тьме, пока, достигнув высочайших пределов, не оказался посреди света, несравненно более яркого, чем солнечный. И в нём явился ему Господь наш в сонме блаженных, наполнив его в сверхъестественном и божественном свете познания такой ясностью, что, по его словам, он узнал всех святых вместе и каждого в отдельности, постигнув имена и подробности жизни каждого, словно с малых лет рос рядом с каждым из них.
В иной день, едва оправившись от одной из жестоких битв, которые ему случалось вести с невидимыми врагами, Алонсо вознёсся на небеса, дабы отпраздновать там свою победу, при этом он не понял, до каких высот, но говорит, что, по-видимому, много выше, чем в прошлый раз. И познание Высочайшего Блага, Которое он узрел, было столь превосходным, что он не смог бы его изъяснить; мог сообщить лишь одно воспоминание, навеки запечатлевшееся в его памяти: ему дано было узреть там божественную сущность, однако же не во всей её полноте. «Словно бы, — говорит он, — говоря на наш лад, божественная сущность была сокрыта под двумя расшитыми покровами. Господу было угодно открыться мне в тот миг, сняв один из покровов, и потому я видел Его несовершенно. Для Блаженных же, что уже пребывают во славе, нет ни покрова, ни завесы: они видят божественную сущность ясно, и этим видением они и блаженны».
Доселе — слова блаженного брата, который, не обучавшись в школах, в этих своих словах осторожно обходит то богословское затруднение, которое обыкновенно здесь возникает: как может Бог явить Себя de facto2 земному страннику с тем совершенством и ясностью, с какими видят Его Блаженные на небесах.
О подобной милости повествуется и в житиях других святых братьев-коадъюторов, как, например, святого брата Эгидия3, одного из первых сподвижников святого Франциска, а в наши времена — досточтимого брата Франциска Младенца Иисуса, босоногого кармелита4.
И после сего многократно восхищался духом блаженный наш Алонсо, возносясь на небо и удостаиваясь там милостей и даров от сладчайших своих возлюбленных, Иисуса и Марии; и пребывал он в восхищении то краткий миг, а то и долгое время. Самым же примечательным случаем был тот, что произошёл в январе 1614 года, когда, по собственному свидетельству, блаженный брат целые дни напролёт пребывал в небесных чертогах. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, — говорит Христос (Лк. 12:34). Все беседы, помыслы и желания Алонсо были на небесах, и потому Бог столько раз возносил его туда, даже в этой смертной жизни.
Поведаем теперь о некоторых святых душах, которые он видел в тех обителях славы и вечного блаженства. И первыми стоит упомянуть его сестёр, Юлиану и Антонию, о чьей примерной жизни упоминалось в первой главе этой книги. Брат нежно любил их, как по причине плотских уз, так и потому, что Бог весьма благоволил к их душам. Он утешал их письмами, исполненными высокого духа и наставления, и воодушевлял их с радостью нести неудобства и тяготы этой жизни. И, устремляя взор к иной жизни, он весьма усердно просил Господа нашего, чтобы, когда Он призовёт их из этой жизни, они прямо взошли к блаженному созерцанию Его Величества, миновав чистилище.
Он получил благосклонный ответ, а после их смерти, прибавляя благодать к благодати, Бог пожелал, чтобы он увидел то состояние, в котором они пребывали во славе, и явил ему обеих, облачённых в драгоценные золотые одеяния, с радостными ликами предстоящих на коленях пред Агнцем. Брату было дано уразуметь, что золотые одеяния означают великий пыл, с которым они любили Бога в этой жизни, и согласное единение, которое они хранили между собой много лет. А то, что они стояли на коленях, указывало на их непрестанную молитву. Вместе с тем их сияющие лики выражали горячее желание, с которым они ожидали его в том мире света, и давали ему понять, что час их воссоединения близок, — таково было видение, явленное брату о его сёстрах.
Отец-магистр Бартоломе Кок одиннадцать лет служил ректором Майоркской коллегии; именно он, как уже говорилось в пятой главе, принимал от брата Алонсо его простые обеты. Возвратившись с Сардинии, где он нёс служение вице-провинциала, в Майорку, он занемог тяжкой болезнью. И когда он уже был при смерти, иноки коллегии собрались в его келье, дабы помочь ему в смертный час своими молитвами и проводить его своими воздыханиями.
Среди прочих пришёл и брат Алонсо; он преклонил колени у дверей кельи и, пламенно молясь о своём ректоре, узрел духом, как разверзлись небеса, где ангелы и святые с ликованием и радостью ожидали его. И было ему сказано, что и его самого в своё время примут в тех чертогах с той же радостью, а покуда ему надлежит спешить трудиться и украшать свой венец послушанием и непрестанным самообузданием.
Видение это продлилось около получаса, и Алонсо оно исполнило радости и утешения, в то время как прочие, помышлявшие лишь о земной утрате, пребывали в скорби и унынии.
Отец Кок был иноком крепчайшей добродетели, соответствующей первоначальному духу ордена, ибо вступил в Общество во времена, близкие к временам отца нашего святого Игнатия. Он обладал даром проповеди, который и упражнял на Майорке в течение двенадцати лет с таким успехом, что, желая похвалить какого-либо проповедника, говорили, что он походит на отца Кока. Он основал школы при той коллегии, положил начало строительству храма, расширил владения обители и совершил другие славные дела на благо её и всего города. Город горько оплакивал его кончину и устроил ему торжественные похороны, на которые, без особого приглашения, сошлись и церковный капитул, и все монашеские ордена, и все в превосходных выражениях свидетельствовали о великом почтении, которое питали к его добродетели и благочестию.
Много лет спустя он удостоился другого откровения о славе иного отца, также бывшего его настоятелем, по имени Хуан Рико, который с юных лет был украшен всеми добродетелями, в особенности же — самообузданием, молитвой и послушанием. Побуждаемый ими, он в 1589 году посвятил себя уходу за зачумлённым в Барселоне, столице княжества Каталонского, и, много потрудившись в этом славном служении, заразился тою же болезнью вместе со своим спутником, который от неё и скончался. Отец же Рико остался в живых, дабы ещё послужить Господу нашему.
В добродетелях он был весьма подобен брату Алонсо, а в ту пору, когда он несколько раз был его настоятелем, с ними случались разного рода примечательные происшествия. Расскажу здесь об одном из них, ради той пользы, которую знание о нём может принести другим.
Однажды отец Рико проповедовал в одном из монастырей города Майорки перед многочисленным собранием. Проповедь его была сложновата, а к тому же произнесена на кастильском наречии, которое чуждо простому народу того края. Брат Алонсо сопровождал отца, и по окончании проповеди, когда тот ещё молился на кафедре, услышал голос, говоривший ему: «За эту проповедь ректор твой будет расплачиваться в чистилище». Голос не назвал причины, но брату было дано уразуметь, что наказание грозит ректору за то, что он не проповедовал на народном наречии, хотя и мог, будучи родом из Валенсии.
Брат, движимый ревностью о славе Божией и о благе своего настоятеля, поведал о случившемся одному старому отцу, исполнявшему должность эконома, и по его велению рассказал обо всём ректору. Тот выслушал его с кротостью и с той поры принял решение впредь не проповедовать на языке, который не был бы понятен всем. Некоторым кажется, будто они наносят оскорбление Священному Писанию, если не говорят о нём изысканным языком, и не замечают, что этим лишают слушателей плода, а себе самим готовят великие муки в иной жизни, если вовремя не изменят способа изъясняться и не постараются загладить в этой жизни допущенные упущения, — что, как можно верить, и сделал отец Рико.
Он, многие годы упорствуя в подвиге и покаянии, скончался, почитаемый за святого, будучи ректором коллегии Сео-де-Уржель в Каталонии. Когда до слуха брата Алонсо дошла весть о кончине его доброго отца и друга, он погрузился в молитву и долгое время усердно просил Бога за его душу. Утешение не замедлило явиться: он узрел отца Рико в прекрасном сиянии славы, притом с головы до ног его окружали лучи, подобно тому, как обыкновенно изображают Деву, без греха зачатую. От главы и лика его исходили другие лучи, ярче, сплетавшиеся в ослепительно блиставшую диадему. Место же, которое он занимал, было выше ангелов первого чина. Таково было откровение, о котором поведал сам брат. С тех пор он исполнился к почившему отцу такого благоговения, что многократно призывал его в молитвах и часто видел его на небесах в том же лучезарном обличье, угадывая в его взгляде немое желание скорой встречи с ним в блаженном общении.
Надёжным свидетельством славы отца Хуана служит и то, что тридцать пять дней спустя после его кончины, когда тело покойного переносили из старой церкви в новую, оно оказалось таким же невредимым и мягким, как и в час смерти. Он же, в свою очередь, столь высоко чтил святость брата Алонсо Родригеса, что хранил как реликвию письмо, собственноручно им подписанное.
_____
¹ В оригинале — endiosado. Это слово указывает на понятие тео́зиса (обо́жения) — реального, благодатного соединения человека с Богом, в котором он становится «причастником Божеского естества» (2 Петр. 1:4). Хотя сам термин «теозис» более характерен для восточного, православного богословия, сама идея глубочайшего преображающего единения с Богом составляет сердцевину католической мистики, в том числе и иезуитской.
Испанские мистики XVI–XVII вв. и богословы Общества Иисуса использовали для описания этого состояния различные термины:
Unión transformante (преображающее единение): Наиболее точный и часто используемый термин, особенно у таких авторов, как иезуит Луис де ла Пуэнте (1554–1624). Он описывает состояние, когда душа не просто соединяется с Богом, но и преображается в Него по благодати.
Participación de la naturaleza divina (причастие Божескому естеству): Более строгий термин, используемый богословами-схоластами, такими как Франсиско Суарес (1548–1617), для объяснения онтологической основы обожения через освящающую благодать.
Endiosado (обо́женный): Этот термин, более поэтический и «опытный», вошёл в богословский обиход благодаря св. Иоанну Креста. Употребление его автором жития, показывает, что это слово было частью духовного лексикона эпохи для описания вершины мистического опыта, к которому ведут, в частности, «Духовные упражнения» основателя ордена, св. Игнатия Лойолы.
2 Лат. de facto — «на деле», «фактически». Автор подчёркивает, что речь идёт о реальном, а не только воображаемом видении.
3 Святой Эгидий Ассизский (ок. 1190–1262) — один из ближайших и наиболее любимых учеников св. Франциска Ассизского. Он не был священником (оставался братом-мирянином) и прославился простотой, глубокой мудростью и многочисленными мистическими дарами, включая экстазы и видения.
4 Досточтимый Франциск Младенца Иисуса (исп. Francisco del Niño Jesús, 1543–1606) — испанский монах, брат-коадъютор ордена босоногих кармелитов, современник св. Терезы Авильской и св. Иоанна Креста. Он также был известен своей святой жизнью и мистическими переживаниями.
К воспоминаниям о двух упомянутых отцах мы присоединим память о двух братьях, также иноках нашего Общества. Один из них служил поваром в нашей Майоркской коллегии в то время, когда Алонсо был там привратником. Родом он был из Сопуэрты, что в Бургосской епархии, и звали его Диего Руис. Тридцать три года он провёл в Обществе, а кончина его пришлась на первый день июня 1601 года.
Едва он испустил дух, как брат Алонсо начал читать о нём розарий — три части, как то предписывает Устав. Прочитав две и собираясь уже приступить к третей, он восхитился духом и вознёсся на небеса, где очутился между Девой, Владычицей нашей, и братом Диего Руисом. И так они пробыли втроём — Мария, Диего и Алонсо — наедине более получаса, и никакой посторонний помысел не мог помешать этому святому общению. Алонсо заметил, что Дева, Владычица наша, весьма радовалась своему благочестивому сыну, брату Диего Руису, а тот с весёлой и скромной улыбкой являл ликование, которое вызывало в нём обретённое им великое благо. Алонсо спросил, может ли он поведать об этом откровении — к славе брата Диего Руиса и Самой Девы. Она отвечала, что да. Он хотел было продолжить чтение третьей части Розария, дабы исполнить Устав, но Сама Владычица сказала ему: «Уже не нужно, сын мой, ибо Диего в Моём обществе, как ты то видишь».
Записав это своей рукой, Алонсо добавляет:
«Этот брат Диего с таким благоговением чтил Матерь Божию, что всякое свободное мгновение, не упуская притом своих послушаний, посвящал чтению розария и литаний Деве, а также Часов в честь Её Непорочного Зачатия. Могу засвидетельствовать: в последний год жизни он достиг в подвиге самообуздания таких высот, что я не переставал тому дивиться. За все двадцать девять или тридцать лет я не припомню, чтобы он хоть раз испросил позволения отдохнуть, прогулявшись в поле или иным каким-либо образом. И во всём прочем он выказывал такое безразличие к собственным удобствам и так искал нищеты, словно и вовсе не имел телесных нужд».
Доселе — его запись. А надёжным подтверждением тому последнему, о чём он пишет, служит то, что за двадцать лет послушания на кухне брат Диего всегда брал себе самую худую часть, довольствуясь остатками от трапезы прочих и уверяя, что и этого для него слишком много. И он ухитрялся устроить так, чтобы ему всегда их оставляли, хотя те, кто ухаживал за ним, старались этого избегать. Одежда его была худшей в обители, и даже маленький Часослов Пресвятой Девы, по которому он обыкновенно молился, был так стар и истрёпан, что его приходилось перевязывать ниткой или лентой, дабы не выпадали листы.
Сей брат слушал почти все мессы, ибо кухня тогда находилась недалеко от хоров, ведь коллегия ещё не была достроена, и распределял свои занятия так, что, спустившись на кухню после того, как священник причастится, мог вернуться наверх, когда выходили служить следующую мессу. С тем же благоговением и постоянством он возвращался туда и после полудня, дабы вознести молитвы розария, который читал почти непрестанно, хотя порой и в ущерб стряпне, ибо это и был тот самый повар с тыквами, о котором мы говорили в восьмой главе. В трудах своего послушания он не искал помощи, но сам с готовностью и усердием спешил на подмогу каждому.
Он весьма отличился в смирении, самообуздании, нищете, набожности и человеколюбии — добродетелях, коими он широкими шагами шёл по пути совершенства, пока не стяжал венец славы, который Бог и явил брату Алонсо. Все почитали его за святого, и потому после его смерти один знатный кавалер испросил тот Часослов Пресвятой Девы, о котором мы говорили, и хранил его как реликвию.
Другой брат, о котором, как я обещал, пойдёт речь в этой главе, жил позднее. Он скончался за два года до брата Алонсо, и звали его Марко Антонио Пучдорфила; происходил он из знатного рода королевства Майорки. В пору цветущей юности божественный призыв к иночеству прозвучал в его душе столь властно, что, дабы открыть себе путь в Общество, он, не колеблясь, снова сел за школьную скамью, которую покинул уже много лет назад. С таким рвением он принялся за учение, что вскоре достиг познаний, достаточных для вступления в орден, а дабы ускорить его, он решил отправиться на поиски провинциала. Отец его прилагал чрезвычайные усилия, чтобы воспрепятствовать его намерениям, прибегая даже к помощи вице-короля. Но из всех этих испытаний юноша вышел победителем.
Он был принят в Общество. Пройдя новициат, где он служил всем великим примером, брат Марко вернулся, чтобы продолжить учение в той же Майоркской коллегии, где в самом начале курса свободных искусств и окончилась его жизнь. Во время последней болезни его терзали приступы мнительности, от которых он страдал всё время своего пребывания в ордене, но столь великою чистотой сияла его совесть, что он не осмеливался просить Бога, дабы Тот избавил его от них в смертный час. И потому после соборования он спросил духовника, может ли он, не опасаясь впасть в грех самолюбия, попросить брата Алонсо Родригеса помолиться Господу нашему, дабы Он избавил его от этих мучений. Духовник отвечал, что да. Брат так и поступил и этим средством обрёл такой великий мир и безмятежность, что умер с улыбкой на устах.
Настоятели распорядились, чтобы брат Алонсо не отходил от его изголовья в смертный час, что и было исполнено. А сколь важным оказалось это распоряжение, стало видно из последствий, ибо вскоре после того, как юноша испустил дух, Господь наш явил его брату Алонсо в великой славе на небесах. Видение это, по словам брата, продлилось около часа, и он заметил, что усопший взирал на него с радостным ликом, давая понять, что они скоро снова будут вместе. Те, кто знал этого доброго брата, и видел, с какой поспешностью он старался стяжать заслуги, не усомнятся, что столь блаженная кончина стала достойным венцом его благочестивой и примерной жизни.
При кончине дона Хуана Вильярагута-и-Санса, вице-короля Майорки, брат Алонсо удостоился другой милости, о которой также не следует умалчивать. Сей кавалер был одарён всеми качествами, коих требует столь высокая должность, в особенности же христианским благочестием, справедливостью и прозорливостью, коими он и снискал благоволение и любовь как высших сословий, так и простого люда. Так что, когда он занемог болезнью, от которой и умер, во всех церквях и монастырях возносились многочисленные моления о его здравии. В нашей коллегии к тому чувствовали особое побуждение по причине тех милостей и покровительства, которые он всегда оказывал Обществу.
Более же всего он общался с братом Алонсо, к которому и супруга его, вице-королева, питала великое почтение, а потому неустанно просила отца-ректора, дабы тот повелел брату Алонсо взять на себя попечение о здоровье и жизни её мужа. Он так и поступил и, дабы вернее достичь желаемого, избрал своей заступницей Деву, Владычицу нашу, Которой несколько дней усердно молился о здравии болящего. Подвизаясь в том, он был удостоен великого восхищения духа и узрел в присутствии Девы вице-короля, почившего, в Её объятиях, и услышал слова: «Я беру на Своё попечение того, кого ты Мне вверяешь».
Он не понял тогда, что речь идёт о жизни доброго кавалера, ибо Господь наш не открыл ему этого. Но из последствий стало ясно, что обещание касалось не телесного здравия, ибо от той болезни он умер, — на что и указывало то, что он видел его усопшим, — но здравия и жизни души. Кончина его была весьма христианской, после многих и жесточайших болей, перенесённых с полным смирением перед волей Божией. По всему королевству возносились о нём усердные заупокойные молитвы, а потому можно питать благочестивую надежду, что ради общего сего моления по заступничеству Девы, взявшей его под Свой покров, и по прошениям брата Алонсо душа его вскоре обрела вечный покой.
Незадолго до кончины брата Марко Антонио Пучдорфилы, о которой мы только что поведали, и спустя много времени после смерти вице-короля, произошёл один случай, касающийся событий в обители, который по причине глубоко поучительного смысла, заключённого в нём, я счёл бы упущением со своей стороны не описать.
Однажды после полудня брат Алонсо прогуливался по плоской кровле коллегии, на что имел особое позволение от настоятелей. Пребывая, по своему обыкновению, в глубоком созерцании, он увидел, как с запада приближается густая туча, полная бесов, которые с великим шумом и криками, строя ему рожи и насмехаясь, кричали: «Не помешаешь ты нам теперь, старый нечестивец, и не поможет тебе твоя Мария! У нас есть дозволение опустошить всю округу, так что не останется на ней и зелёного листа, а уж тем более в винограднике коллегии!»
Брат укрылся в галереях или верхних капеллах церкви, куда выходила дверь с кровли. Он молил Господа и Деву, Матерь Его, дабы они укротили этих свирепых зверей и не позволили им совершить то зло, которое они замышляли. И получил он ответ, что ущерб будет не велик, но большая его часть придётся на владения коллегии по причине малого упования ректора на Божие провидение, в чьих руках и находится пропитание иноков.
Он тотчас отправился к духовному наставнику и поведал ему о том, что видел, попросив сохранить всё в тайне. И в то самое время, как он говорил это, на наши виноградники обрушилась полоса града, или, как его называют, сухого камня, столь сильного, что менее чем за четверть часа он уничтожил весь урожай винограда, который обещал быть весьма обильным. Притом не только не собрали урожая в тот год, но, по мирскому рассуждению, говорили, что не соберут и в последующие два. Однако Богу было угодно, чтобы на следующий год виноградник принёс много плода, что произошло, без сомнения, по молитвам брата Алонсо, который просил Господа нашего отвести длань карающую, ибо наказанием этим настоятель достаточно вразумился. Богу угодны сердца дерзновенные, и весьма скорбит Он, когда служители Его не уповают на Него, как о том ясно свидетельствуют примеры в обоих Заветах.
Последняя милость и сверхъестественный дар, о которых нам известно из времени, непосредственно предшествовавшего последней болезни и смерти досточтимого брата Алонсо, таковы. Однажды, размышляя в своём уединении о несказанных утехах славы и вечного блаженства, коих он вскоре надеялся удостоиться по заслугам Иисуса Христа и заступничеству Его Матери, он восхитился духом, как и в другие разы, на небеса и предстал пред сими державными Владыками и Царями вышних чертогов. Сын и Матерь приняли его с изъявлениями ликования и радости, а дабы оказать ему ещё большую честь, взяв его с двух сторон под руки, провели по улицам и площадям того небесного Града и сказали ему, что скоро он станет его жителем и обитателем. Они воодушевили его с радостью нести тяготы болезни и нападения невидимых врагов, которые вскоре обрушатся на него с ещё большей яростью.
Наконец, чтобы паче его ободрить, они пожелали явить ему, как после смерти его останки и память о нём будут в великом почитании по всему королевству Майорки. Для этого они показали ему всё королевство, собранное как бы на одной маленькой карте, на которой он единым взором увидел всё, что есть на том златом острове достойного созерцания и восхищения. И, когда он так взирал на открывшееся ему, Бог сказал: «Видишь эту страну, этот город, селения и веси? Знай же, что после смерти ты прославишься в ней,и Моею десницею совершишь многие и великие чудеса».
В десятой главе мы рассказывали об опасном искушении, которое он претерпел по этому поводу. Но здесь он ясно видел, что именно Бог говорил с ним, и ощутил действие благого духа в том, что откровение это вызвало в нём великое смущение и стыд, с которыми он и начал молить Господа нашего не допускать ничего подобного. Наконец, когда ему было сказано, что это произойдёт не раньше, чем после его смерти, он, рассудив, что тогда ему уже не будет грозить опасность тщеславия и он не сможет ни на волос уклониться от божественной воли, успокоился, предоставив всё Божию провидению, коему угодно прославляться во святых Своих.
Впоследствии мы увидим, как исполнилось это откровение и пророчество, и не только на острове Майорка, но и во многих других королевствах, где Господь наш совершил и совершает дивные чудеса по заступничеству Своего раба Алонсо.
В таком чередовании разнообразных небесных даров, бесовских нападений, земных тягот телесных и душевных провёл брат наш Алонсо Родригес годы с 1610 по 1616. С наступлением же 1617 года, ставшего последним в его жизни, святого свалил с ног целый сонм болезней и недугов, и столь велики были его боли, что едва ли нашлась бы в теле его частица, не терзаемая своим, особым страданием. Давая по послушанию отчёт о своих немощах, он говорил, что страдает от болей в желудке, почках, от камней, от болей в боку и в ногах, которыми даже двинуть не мог и которые служили ему лишь источником жесточайшей муки. В иные дни его терзала лихорадка, в другие — оставляла, но и тогда, когда её не было, боли не утихали, так что лекари пребывали в растерянности и признавались, что не понимают причин его болезни.
Тех, кого Бог особенно возлюбил, Он желает видеть мучениками любви; а потому, когда недостаёт меча тиранского, Он часто надолго укладывает их на одр мучений, дабы они, и не приняв удара от варвара и еретика, обрели случай увенчать чело своё венцом. Так поступил Он и со Своим рабом Алонсо, в особенности же в последний год его жизни, а о терпении и мужестве, с коими тот переносил страдания, можно судить по тому, сколь пламенно он желал их.
Несколько дней он страдал от бессонницы из-за сильной головной боли, что на него нашла. В это время его пришли навестить братья-студенты, и один из них, с которым он общался более доверительно, спросил, как ему спалось.
«Четверть часа я проспал, — отвечал тот, — и уже сокрушаюсь о том, ибо всё это время я не страдал».
На следующий день, когда представился удобный случай поговорить о стяжании заслуг через тяготы, он добавил:
«Знаю я одного человека, который много дней не мог уснуть, а после проспал четверть часа, и было ему открыто, что за эту четверть часа он лишился заслуги¹. О, братья! Какое же великое благо для человека или вовсе не спать, или, и заснув, претерпевать великие муки и добровольно их принимать ради любви к Богу, дабы не лишиться заслуги, сего блага несравненного!»
При этом присутствовал и тот брат, что накануне спрашивал его, может ли он уснуть, и ясно понял, что пламенный страдалец говорил о себе самом.
Бесы, всю жизнь столь жестоко его преследовавшие, не ослабили рвения и в это время; напротив, видя, что срок их власти истекает, они удвоили натиск, направив его уже не на тело, как прежде, терзая его муками, но на разум, силясь помрачить его и исторгнуть из души хоть малейшее проявление нетерпения или отчаяния.
В январе 1617 года, в тот самый год, когда он преставился, его охватило тягчайшее искушение отчаянием, мучительное не столько само по себе, сколько из-за страха впасть в какой-либо грех. Он пытался возвысить душу и укрепить её светлой надеждой, опирающейся на Божие милосердие и на благие обетования тем, кто желает откликнуться на божественный призыв. Но печальные помыслы, словно назойливые мухи, возвращались, терзая его. Тогда он возвёл очи к небу, где чаял единственного прибежища, и молил Того, Кто один лишь мог исцелить его, дабы Он лучом Своего света разогнал тьму, рассеял тучи и вернул его душе желанную безмятежность и ясный день. Господь не замедлил утешить раба Своего, ибо тотчас послышался голос, сказавший духам ужаса, что одолевали его: «Что вы делаете?»2. С этими словами они оставили его, и искушение прекратилось.
В пору сей последней болезни стала одолевать его также крайняя рассеянность и такое беспамятство, что он забывал даже молитвы. К этому присоединилась и страшная духовная сухость и безутешная тоска. Зрелище это вызывало глубокое сострадание и жалость: видеть столь великого раба Божия в таком беспамятстве, что он не мог вымолвить и «Отче наш», и в такой сухости, что ему едва хватало духу вознести сердце к Богу. Он знал, откуда исходит это зло, и что всё это — козни диавола, желающего его погубить; старался одолеть его, много смиряясь пред Господом нашим и пред людьми; просил братьев читать ему вслух некоторые стихи из псалмов Давидовых и краткие изречения св. Августина, и те, кто навещал его, исполняли его просьбу, чем и ободряли его терпеливо переносить эту сухость и забвение.
После этого испытания враг напал на него с другим — с приступом мнительности, который, по причине его особого целомудрия, поверг его в жесточайшее смятение. Страдая от недержания, он, повинуясь естественной реакции на боль, иногда руками придерживал страждущую часть тела. Размышляя после о содеянном, он дал диаволу повод для нового нападения: враг так усугубил в его помыслах этот случай, что душевная мука от страха, не осквернил ли он себя грехом и не впадёт ли в него вновь, если телесная боль не утихнет, стала для него невыносимее самого недуга.
Эти два испытания: духовное, состоявшее в мнительности и сухости, и телесное, состоявшее в болезни и страданиях, — разжигаемые дыханием злого духа, причиняли ему такую муку, что силы его были на исходе. Но Бог, готовя его к венцу мученика любви и чистоты, всё это предвидел, а потому подоспел со Своей помощью и поддержкой в самый нужный час. Иисус и Мария явились ему, войдя в его келью в сияющих одеждах, и провели с ним час, утешая его Своим присутствием и словами великой нежности и любви, ободряя его в страданиях и обещая, что отныне всегда будут рядом, готовые прийти на помощь во всякой его нужде.
И обещание это исполнилось: как он сам позже поведал настоятелю, Господь явил ему такую милость, что с той поры, стоило ему лишь мысленно воззвать к Пресвятой Деве или Её Сыну, как он тотчас ощущал Их присутствие. Отец, которому он исповедовал это, клятвенно подтверждает сие такими словами:
«Утешения, говорил он, были соразмерны мукам и страданиям. И притом утверждал, что стоило ему лишь возвести очи к Иисусу и Марии, как Они тотчас представали пред ним; и всякий раз, когда он желал уединиться в молитве и попросить Их о чём-либо, Они оказывались готовы помочь ему, в особенности же — Владычица наша; и о чём бы он ни просил, всё получало благое разрешение. И вот, когда он давал мне отчёт о совести и говорил об этих милостях и дарах, которые получал с небес, в особенности же от Девы, сказал с полными слёз глазами: "Вот, вот я чувствую Её милости, вот Она грядёт, вот Она грядёт!" И тогда я вышел из кельи, дабы не лишать его сего великого посещения, которому, будь я там, я, без сомнения, помешал бы».
Это случилось в апреле. С той поры болезнь его с каждым мгновением становилась тяжелее, но столь необычным образом, что приводила в замешательство тех, кто за ним ухаживал. В иные дни его терзал жестокий жар, и боли были острейшими; в другие же — ни жара, ни сильных болей он не ощущал, и никто не знал, чему приписать такую переменчивость и непостоянство.
Пять месяцев он провёл в таком состоянии, пребывая в полном внутреннем согласии с волей Божией. После посещения Иисуса и Марии к нему вернулись и память, и прежнее его благоговение и сердечное умиление. А потому он творил свои благочестивые упражнения и предавался молитве с тем же усердием, словно был здоров. Он исповедовался и причащался трижды в неделю, и Господь наш устроил так, что за всё время этой долгой болезни с ним не случилось ничего, что могло бы помешать этому святому правилу. Напротив, заметили, что в то самое время, когда он не мог и пошевелиться в постели от тяжких болей, — в особенности же в последние три месяца, когда он всё время лежал на одном боку, — в час причастия у него всегда находились силы и бодрость, чтобы собраться с духом и благоговейно принять Святейшее Тело Господне, когда ему оное преподавали.
Другие же заметили, что всякий раз, когда к постели Алонсо подходил настоятель или священник, чтобы поговорить с ним, брат снимал с головы свой чепец или полотняную шапочку, являя и в этом совершенное соблюдение Устава, которое предписывает тем, кто не имеет сана, снимать головной убор перед священниками.
Когда его оставляли одного, он вслух разговаривал с Богом, ведя с Ним нежные беседы. Например, он молвил: «Больше болей, Господи, больше, но и больше любви, больше терпения в них»3. В присутствии же других он восполнял это своё рвение внутренними изъявлениями [любви, веры, надежды и сокрушения], прося, чтобы ему читали из его тетрадей или из другой благочестивой книги какой-либо духовный отрывок. Так он проводил время в благом делании, никогда не отступая от общения с Господом нашим и от пребывания в Его присутствии.
За восемь дней до смерти ему сообщили от имени настоятеля, что, кажется, пришло время принять Последнее помазание. Он отвечал, что да, хотя по лицу его было видно, что он ещё не находится при последнем издыхании. Он исповедался, дабы лучше приготовиться к принятию этой последней духовной помощи, и отвечал священнику со спокойствием, словно не его, а кого-то другого готовили к соборованию. Брат-больничник же окольными путями выведал у него, что он умрёт через восемь дней. И хотя никто не осмелился спросить его об этом прямо, он весьма огорчился, отвергнув это как искушение диавольское, и с той поры так замкнулся в себе, что не пожелал даже проститься с теми, кто с такой любовью за ним ухаживал. Всю жизнь он шёл царским путём смирения, умерщвления плоти и презрения к себе и не захотел сойти с него в час, когда это было важнее всего.
Преуспев, таким образом, во всех добродетелях, вооружившись всем оружием, которое Церковь предлагает верным для предостережения и защиты в смертной брани, и по соборовании причастившись ещё дважды, он в последний раз — за три дня до кончины, — внезапно ощутил, как все боли оставили его. Лик его сделался прекраснее и благолепнее, чем когда-либо, а чувства словно замерли, и он не подавал признака, что слышит, сколь бы громко к нему ни обращались. Глаза его по большей части были сомкнуты; если же он порой и открывал их, то во взоре его светились радость и духовное ликование. Пульс его не менялся, напротив, казался сильнее.
Почитается за несомненное, и так судили все, кто тогда при нём находился, что всё это время он пребывал в дивном восхищении духа, вкушая небесные услады и милости, согласно обещанию Божию утешить его в смертный час. Ибо святым душам преподносится особый дар: когда Господь призывает их от трудов и горестей этой жизни к вечному покою, они издалека ощущают благоухание цветущего виноградника Райского. «Виноградные лозы в цвету, издают благовоние» (Песн. 2:13). «Встань, возлюбленная моя... и приди!» (Песн. 2:13). Издали они прозревают торжествующий град Небесного Иерусалима и радостно приветствуют его как конец и цель своего странствия, к которому они направляли стопы свои с первого дня своего подвизания: «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле» (Евр. 11:13). Потому-то святые обыкновенно удостаиваются восхищений, видений или высочайших утешений в час своей кончины, что и подтверждает папа святой Григорий в четвёртой книге своих «Диалогов».
Таково было и восхищение нашего досточтимого брата, продлившееся три полных дня, до [самой агонии, начавшейся] тридцатого октября, около полуночи. Тогда, словно пробуждённый голосами и кликами Небесного Жениха: «Ecce Sponsus venit» («Вот, жених идёт» — Мф. 25:6), он очнулся, и сладчайшее имя «Иисус» было на устах его.
Внезапно боли, дотоле сдерживаемые, обрушились на него и, судя по его лику, стали терзать его с новой силой. Грудь его вздымалась, а пульс угасал, и все ясно поняли, что пробил час, когда святая душа эта, освободившись из скорбной темницы сего мира, должна была воспарить в чертог своего Жениха.
По коллегии пронёсся слух: «Святой умирает!» Иноки сбежались, не по долгу послушания, но по велению сердца, и почтенные отцы почитали за великое счастье присутствовать при его кончине. Они возлагали на его шею и руки свои чётки и иными способами свидетельствовали о том, как высоко почитали его святость.
Около получаса блаженный страдалец боролся с предсмертными хрипами и муками. Наконец он открыл глаза, которые всё это время держал сомкнутыми, и окинул предстоящих взором, исполненным такого необычайного благоволения и радости, что присутствовавшие не находили слов, дабы описать то духовное утешение, которое принёс им этот взгляд. Затем он снова обратил взор к чтимому образу Распятого Христа, который держал в руках, и, склонившись, дабы облобызать его, и произнеся громким и протяжным голосом сладчайшее имя «Иисус», предал душу Ему — Иисусу, Создателю своему.
Свершилось же сие, едва начался тридцать первый день октября тысяча шестьсот семнадцатого года, на восемьдесят седьмом году, в третий месяц и пятый день его жизни, в канун Дня Всех Святых, в чьём обществе ему и предстояло вкусить награду за свои подвижнические труды.
Почитали за особую милость Господню, дарованную ему во время трёхдневного восхищения, то, что он скончался в столь великих муках, — дабы тот, кто при жизни так сердечно обнимал Крест, и в смерти не разлучился с ним.
Лик его по кончине стал прекраснее и благолепнее, нежели при жизни, а тело обрело мягкость и податливость. Рост он имел средний, хотя в старости так сутулился, что казался коротышкой; был сухощав, смуглолиц, с обширной плешью и морщинистым челом. Уголки больших глаз его постоянно краснели от неустанного плача, а небольшой рот в старости несколько искривился, не теряя, впрочем, своего благообразия.
Выражение же лица его отличалось столь особой скромностью, что, когда я увидел его впервые, оно показалось мне отмеченным признаками святости, ибо, с одной стороны, говорило о великой глубине и собранности душевных сил, а с другой — являло великую радость и внутреннее ликование. После кончины и трёхдневного восхищения лицо его стало ещё белее и прекраснее прежнего. И поскольку в то время один живописец написал его портрет с натуры, то копии, сделанные с этого портрета, несколько отличаются от тех, что были написаны ранее; однако в целом все портреты этого святого, что я видел, весьма схожи, и по ним хорошо видно, что лик его был ликом святого. То же самое всегда было заметно и во всей его внешности. Ибо поступки и даже черты лица человека суть речь, возвещающая о том, что сокрыто в его душе.
_____
¹ Заслуга (лат. meritum) — в католическом богословии это понятие обозначает не внешнюю награду, а сверхъестественную ценность добрых дел, совершённых человеком в состоянии благодати и при содействии Святого Духа. Согласно учению, сформулированному, в частности, на Тридентском соборе, человек сам по себе не может «заслужить» спасение. Однако, будучи оправданным первоначальной благодатью, он, сотрудничая с ней, своими последующими делами может истинно заслужить (mereri) приумножение благодати, вечную жизнь и саму славу этой вечной жизни. Таким образом, «заслуга» — это не человеческое достижение, а плод синергии божественной благодати и свободной воли человека. В контексте жития, скорбь св. Алонсо о «потерянной заслуге» — это не сожаление об упущенной «награде», а скорбь об утраченной возможности проявить свою любовь к Богу через страдание, глубже соединиться с Ним и, следовательно, возрасти в святости и любви (caritas). Каждая минута страдания, принятого с любовью, становилась для него драгоценным деянием, преображающим душу и приближающим ко Христу.
2 Просматривается аллюзия как на евангельское повествование об укрощении бури (ср. Мк. 4:39; Мф. 8:26), так и на знаменитую сцену из «Энеиды» Вергилия (I, 135), где Нептун, разгневанный штормом, устроенным без его ведома, усмиряет ветры не досказанной до конца угрозой: «Quos ego—!» («Я вас—!»).
3 Ср. восклицание св. Филиппа Нери: «Adauge dolorem, sed adauge patientiam!»
Святой брат испустил дух между полуночью и часом ночи. Остаток ночи ушёл на то, чтобы приготовить тело в его же келье, что располагалось на нижнем полуэтаже, как бы в гостиной, где его и положили в тот самый гроб, в котором его и предстояло нести к месту погребения. Едва рассвело и настал день, предшествующий празднику Всех Святых, как по всему городу мгновенно разнеслась весть о кончине раба Божия Алонсо. И все, движимые неким тайным и необычайным порывом духа (верным залогом вечного блаженства, коим уже наслаждалась его чистейшая душа), устремились в коллегию, дабы почтить святые останки, хотя никто никого и не звал.
Королевский прокурор, исполнявший обязанности вице-короля, члены церковного и городского капитулов, иноки, кавалеры и великое множество простого люда наполнили в то утро обитель. Среди прочих пришёл один клирик, с которым, к великому благу его души, произошёл примечательный случай. Ему показалось нехорошо, что священники преклоняют колени, дабы облобызать руку брата-мирянина. С другой стороны, видя, что так поступают все, кто туда приходит: иноки, пребендарии и люди почтенные, — он опасался прослыть чудаком, если не последует общему примеру. Он решил исполнить внешний обряд благочестия, преклонив колени, чтобы облобызать не руки святого, а распятье, которое усопший держал в них. Но, склонив голову, дабы так и поступить, он получил от Господа нашего вразумление, что смиренное благочестие не умаляет высоты священнического сана, и что почтение, оказываемое досточтимому брату, весьма Ему угодно.
Святой предстал ему окружённый сиянием, убогое его облачение преобразилось в наряд, что богаче парчи, а лик его, живой и радостный, с кроткой улыбкой и укорял, и одновременно пленял его, так что клирик тот уже почёл бы за великое счастье обратиться в прах у стоп сего праведника. Он внезапно испытал такое преображение и исполнился такого благоговения и любви к святому, что уже не мог отойти от него, покуда его не погребли. И даже после того лучшим временем для него стало то, что он проводил на коленях у его гробницы, где и повелел увековечить память об этом видении, изобразив его на доске. Важнейшим же плодом сего видения стала перемена жизни, которую явил этот священник, ибо с той поры он подвизался, стремясь к духовному сосредоточению.
В то же утро с одной знатной дамой, почитавшей брата, случилось другое примечательное событие. Находясь в своей постели, она ощутила необычайное беспокойство, не дававшее ей покоя. Поспешно встав и отворив окно, выходившее на коллегию Общества, она увидела над ней в воздухе великую ясность и сияние, словно от ярких разноцветных огней. Прочее же небо было тёмным, ибо ещё не рассвело. Изумлённая этим явлением, она позвала свою служанку, и когда они обе взирали на этот свет, то услышали на улице голоса, возвещавшие, что брат Алонсо Родригес скончался. И они уверились, что увиденное ими было знамением, которым Бог пожелал явить им ту славу, с которой его блаженная душа взошла на небо.
В час пополудни, дабы успокоить народ, толпами стекавшийся к нашей коллегии, и исполнить просьбы женщин, которые настоятельно того требовали, пришлось вынести блаженное тело в церковь. Там был устроен помост, покрытый траурной тканью, на который и возложили покойного на его же одре. Вокруг поставили множество больших свечей, которые прислали для этого благочестивые люди. Несколько отцов остались караулить при нём, и благодаря этому, а также тому, что помост был высок, удалось уберечь одеяние святого от народа, который мог бы разорвать его на части.
Монашеские ордена приходили в полном составе, а от кафедрального собора — капитул и всё духовенство. И те, и другие пели заупокойные молитвы. Явились также королевский прокурор (исполнявший, как я уже говорил, обязанности вице-короля), и магистраты, и местная знать, дабы присутствовать при погребении. Начались заупокойные службы, а пока они пелись, со всех сторон церкви на отцов, стоявших на страже у тела, летели связки чёток, лент, мерок и кусков ткани, дабы они приложили их к святому. И было их такое множество, что отцы не справлялись, и на помощь им взошли два почтенных отца из ордена св. Доминика, и всем им пришлось немало потрудиться. Господь наш, видя веру одних и других, содействовал ей, сотворив некоторые чудеса.
У Франсины Сауры, жены Лоренсо Мартина, был десятимесячный сын, столь тяжело страдавший от воспаления, поразившего его глаза, что не мог выносить и света свечи. Днями и ночами он плакал, постоянно закрывая глазки ручками. К нему применяли сильные средства, и уже собирались делать прижигание на затылке, дабы отвести жидкость. Узнав, что «Святой с горы Сион»¹ (так в том городе называют брата Алонсо, по имени нашей коллегии) скончался, мать с искренней верою в милость, которую явит ей Бог, поспешила с сыном в церковь. Она передала его одному из отцов, что находились там, дабы тот поднёс его к святому телу. И произошло нечто сверхъестественное: едва больные глазки младенца прикоснулись к рукам святого, как тотчас исцелились. Так засвидетельствовала мать, когда, приняв его на руки и увидев радостным, с ясными, сухими, немигающими глазами, возгласила о чуде и призвала в свидетели всех, кто не понаслышке знал о его болезни.
В спешке, когда передавали туда и обратно чётки и прочие вещи, которые народ кидал инокам, чтобы те приложили их к святому, опрокинулся большой подсвечник с зажжённой свечой и упал в толпу: свеча — одному на лицо, а подсвечник — другому на голову. Но, призвав на помощь святого, оба остались совершенно невредимы. Это сочли за чудо, в особенности же когда позднее заметили, что, несмотря на столь великое стечение народа и чрезвычайную давку, не случилось ни одного несчастья, и из многих тысяч чёток и кусков ткани, что в тот вечер бросили к святым останкам, ни одни, насколько известно, не пропали и не были подменены.
Одна молодая вдова, терзаемая некими искушениями, к коим её склонял нрав, жила в великом беспокойстве, ибо, с одной стороны, она не желала оскорблять Господа, а с другой — не могла до конца превозмочь себя. В день погребения брата Алонсо она с великим рвением стала просить Бога о помощи, призывая заступничество его слуги. И столь сильна была эта молитва, что она тотчас почувствовала в себе перемену. Год спустя, свидетельствуя о случившемся, она утверждала, что за всё это время её не только не беспокоили искушения, мучившие её прежде, но что, помимо здравия духовного, она обрела и телесное, исцелившись от неких желудочных недугов, которыми всегда страдала.
Была уже ночь, когда закончились заупокойные службы. Один из отцов взошёл на кафедру, дабы произнести краткую проповедь и распустить народ, но ничего не помогало. Попытались было перенести святого к месту временного упокоения, но и это оказалось невозможным. Весьма примечательно было то, что за всё время службы и проповеди ни один человек в церкви не осмелился покрыть голову перед телом раба Божия. И хотя церковь была переполнена народом, тишина и благоговение царили необычайные. Было объявлено, что погребения в ту ночь не будет, а когда показалось, что народ несколько рассеялся, тело внезапно унесли и заперли в ризнице коллегии. Пробило уже девять часов вечера, а многие всё ещё упорствовали. Наконец, видя, что отцы непреклонны, им пришлось разойтись.
Избавившись, наконец, от напора навязчивой народной набожности, наши отцы посовещались и решили похоронить святого, дабы избежать ещё больших изъявлений почтения, которые, как им казалось, не соответствовали благоговейной скромности и тишине. С великой нежностью простившись наедине с досточтимым братом и с упованием, что увидят его после во славе на небесах, они положили его в деревянный гроб и незадолго до полуночи отнесли к месту погребения. Это был небольшой склеп в полу, с евангельской стороны алтаря, в капелле Владычицы нашей, Которую он так глубоко почитал и Чьей милости так часто удостаивался.
И в ту же ночь явлена была чудотворная сила десницы Господней. Антонина Сосиас, девятимесячная дочь Себастьяна Сосиаса и Марианы Сеги, уже восемь дней страдала от тифа, и тело её было усеяно красными пятнами. В горле у неё была какая-то опухоль, которая, сдавив его подобно удавке, не давала девочке проглотить ни капли молока. Её уже почитали умершей. Бабка её была в нашей церкви в тот вечер погребения и унесла оттуда кусок ткани, приложенный к досточтимым останкам. Видя, что девочка находится в столь очевидной опасности, она повязала ей на шею эту ткань и с горячей верой призвала брата Алонсо. В тот же миг девочка успокоилась, проспала всю ночь, а наутро её нашли без единого пятнышка и без жара, совершенно здоровой, что и подтвердили под присягой её родители и многие свидетели.
Габриэль Хеновард, семимесячный младенец, страдал от грыжи с самого рождения. Отец его раздобыл кусочек рясы досточтимого брата и повязку, приложенную к его лицу, и убедил жену обвязать ею младенца. Она так и сделала и положила кусочек рясы на опухоль. Богу было угодно, чтобы два дня спустя, сняв повязки, они нашли его совершенно здоровым. Мать позвала мужа и соседей, которые, увидев чудо, восхвалили Бога. Мать, для вящей уверенности, захотела снова перевязать младенца, но тому тотчас стало хуже, и, осмотрев его, они обнаружили, что опухоль возвращается. «Что ты наделала? — сказал муж. — Сними эти повязки, ибо святой, который его исцелил, не желает, чтобы ты прибегала к иным средствам». Она так и поступила, и с той поры младенец остался совершенно здоров. Истинность этого случая подтверждена под присягой многими свидетелями в ходе процесса о жизни и чудесах досточтимого брата.
В пятницу утром состоялись заупокойные службы при великом стечении народа, церковных и светских властей, знати и простолюдинов. Служили наши отцы, а по окончании мессы на кафедру взошёл отец Хуан Торренс, который был наиболее близок к святому, будучи его настоятелем и духовным наставником. За полтора часа он поведал многое из того, о чём уже рассказано в этом житии, и речь его была принята слушателями с заметным одобрением. Вокруг катафалка горело множество светильников, присланных из благочестивого рвения знатными особами.
Заметил это один кавалер из тех, что пришли на заупокойную службу, и, сочтя, что поступит нехорошо, если не последует примеру прочих, послал своего слугу принести большую свечу или хотя бы среднюю – что скорее найдётся2. Большой свечи сыскать не удалось, и потому слуга взял у торговца средней толщины свечу с уговором, что, после того как она погорит на службе, он вернёт её, заплатив за убыль. Свеча горела более трёх часов, и убавилось от неё немало. Однако, когда пришло время её взвесить, торговец, как ни старался, не смог обнаружить разницы в весе и на пол-унции, что было ничтожно мало в сравнении с тем, сколько воска должно было сгореть. И потому, сочтя это за чудо, он отпустил слугу, а господин его, по собственным его словам, остался в смущении, полагая, что брат не захотел принять от него столь убогого приношения.
Среди прочих, пришедших послушать похвальное слово святому, была одна женщина, у которой племянник обманом похитил и скрыл бумаги, доказывавшие её правоту в тяжбе, которую он с ней вёл. По этой причине она питала к нему такую ненависть, что не могла его видеть, аж кровь в ней закипала. Долгое время она не исповедовалась, ибо, как только пыталась заговорить об этом, пламень ненависти разгорался в ней ещё горячее, и, не находя исцеления, она постоянно ходила словно сама не своя. Оказавшись на заупокойной службе по досточтимому брату и слушая проповедь в его честь, она исполнилась великого упования, что его заступничеством сможет вырваться из когтей льва, державшего её так крепко. Она стала просить Господа нашего по заслугам его слуги даровать ей благодать, дабы она смогла победить эту страсть и со спокойной душой приступить к исповеди. Божественная благость услышала её, ибо в тот же день она смогла испытать совесть, а на следующий — исповедоваться к великому утешению своей души. Она простила племянника и от всего сердца забыла обиду, так что та уже не причиняла ей никакой муки. Несколько раз она приходила к гробнице святого с благодарностью и, получив кусочек его одеяния, с великим утешением отправилась в свой дом, находившийся в селении за пределами города Майорки.
Другая женщина уже много лет вела жизнь возмутительную и греховную, и душа её, как и у вышеупомянутой женщины, также была опутана сетями греха. Она осознавала свою погибель, гнушалась своей низости, и порок был ей горек, но при всём том не могла оставить его, почитая для своей немощи невозможным при жизни освободиться от сих тяжких цепей, и потому много раз желала себе смерти. В этой скорби она и пришла на заупокойную службу по досточтимому брату. Слыша, как проповедуют о его великих добродетелях, она воодушевилась и от всего сердца стала молить Господа, дабы Он, ради Своего слуги Алонсо, вызволил её из той опасности, в которой она пребывала. Ей показалось, что в тот же миг она ощутила в душе некий свет и твёрдую уверенность в исцелении. С другой стороны, она не знала, как это может произойти, ибо сама была слаба, да и не в её власти было расстаться с человеком, с которым она греховно сожительствовала. Она снова воззвала к Богу через заступничество святого брата, и снова в сердце её зазвучало уверение, что исцеление несомненно достижимо.
С этим недоумением она и вернулась домой, где и узнала, что в то самое утро без всякой видимой причины тот, кто был узами её души и тираном её свободы, сел на корабль и покинул страну. Она изумилась столь могучему средству, коим Бог разорвал узы диавола, и восхвалила своего освободителя за столь явную милость. С той поры она стала служить Богу с великим усердием, совершила исповедь за всю свою жизнь, предалась делам милосердия, молитвам и покаянным подвигам, в которых и пребывала долгое время к назиданию всех свидетелей её обращения.
_____
¹ Гора Сион (Monte Sion) — так называлась Майоркская коллегия Общества Иисуса, где подвизался св. Алонсо.
¹ В тексте упоминаются три разных типа свечей. Светильники (исп. luzes) — это общий термин для источников света, в данном случае, вероятно, множество обычных свечей либо лампадок. «Большая свеча» (исп. hacha) — это очень крупная, часто четырёхугольная восковая свеча с четырьмя фитилями, похожая на факел, которую использовали на торжественных процессиях. «Средняя» (исп. cirio) — также довольно крупная церемониальная свеча, но, как правило, стандартного размера, в отличие от hacha.
Спустя несколько дней после заупокойных служб Господу нашему было угодно явить и другие дивные знамения к великой славе слуги Его. Первое случилось в одно из воскресений ноября, последовавшего за кончиной святого, а произошло это так.
Из нашей коллегии с великой поспешностью вызвали духовника одной сеньоры, по имени Антония Бланкер, в исцелении которой лекари уже отчаялись, а потому велели как можно скорее преподать ей Таинства, ибо она уже находилась при смерти от кровотечения. Поскольку память о кончине досточтимого брата и о чудесах, которые Бог творил по его заступничеству, была ещё весьма свежа, священник взял с собой кусочек его одеяния с намерением приложить его к больной, причём был так уверен, что она исцелится по его предстательству, будто уже видел это воочию.
Он застал её в беспамятстве, на руках у шести или семи женщин, которые различными средствами пытались привести её в чувство. Когда больная очнулась, отец остался с ней наедине, дабы её исповедать, но столь велика была её немощь, что, прежде чем он смог уделить ей отпущение, она снова лишилась чувств, и пришлось позвать людей, чтобы они привели её в себя, что и было сделано. Тогда отец, вложив ей в руки кусочек одеяния досточтимого брата, который принёс с собой, увещевал её просить Бога об исцелении по его заступничеству. Она так и сделала, и в тот же миг боли и кровотечение прекратились, и она с великой радостью молвила: «Я уже здорова».
Женщины, находившиеся там, не поверили ей, и одна из них, опасаясь, не пустое ли это мечтание о здоровье и не обман ли диавольский, сказала ей: «На небесах, сеньора, мы все будем здоровы». — «Это так, — отвечала больная, — но не думайте, что я брежу. Я здорова, и мне лучше, чем когда-либо. Брат Алонсо Родригес даровал мне здоровье».
Она тотчас исповедалась, а на следующий день самостоятельно пришла в нашу церковь, чтобы причаститься. Лекари были изумлены, утверждая, что это явное чудо, и как о таковом о нём было получено свидетельство от восьми очевидцев.
В ту же ночь блаженный брат пожелал навестить ту, которую исцелил. Он явился ей, когда она спала, в таком виде: брат шёл рядом с Девой, Владычицей нашей, и Она сияла, как солнце, и лик Её был весьма кроток. Брат Алонсо от пояса и выше был облачён в белую, как снег, одежду, а главу его венчали лучи света, и на конце каждого из них сияла звезда. Он взирал на сеньору с ликом радостным и улыбался, словно поздравляя её с обретённым здоровьем. Она, исполнившись радости, стала звать святого: «Брат, брат!» — таким громким голосом, что разбудила другую женщину, спавшую поблизости. Та прибежала посмотреть, не нужно ли чего, но, едва вошла в комнату, видение исчезло, а добрая сеньора осталась, говоря: «Да простит вам Бог, я не вас звала, а вы, придя, лишили меня величайшего блага, какое только было у меня в этой жизни».
Другоe исцеление и явление, не менее чудесное, явил Господь, призрев на благочестие и простоту одного мальчика ради его бедной матери. Звали её Ана Фигерола. Она страдала от постоянной лихорадки, с приступами и тяжкими осложнениями: отсутствием аппетита, головной болью и постоянной слабостью. Будучи бедна, она лечилась у одного врача заочно1. Тот велел ей трижды пустить кровь и прописал другие средства, но толку в том не было никакого, и женщина уже прощалась с жизнью. Её пришла навестить сестра, которая и посоветовала ей молить о помощи и заступничестве брата Алонсо Родригеса, который незадолго до того чудесным образом даровал здоровье сеньоре Бланкер, и рассказала ей о том чуде.
Воодушевлённая этим, больная велела Хуану Фигероле, своему сыну, мальчику лет десяти, пойти от её имени к гробнице блаженного брата, благоговейно прочитать перед ней розарий, а после приложить его к надгробной плите и вернуть ей. Мальчик в точности исполнил всё, как велела ему мать. Та с глубочайшим благоговением взяла розарий и возложила его на голову, где боль ощущалась сильнее всего, от всего сердца призывая святого. В тот же миг она почувствовала такое облегчение, что сказала сестре, будто ей кажется, что она уже ничем не больна.
Наступила ночь, а набожная женщина не переставала молить святого сжалиться над её детьми, которые, без сомнения, будут много страдать, если она их покинет. И ей явился святой, облачённый в одеяние Общества. И хотя в комнате не было иного света, от рук его исходило такое сияние, что оно наполнило всё вокруг ясностью и блеском. Больная была в полном сознании и без всякого смятения, с глазами, полными слёз, сказала: «О, святой брат, смертью и Страстями Христовыми молю тебя, испроси мне здоровья, чтобы я могла содержать этих созданий», — указывая на троих детей, что лежали с нею в постели. Досточтимый брат взглянул на неё с радостным ликом и склонил голову, словно даруя милость, и с этим исчез, оставив женщину в великом утешении.
Тотчас на неё снизошёл мирный сон, продлившийся до самого утра. Проснувшись, она не обнаружила ни следа лихорадки и почувствовала себя так хорошо, что попросила одежду, чтобы встать. Она оделась, чувствуя в себе такую крепость, словно никогда и не болела, и, в подражание тёще святого Петра, тотчас принялась за домашние дела. Пришёл её сосед и крёстный отец, по имени Николас Леон (тот самый, что передавал сведения лекарю), дабы узнать, как она провела ночь. И когда он застал её за работой и узнал о случившемся, то восхвалил Бога за столь великое чудо.
Третьего дня следующего месяца, декабря, Каталина Феррер родила дочь с короткой уздечкой и другим недугом, который в тех краях называют «ранула»2, и никто не решался её лечить. Девочка была в таком жутком состоянии от недостатка питания, что ей оставалось лишь испустить дух. Мать дала обет отмолить новенну досточтимому брату, если он избавит её дочь от этого недуга. Было это ранним вечером, и девочка тотчас уснула и провела всю ночь в великом спокойствии. Утром ей попытались влить в рот с помощью рожка немного молока и заметили, что она сосёт. Мать дала ей грудь и обнаружила, что та совершенно здорова. И так она пошла исполнить свой обет, в сопровождении мужа и дочери, и все они хвалили Бога за то, как Он прославил Своего раба.
Франсина Алемань, жена Антонио Хинарда, писца, два месяца страдала от недуга в груди, которая распухла и стала твёрдой, как камень. Многие средства к сему применяли, но пользы они не приносили. Муж её глубоко почитал блаженного брата и в день погребения раздобыл кусочек его рясы, который и дал жене, дабы она хранила его как реликвию. Та же не питала к нему такого благоговения и, хотя муж и просил её, не придавала значения совету приложить к себе реликвию. Бог попустил, чтобы болезнь стала хуже, а боли так усилились, что ей пришлось прибегнуть к помощи святого. Она взяла кусочек его рясы и, приложив к груди, сказала: «Теперь посмотрим, так ли свят брат Алонсо Родригес, как говорят. Если он избавит меня от этой болячки, то не останется сомнений». Она начала читать ему «Отче наш» и, не успев закончить, почувствовала, как нарыв прорвался и вышло великое множество гноя, и боль тотчас оставила её, и в течение двух дней она совершенно исцелилась, так что с тех пор могла кормить грудью своего сына. И в знак новообретённого благоговения к брату она отслужила ему новенну и заказала мессу у его гробницы.
Педро Мулет, купец, с детства питавший великое почтение к брату Алонсо, рассказывает, что, когда он в то время был уже при смерти, ему дали кусочек одеяния святого, с которым он тотчас смог обрести покой. И во сне явился ему досточтимый брат, и одним своим присутствием даровал ему совершенное здравие, и напомнил о том набожном правиле в честь Девы, Владычицы нашей, которому научил его тридцать лет назад, когда тот был ещё маленьким школьником.
Все эти чудеса касаются телесного здравия, которое обрели сии люди по предстательству досточтимого брата. Но в то же самое время случались и другие, касавшиеся здравия в жизни духовной, что имеет несравненно большее значение и более соответствует той пламенной ревности, которую досточтимый брат питал о спасении и духовном преуспеянии ближних.
Две бедные девицы, дочери восьмидесятилетней вдовы, подобно почтительным аистам3, трудом рук своих содержали свою мать. Сами они жили в благочестивом уединении и желали того же для старушки, ибо им казалось, что та, несмотря на свои преклонные лета, жила в неподобающем забвении о вечной жизни. Они пытались сами и через некоторых иноков убедить её чаще приступать к Таинствам, а та не хотела и приходила в ярость, когда с ней заговаривали об исповеди. Тогда они прибегли к заступничеству брата Алонсо и решили отчитать ему новенну, дабы он умягчил сердце их матери. И едва они начали, как старушка переменилась и велела позвать одного из отцов Общества, которому и принесла исповедь, и с тех пор исповедовалась каждые восемь дней, пока несколько месяцев спустя счастливо не окончила свой земной путь, к чрезвычайному утешению благочестивых дочерей.
Одна миловидная женщина пришла в дом некоего кавалера, дабы взыскать с него долг. Тот хитростью завлёк её в покой и открыл ей свой дурной умысел. Женщина, видя опасность, воззвала к Богу через заступничество брата Алонсо и дала обет девять дней подряд посещать его гробницу и заказать там заупокойную мессу, если он вызволит её невредимой из рук этого нечестивца. В тот же миг в дом кавалера наведался некий влиятельный человек, который понудил его выйти, а вслед за ним выскользнула и женщина, оставив его в дураках. Она же прямиком отправилась воздать благодарение Богу у гробницы брата и исполнила свой обет.
Другая замужняя женщина имела весьма распутного мужа, которого многими способами пыталась обратить на путь истинный. Наконец она прибегла к заступничеству святого брата, вознеся у его гробницы пламенную молитву об обращении мужа. Вернувшись домой, она застала супруга с розарием в руках, чего не видала уже много лет. Он поведал ей, как Господь преобразил его душу и вселил в него твёрдую решимость служить Ему, после чего немедля отправился в коллегию Общества на исповедь и с тех пор часто исповедовался, упражняясь и в других делах милосердия и благочестия.
Один наш инок, много раз слыхавший, как слуга Божий превозносил сокровища страдания и говорил, что праведникам невозможно избежать тягот в этой жизни, сказал ему однажды: «Не знаю, брат, что и сказать о тяготах. Я, по благости Божией, весьма желаю служить Ему, а Он никогда не посылает мне тягот. Напротив, сама иноческая жизнь, для других трудная, мне кажется мирной, и ни в одном послушании я не нахожу ничего неприятного. Что же будет со мной?» Брат отвечал: «Скоро Он пошлёт их вам, не беспокойтесь». Пророчество исполнилось, ибо немного времени спустя на инока обрушились такие испытания, что потребовались вся его крепость и терпение, чтобы их перенести. Но если телесные тяготы ещё можно было стерпеть, то душевные мучили его до крайности. И были это столь докучливые плотские искушения, что ни днём, ни ночью он не знавал покоя, и никакие средства — ни молитвы, ни покаянные подвиги, ни умерщвление плоти — ни на волос не облегчали их. И так он страдал и внутренне, и внешне.
Брат Алонсо, в святости которого он был глубоко убеждён, ибо, ухаживая за ним в послушании больничника, смог ближе с ним познакомиться и лучше понаблюдать за его жизнью, к тому времени уже скончался. И вот, инок прибег к его заступничеству, опоясавшись верёвочкой, которую много раз видел в руках святого. И этого средства оказалось достаточно, чтобы искушение отступило и более не возвращалось.
_____
1 В оригинале — por relación (букв. «по рассказу», «по сообщению»). Это означает, что лекарь не осматривал больную лично, а ставил диагноз и назначал лечение на основании устного описания симптомов, которое ему передавал посредник (в данном случае, как выясняется далее, сосед больной). Это была распространённая практика для лечения неимущих, которые не могли оплатить визит врача и подробное обследование (напр., анализ мочи).
2 Ранула (от лат. ranula — «лягушечка») — ретенционная киста подъязычной слюнной железы, которая выглядит как просвечивающий пузырь под языком, напоминающий горло лягушки. В XVII веке это состояние, мешающее младенцу сосать, часто было смертельным.
3 Это классический образ, восходящий к античности. В Древней Греции и Риме было широко распространено поверье, что аисты не только заботятся о своих птенцах, но и, когда их родители стареют и слабеют, кормят их и носят на своих крыльях. Благодаря этому поверью аист стал общепринятым символом сыновней (или дочерней) любви и благочестивой заботы о престарелых родителях.
Благодаря этим и другим чудесам, которые Господь наш сотворил по заслугам возлюбленного слуги Своего Алонсо в первые месяцы после его погребения, благоговение к нему в душах всех людей возросло до дивных пределов. Народ стекался молиться и заказывать мессы в капелле, где находилась его гробница. В час опасности присылали свечи, дабы они горели там. Постоянно читали новенны, а стены капеллы стали заполняться вотивными дарами и дощечками с изображениями совершившихся чудес.
Отсюда и родилось у многих желание, чтобы портрет блаженного брата был выставлен для всеобщего обозрения над местом его погребения. Об этом просили люди почтенные, утверждая, что неразумно пренебрегать общим чаянием всего города. Но, видя, что наши отцы всё ещё проявляют нерешительность, они обратились с представлением к Его Преосвященству о. бр. Симону Баусе из ордена Проповедников, епископу Майорки. Он, удостоверившись в чрезвычайном совершенстве и святости досточтимого брата Алонсо Родригеса и разузнав о чудесах, которые Бог творил через него, счёл за благо дать испрашиваемое позволение.
С этим позволением доктора Педро Онофре Вери и Херонимо Дескальяр, каноники святой Майоркской церкви, в сопровождении нескольких кавалеров, почитавших святого брата, и поместили его прижизненный портрет в упомянутом месте, когда ещё не исполнилось и шести месяцев со дня его блаженной кончины.
Действие это было встречено с одобрением, сообразным чаянию народа, чьё благоговение от этого весьма возросло. В те первые времена портрет и гробница обыкновенно бывали обложены цветами и ветвями, которые присылали больные, дабы после унести их в свои дома и этим средством обрести здоровье, ведь происходило много чудес, которые продолжались и после, и Бог на много ладов прославлял слугу Своего. Самым частым чудом было благополучное разрешение от бремени, ибо, помимо того, что было сказано выше в двадцать четвёртой главе о крестнице Алонсо, установили, что в течение двух лет от платка, которым было покрыто лицо святого после кончины, а также от его чёток и других его вещей, явилось более ста чудес.
Особенно же следует упомянуть одно, случившееся с Маргаритой Пучеруэр-и-Компиньи, у которой младенец лежал поперёк, так что уже показались ручка и плечико, а у матери было так мало сил, что ей уже велели принять Последнее помазание. Послали в коллегию Общества за «реликвией» (как они это называют) святого. Пришёл один из отцов и принёс несколько его волосков и молитву, написанную его рукой; приложил их к больной, и в тот же миг она разрешилась мёртвым младенцем, а сама обрела чувства, которых уж было лишилась, и в скором времени совершенно поправилась.
И к детям, уже родившимся, блаженный брат являл не меньшую милость, нежели к роженицам. У Аны Бланки-и-Авилы был шестилетний сын, весьма страдавший от последствий падения. Отец его, будучи цирюльником, испробовал многие средства, но совершенно бесплодно. Ребёнок дошёл до такой крайности, что мать, хоть и хотела бы сходить в церковь Общества, дабы помолиться за чадо своё над гробницей досточтимого брата, не осмеливалась этого сделать, опасаясь, что мальчик умрёт, пока она будет в церкви. Но, уповая на святого, она в конце концов решилась. Сотворив молитву и вернувшись домой, Ана обнаружила, что сын [в её отсутствие] не умер, как она боялась, а встал с постели и оделся, а ей сказал, что уже здоров.
Я опускаю другие исцеления такого рода, ибо чудеса, явленные на младенцах, не всегда почитаются столь же убедительными, как те, что происходят со взрослыми, а потому из многих чудес, что последовали в 1618 и 1619 годах, то есть вскоре по кончине святого, приведу здесь два или три примера, дабы показать, что и люди в зрелом возрасте обретали исцеление по его молитвам.
Донья Херонима Верард страдала от опухоли на ноге, которая весьма мучила её ежевесенне. И вот весною 1618 года лекарь велел ей пустить большое количество крови. Добрая сеньора убоялась и, вспомнив, что хранит как реликвию платок, который лежал на теле досточтимого брата, достала его из шкатулки, весьма уповая, что и без иного средства обретёт здоровье. Она, как смогла, преклонила колени перед образом в своей молельне, обернула ногу платком и приступила к молитве, намереваясь прочесть три «Отче наш» и три «Радуйся, Мария». Не успев закончить, она почувствовала, как по всему телу её заструился обильный пот, с которым и ушла боль из ноги, и она осталась совершенно здорова. Она позвала служанок, и не было предела их изумлению. На следующий день пришёл доктор и, увидев, что она ходит без всякого затруднения, и услышав о случившемся, сказал, что это — явное чудо. Подтверждением тому послужила и следующая весна, когда болезнь не вернулась. Этим же платком исцелился от злокачественной лихорадки и племянник той же сеньоры.
Не менее чудесным сочли и исцеление Гильермо Абри-Дескатлара, знатного и состоятельного местного кавалера. После долгой болезни, насморков и мокрот на него нашла сильная лихорадка с обмороками, лишавшими его чувств. Лекари отчаялись и сказали жене, в какой великой опасности находится её муж. И когда та предавалась скорби, к ней подошла одна благочестивая женщина из челяди и стала увещевать её призвать на помощь досточтимого брата Алонсо Родригеса. Обе они начали новенну, обещая мессу и вотивный дар на его гробницу. Они возложили на больного чепец, или полотняную шапочку, принадлежавшую святому брату, и в тот же миг он открыл глаза, хотя большую часть дня держал их закрытыми, попросил есть, хорошо поел, ещё лучше отдохнул, немного пропотел и очнулся без всякой лихорадки. Осмотрев его наутро, лекари подтвердили, что он здоров и невредим. Для дочери этого же кавалера святой брат сотворил другое чудо, которое я опускаю ради краткости.
И раз уж мы рассказываем о чудесах попарно, как Бог творил их в некоторых знатных домах города Майорки, поведаю также и о том, что случилось в доме Габриэля Феррагуда, знатного горожанина. Занемог его старший сын, которого терзали мучительные колики в боку, сопровождавшаяся расстройством желудка. Мать, сам больной и его брат-каноник дали обет посетить гробницу досточтимого брата, отслужить там мессу и пожертвовать серебряную вотивную дощечку, если он дарует ему здоровье. Господь наш весьма скоро даровал его, и они, уразумев, что это произошло по заступничеству святого, с великим благоговением исполнили свой обет. Немного времени спустя занемогла сестра того юноши — трёхдневной лихорадкой с рвотой. Она прибегла к заступнику своего брата, дала тот же обет и обрела ту же милость — желанное исцеление.
Одна бедная девица, восемь месяцев страдавшая от недуга, поразившего её руку, пришла к гробнице святого и стала просить его об исцелении, почитая это почти своим правом, ибо по бедности своей не могла оплатить лечение. Она возложила на надгробную плиту кусок шерстяной ткани и, сотворив молитву, обернула им больную руку. В тот же миг она почувствовала облегчение, а немного спустя — и полное исцеление, так что снова могла работать этой рукой, как и прежде.
Другая женщина после болезни внезапно лишилась слуха, так что, придя в церковь на проповедь, не смогла расслышать ни единого слова. Она пошла к гробнице досточтимого брата и, увидев, что на его портрете изображена и Дева, Владычица наша, Которую она почитала своей заступницей, с великим упованием стала молить Её, дабы Она, по предстательству благочестивого слуги Своего Алонсо Родригеса, даровала ей здравие. Женщина дала обет прочитать новенну и отправилась домой. И едва она переступила порог, как расслышала, что говорят её дети, а затем стала различать и другие звуки, и постепенно к великой своей радости совершенно исцелилась.
Однажды утром Херонима Суньер, благочестивая девица, возвращалась домой из нашей церкви, где исповедалась и вверила себя заступничеству святого брата Алонсо в его капелле, ибо почитала его при жизни, а по кончине — и того более. На улице она заметила ехавшую за ней повозку, но, полагая, что возница свернёт в другую сторону, беззаботно продолжала свой путь. Вдруг она услышала крики и, обернувшись, увидела, что повозка уже надвигается на неё, и положение её было столь безнадёжно, что одна из мулиц уже наступила на подол её платья. Не видя иного спасения, она бросилась на землю и, обратившись всем сердцем к своему заступнику, воскликнула: «Святой блаженный, помоги мне! Не могу я погибнуть в таком злосчастии, ведь нынче я вверила себя в твои руки и просила тебя о защите!» Эти слова она произнесла, падая, и тотчас узрела несомненное спасение: явился ей блаженный брат, ободряя и утешая её, и, дабы окончательно её успокоить, встал у самой её головы, которой и грозила наибольшая опасность. И в тот же миг, посреди смертельной опасности, душа её преисполнилась дивного утешения и обрела чувство незыблемого покоя. Одно колесо проехало по её одеждам, хотя, судя по тому, как она упала, должно было переехать ей ноги; другое же лишь задело шляпу, подвязанную тесёмками. Сбежался народ, чтобы поднять девушку, ожидая увидеть её мёртвой, но нашли её целой и невредимой, без единой царапины. В итоге ни мулы не наступили на неё, ни колёса не причинили ей вреда. Её стали расспрашивать, какое такое доброе дело она совершила в тот день и какой ангел её хранил. Она же отвечала, что вверила себя брату Алонсо, выслушала три мессы в его капелле, и что это он избавил её от столь явной смертельной опасности. Это славное чудо произошло 21 января 1620 года.
Годом ранее, 30 декабря, с террасы высотой в двенадцать вар¹ упал Бальтасар Пучдорфила. Мать его, вдова, всю свою любовь обратила на единственного сына, находя в нём отраду и утешение вдовству своему. Увидев его на краю гибели, она сочла его смерть неминуемой, если только не вмешается сверхъестественная сила, прибегла к заступничеству дивного Алонсо и принесла ему обет, и тотчас узрела божественные знаки его предстательства, ибо, хотя мальчик падал вниз головой, неведомая сила повернула его так, что он ударился о землю боком. Мать, вне себя от горя, подбежала к нему и, подхватив на руки, обнаружила, что он цел и невредим, несмотря на то, что упал с такой высоты на камни, которыми была покрыта мостовая. Благодарная за эту милость, она исполнила данный ею обет.
И за пределами Майорки творил и творит Господь наш многие чудеса в честь слуги Своего. В городе Камбре, во Фландрии, весть о его блаженной кончине и чудесах распространилась по случаю пребывания там в должности губернатора Его Превосходительства дона Карлоса Коломы, с доньей Маргаритой Льенкерк, его супругой, и детьми, которые знали святого на Майорке. Как-то раз, когда несколько солдат из крепости Камбре читали рукописное повествование о добродетелях и чудесах нашего брата, к ним подошёл их товарищ, терзаемый великой скорбью, ибо супруга его почти лишилась рассудка от боли в груди, где образовался страшный нарыв, и даже искусство главного войскового хирурга не принесло ей никакого облегчения. Вернувшись домой, солдат рассказал жене о некоторых чудесах, о которых услышал, и посоветовал ей вверить себя святому и уповать на его заступничество, раз уж на земле она не находит исцеления. Та опустилась на колени и с великим пылом призвала на помощь святого. И едва она это сделала, как боль оставила её, и нарыв в груди рассосался, так что через четыре дня она была совершенно здорова и могла кормить своего младенца.
В Брюсселе, при тамошнем дворе, одна испанская сеньора весьма страдала от злого духа. К ней пришёл один кавалер, также испанец, известный своей добродетелью, и незаметно приложил к ней кусочек рубашки брата Алонсо Родригеса. Примечательны были гримасы и корчи, которые тотчас начал строить демон, жалуясь на этого кавалера. Его спросили, чья это реликвия, и он отвечал, что одного святого, недавно скончавшегося на Майорке, и прибавил много похвал ему. И хотя сеньора не освободилась полностью от того злосчастного духа, который мучил её многие годы, она всё же признавала, что находит большое облегчение в заступничестве святого.
Подобное этому случилось и в селении Фортанете в королевстве Арагон. Один из отцов нашего Общества, совершая экзорцизм над одержимой женщиной, держал в своём бревиарии записочку, на которой было написано имя досточтимого брата. И, не давая ей увидеть букв, он повелел бесу сказать, что содержится в этой записке. Демон с великими ужимками отказывался. Наконец, понуждаемый, он сказал, что это имя брата Алонсо Родригеса, который скончался на Майорке в славе святости и был великим почитателем Девы, весьма много одарённым милостями Её. Отец добавил: «Так вот, его силою ты и выйдешь». Бес горестно взвыл, а немного спустя женщина сказала, что почувствовала облегчение и что по заступничеству святого из неё вышли шесть бесов, и что она желает с великим усердием вверить себя ему, дабы его предстательством совершенно освободиться.
В городе Мурсии в тюрьме находились два майоркских купца, в большой беде и без всякой вины. До их жён дошла весть, что им уже объявлен смертный приговор, который не приведён в исполнение лишь потому, что они подали апелляцию ко двору. Услышав это, одна из упомянутых женщин пошла к гробнице досточтимого брата и дала обет посещать её каждый день, пока её муж не обретёт свободу, а после принести в дар вотивную доску с описанием этого чуда. И пока жена его возносила на Майорке сии молитвы, в темнице города Мурсии обстоятельства так сложились для заключённых майоркинцев (к которым присоединился ещё один заключённый), что им представилась возможность без труда завладеть ночью ключами тюремщика и выбраться на свободу. Решившись на это и вверив своё намерение Богу, они, готовясь к исполнению её, увидели вяхиря, который сел на плечо того из них, кто должен был взять ключи. После этого случая, был ли он случайностью или нет, они сочли своё дело верным. И в ту же ночь, никем не замеченные и не преследуемые, они взяли ключи, отворили двери и скрылись, а в итоге добрались до своих домов в здравии и радости. Своё освобождение они приписали заступничеству слуги Божия Алонсо, и потому поместили у его гробницы изображение чуда, написанное на доске.
_____
¹ Вара (исп. vara) — старинная испанская мера длины, равная примерно 83-84 сантиметрам. Таким образом, высота террасы составляла около 10 метров.
Начнём с настоятелей и иноков Общества, которые знали его ближе всех. Отец Херонимо Рока, провинциал, однажды, собрав отцов, дабы молвить им увещание к иноческому совершенству, сказал им, что обнаружил в провинции инока, которого Бог одарил благодатью не менее, чем святого Франциска Ассизского. Говорил же он это о брате Алонсо, чей отчёт о совести принял на Майорке, посещая ту коллегию.
Отец Антонио Ибаньес, также провинциал и муж выдающегося духа, всё время, что провёл на Майорке, совершая визитацию, всякий раз, когда брат Алонсо, бывший тогда привратником, входил в его покой с каким-либо поручением, вставал и незаметно снимал свой головной убор и так стоял, пока брат говорил с ним. Столь великое почтение смиренный настоятель выказывал своему подчинённому.
Отец Лоренсо Сан-Хуан, достойный причисления к апостольским мужам Арагонского королевства, когда прибыл в качестве визитатора в Майоркскую коллегию, непременно хотел забрать с собой брата Алонсо, дабы, как он говорил, освятить его присутствием другие коллегии и города. И, должно быть, не один этот настоятель желал увезти Алонсо с Майорки, ибо отец-магистр Бартоломе Кок говаривал, что ему многократно стоило немалых трудов воспрепятствовать отъезду брата Алонсо из того королевства, когда настоятели того домогались. Об отношении же к блаженному брату отца Хуана Рико, о чьём великом богоданном просвещении уже шла речь во второй главе, можно судить хотя бы по тому, что он ещё при жизни брата Алонсо почитал за драгоценную реликвию письмо, им собственноручно подписанное.
Слава о святости брата Алонсо была такова, что многие иноки Общества из Арагонской провинции стремились на Майорку, движимые единственным желанием познакомиться с ним. А те, кто непосредственно с ним общался и знал его, имели о нём столь высокое мнение, что с великим усердием старались собрать его волосы, записки, одежду или другие вещи, бывшие в его употреблении, дабы хранить их как реликвии. Они советовались с ним в своих сомнениях, просили его помощи в духовных и телесных трудах. Притом проповедники той коллегии, готовясь к своим миссиям и великопостным поучениям, почитали за лучшее подспорье заручиться молитвами и покаянными подвигами брата Родригеса.
Я спрашивал многих из тех, кто в разное время знал его, о двух вещах. Первое: замечали ли они в нём какое-либо несовершенство? И второе: могли ли они припомнить хотя бы один его поступок, который в тех или иных обстоятельствах не был бы верхом иноческого благоразумия? И все мне отвечали, что нет. То же самое наблюдал и я, а сие тем более примечательно, что за долгие годы жизни в обители, где всякое дело на виду, и малейший изъян не укрылся бы от глаз многих свидетелей.
И отец Мигель Хулиан, его последний ректор, в письме, извещавшем о его блаженной кончине, даёт своё свидетельство, выраженное в сих словах:
«Судя по тому, что я видел за эти годы, общаясь с ним весьма близко, и по тому, что говорят отцы, знавшие его двадцать, и тридцать, и сорок лет, не наблюдалось за ним ничего, что отзывалось бы не то что недостатком или несовершенством, но просто человеческой слабостью. И в каждом его деянии проявлялось такое совершенство, что невозможно было и помыслить о большем, ибо, если бы даже весь мир, вместе с адом, восстал на него, он ни за что не отступился бы от того, что вело к вящему совершенству и славе Божией».
Высокого мнения о святости брата Алонсо придерживались и в других монашеских орденах. Один картезианский священник, муж весьма духовный и великий молитвенник, по имени дон Висенте Мас, о котором уже упоминалось в двадцать третьей главе и о чьей святой жизни и кончине о. бр. Бартоломе Бальперга напечатал сочинение, услышав в своей келье о славе святости брата Алонсо Родригеса, возымел великое желание увидеть его и побеседовать с ним о делах духовных. Он добился этого через посредство одной почтенной особы, которая устроила им встречу в одном из монастырских хозяйств. Они пробыли вместе свыше четырёх часов, и после того, как брат ушёл, тот человек спросил дона Висенте, какого он мнения о брате Алонсо Родригесе. Тот отвечал: «Многое я о нём слышал, но всё это — ничто в сравнении с действительностью. Мне кажется, что нет ныне в мире святого более великого, и если бы настоятель повелел ему идти по водам, он пошёл бы, не потонув».
Магистр бр. Антонио Креус из Ордена проповедников, много лет исполнявший должность инквизитора на Майорке и почитаемый за святого как при жизни, так и по смерти, обыкновенно говорил, когда его навещал кто-либо из наших: «Как поживает тот святой, тот великий брат-привратник вашей коллегии?»
Отец-магистр Рафаэль Сьерра из Ордена францисканцев-обсервантов¹, бывший несколько раз провинциалом своей провинции на Майорке, где его почитали за пророка, притом по смерти Господь прославил его немалыми чудесами, как и отца-магистра Креуса, причислял брата Алонсо к сонму мужей выдающейся святости. Он искал случая побеседовать с ним, а увидав его однажды в своём монастыре, куда тот пришёл, сопровождая одного из отцов, долго взирал на него, а после подошёл поговорить.
Спросив его, откуда гость родом, отец-магистр услышал в ответ от Алонсо: «Отче мой, отечество моё и родина моя — небо (ср. Флп. 3:20), если я туда попаду», — и более ни слова. Немного погодя о. Рафаэль снова спросил святого брата, на этот раз — сколько ему лет. «Отче, — сказал Алонсо, — если бы я служил Богу, то мог бы считать годы. Но я этого не делал, и потому едва ли смогу сказать, сколько мне лет». Тогда о. бр. Сьерра отвёл в сторону того, кто пришёл вместе с братом Алонсо, и, намекая на прославленного святого мирянина своего ордена, сказал: «Вот у вас есть другой брат Эгидий2».
В другой раз тот же отец сказал ему: «Желаю знать, брат Родригес, что бы вы сделали, если бы Бог дал вам на выбор: или тотчас отправиться на небо, или остаться ещё на некоторое время в этом мире?» — «Я, отче, — отвечал брат, — избрал бы исполнить волю Божию». — «А если бы Он предоставил это на ваше усмотрение, дабы вы поступили по своей воле, дав вам полную свободу избрать то, что пожелаете, — что бы вы сделали?» — «Говорю вам, отче, что я не желал бы ничего, кроме воли Божией; ибо это ценнее всего, что может иметь человек на небе, даже если бы он попал туда не по воле Божией». Столь великое назидание почерпнул добрый отец из сей духовной твердости нашего брата, что с тех пор всегда говорил о нём в самых превосходных выражениях.
Святые наделены свыше особой способностью, говорит один замечательный историк нашего времени², узнавать друг друга и видеть души равных себе и красоту божественной благодати в них, как то повествует Сурий о великом Евфимии, а св. Антонин — о св. Екатерине Сиенской.
Перейдём же к тому почтению, которое оказывали брату Алонсо прелаты, государи и другие знатные особы. Святой Патриарх Антиохийский и архиепископ Валенсийский дон Хуан де Рибера, зерцало князей Церкви нашего времени, написал брату Алонсо несколько писем, испрашивая его молитвенной помощи и советов, дабы в совершенстве исполнять пастырское служение, которое Бог ему вверил, и много раз уговаривал настоятелей привезти его в Валенсию, дабы ближе с ним познакомиться. Кардиналы, архиепископы, епископы и инквизиторы, знавшие его или слышавшие о его святости по рассказам людей, достойных доверия, писали ему, прося о том же, о чём и святой Патриарх.
Все вице-короли, бывшие на Майорке в его время, почитали его и вверяли себя его молитвам как святому. А вице-королева донья Хуана Пардо, державшая в своей молельне портрет блаженного брата ещё при жизни его, сказала однажды духовнику, что не может пройти мимо него, не оказав ему почтения, и со смущением призналась, что не чувствует такого благоговения, проходя мимо образов других, уже канонизированных святых.
О вице-короле доне Карлосе Коломе и донье Маргарите Льенкерк, его супруге, уже говорилось в других частях этой истории, что они весьма отличились в своём благоговении и почтении к брату Алонсо. Едва прибыв на Майорку, они вверили ему двух своих старших сыновей, дона Антонио и дона Карлоса, дабы Алонсо ежедневно давал им уроки чтения. Учение это принесло добрые плоды, ибо юноши весьма преуспели не только в чтении и письме, но и в изучении латыни, к которому вскоре приступили, а главное — в добронравии. Старший скончался в первые годы своей юности, служа Королю, нашему государю, в рядах его католического войска в Германии, а его безвременная кончина была оплакана всеми, ибо он был наделён многими дарованиями. Второго же Его Величество уже удостоил титула маркиза, вознаграждая заслуги его родителей. Да будет угодно Господу нашему даровать ему многие блага духовные и временные по заступничеству блаженного брата Алонсо.
Герцогини Гандийская, Фриасская и Ферийская, а также другие знатные сеньоры писали ему из Мадрида, вверяя его молитвам своих детей и свои семейства. Все судьи Королевской Аудиенции и пребендарии Кафедрального собора Майорки, служившие в его время, и те, что застали его кончину, многократно свидетельствовали о великом почтении, которое питали к его святости. Кавалеры и знать, иноки, духовенство и простой люд — все почитали его как святого, все считали за счастье услышать от него хоть слово, все, кто мог, советовались с ним в сомнениях и просили его помощи пред Богом в тяготах. Так прославляет Господь наш смиренных, так превозносит тех, кто усердно вменяет себя в ничто.
Наконец, Святейший Отец наш Папа Урбан VIII, извещённый о редких добродетелях и святой жизни нашего досточтимого брата и о непрестанных чудесах, которые Бог творит через него, желая дать своё окончательное и полное одобрение, то есть причислить его к лику святых, издал в установленной форме рескрипт о его беатификации и канонизации. Рескрипт этот был встречен в 1627 году в королевстве Майорки и в городе Сеговии с великим торжеством и ликованием. А потому уповаем, что Божественная Благость, столь щедрая к рабу Своему при жизни, и по смерти его прославит, явив его всему христианскому миру как святого через Своего Наместника на земле.
В завершение этой главы приведу похвальное слово нашему брату, напечатанное отцом Франсиско Гарсиа дель Валье в первом томе его «Евангельского проповедника». Прославляя в нём город Сеговию за сонм её святых, прелатов, мучеников и доблестных мужей, он заключает свою речь словами, которые, будучи переложены на наше кастильское наречие и составлены в виде эпилога или эпитафии, как доброе завершение этой книги, гласят:
«Ликуй, о древняя Сеговия, ибо к сонму славных сынов твоих причтён Алонсо Родригес, сокровище нашего века, светоч добродетели и дивный чудотворец! Ты дала ему жизнь, Майорка — приют, а Общество Иисуса облекло его в иноческий чин, даровав звание брата-коадъютора. Муж, в божественной премудрости — ученейший доктор, в глазах же своих — лишь прах и пепел. В сыновней любви к Деве — нежнейший Её любимец, в откровениях же — избранник Божий и поверенный тайн. В покаянии и подвиге — подобный древним пустынножителям, в обхождении же и учтивости — изысканный придворный. Благородный отпрыск щедрой земли твоей!»
_____
¹ Францисканцы-обсерванты (de la Observancia) — ветвь францисканского ордена, возникшая в XIV–XV вв. как движение за возвращение к первоначальной строгости устава св. Франциска. Они подчёркивали важность бедности и аскезы.
2 Блаженный Эгидий Ассизский (ок. 1190–1262) — один из первых и самых известных сподвижников св. Франциска Ассизского. Как и Алонсо Родригес, Эгидий был братом-мирянином, а не священником, и именно в этом заключается суть сравнения. Он прославился глубокой, облечённой в простые изречения мудростью и мистическими дарами. Для францисканца, каким был отец Рафаэль Сьерра, сравнить иезуита Алонсо с братом Эгидием — это высшая похвала, подчёркивающая, что святость достигается не учёностью или саном, а смирением и глубочайшим единением с Богом.
3 Мартин де Роа (Martín de Roa, 1559–1637) — плодовитый иезуитский историк и агиограф, современник автора жития. Его труды пользовались большим авторитетом.